После Куликовской битвы. Очерки истории Окско-Донского региона в последней четверти XIV – первой четверти XVI вв. Лаврентьев Александр
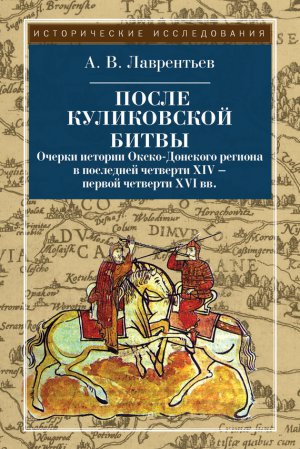
Возвращаясь к вопросу о «литовской Туле» и ее «изъятье» договора 1427 г., заметим, что речь, скорее всего, речь шла не о прямом включении региона в состав Великого княжества Литовского, а о каких-то формах управления ими Витовтом, возможно, взиманием «выхода». Здесь стоит обратить внимание на, во-первых, пограничное положение «Тулы» относительно Литвы и, во-вторых, историческую традицию государственной принадлежности региона.
Рязанское княжение обособилось от Черниговского в середине XII в., и граница между княжествами прошла, как полагают, между древнерусским городом Дедославлем (современное с. Дедилово Киреевского района), оставшимся черниговским, и рязанским Пронском в среднем течении Прони[856]. Если последнее справедливо, то «Тула» должна была остаться в составе Черниговского княжения.
С распадом после монгольского нашествия Черниговского княжества на самостоятельные уделы началась долгая борьба Литвы и Москвы за включение их в орбиту своего влияния. К 1362 г. Чернигово-Северские земли вошли в состав Великого княжества Литовского, крайние границы которого на востоке достигли верхнего течения притока Дона, р. Быстрой Сосны[857].
Возможно, до «ведения» «места Тулы» баскаками, предположительно имевшего место во второй половине 50-х гг. XIV в. и упомянутого в московско-рязанского договоре 1381 г., территория продолжала оставаться черниговской. При Витовте, в 20-х гг. XV в. исторические претензии Литвы на бывшие черниговские земли могли как-то реализоваться в литовско-рязанских отношениях, как были реализованы претензии на «чернокунные», некогда смоленские, волости Новгорода. Как помним, и числившиеся среди рязанских владений по договору 1427 г. земли Волконского удела также принадлежали одной из ветвей потомков черниговских Рюриковичей.
С этой точки зрения «Тула» была таким же историческим пограничьем с Литвой, как описанные в «Списке крепостей и земель» 1432 г. новгородские Ржева и Великие Луки, псковский Воронач, верхневолжская Ржева. Сложнее всего сказать, где была в первой трети XV в. эта граница, в нашем случае граница не только Рязани, но и владений Рюриковичей с литовскими Гедиминовичами.
Короткое «розмирье» великого князя московского Василия Дмитриевича с тестем, Витовтом, ознаменовалось в 1406 г. вооруженным противостоянием на левом притоке Упы, р. Плаве: «князь великы Василеи Дмитриевич… посла воевати земли Литовьские… поиде на Витовта и пришед ста на Плаве… а Витовт со своею силою…ста на Пашьковои гати, и стоявшее немного, раззидошася вземше перемирье до того же году»[858]. Судя по всему, «перемирье» состоялось еще и потому, что ни одна из сторон конфликта не пересекла некий рубеж, понимаемый как пограничье. Так или иначе, он должен был проходить немного западнее р. Упы, в среднем течении которой располагалась «Тула», и Плава, очевидно как-то соотносилась в это время с литовско-рязанским пограничьем[859].
Не менее сложно определить и литовское понимание «рубежа». С литовской стороны за ситуацией в пограничном регионе следил великокняжеский наместник, с начала XV в. сидевший в пограничных крепостях, Любутске и Мценске[860].Опираясь на его сообщения о «великих шкодах», творимых рязанцами в пограничных литовских землях «украинникам нашим», король Казимир IV отправил в 1456 г. к великому князю Ивану Федоровичу в Рязань с посольством В. Хрептовича список претензий к рязанской стороне[861].
Документ не содержит никакой географической конкретики относительно пограничья, нарушаемого рязанцами, но констатирует важный его элемент, наличие «старины» в понимании рубежей между Литовой и Рязанью, «бо мы в твою отчину, и земли, и въ воды не велим вступатися, где кому изъдавна вступа не было». Следовательно, рубеж проходил восточнее литовских на тот момент Любутска и Мценска. В поземельных документах сопредельных с литовскими рязанских земель, данных от имени князя Федора Васильевича не позднее 1503 г. (в этом году он скончался), фигурирует некий «любутский рубеж»[862], возможно, старое литовско-рязанское пограничье.
Таким образом, нет особых оснований считать «Тулу» с сопредельной территорией литовско-рязанского договора 1427 г. и «Списка» Свидригайло Ольгердовича 1432 г. входящей в это время в состав Великого княжества Литовского. Тем более, что и далекие наследники Витовта продолжали считать «Тулу город со всеми выходы и даньми» своей, как например, Сигизмунд IV, получивший в 1506–1507 гг. на нее, в составе литовских земель, уже цитированный ранее ярлык от крымского хана[863].
Что же представляла собой «место Тула» великокняжеских договоров XIV–XV вв.?
В историографии вопрос об этом не ставился, и только относительно «Тулы» докончания 1381 г. неоднократно высказывалось предположение о том, что это был город[864], к которому уже в XIV в. примыкал «значительный район»[865].
«Тула» докончания Дмитрия Ивановича Московского и Олега Ивановича Рязанского характеризуется договаривающимися сторонамина не как «город», а как «место», то есть определенная территория[866]. В договорных грамотах XIV в. «место» в соединении с топонимами встречается всего дважды, это «Заберега с месты» и «Лопастеньские места» духовной великого князя московского Ивана Ивановича (ок. 1358 г.)[867]. Первая, в написании «Заберег» числится в духовной старшего брата московского князя, Семена Ивановича (1353 г.) среди «сел», в духовной же сына Ивана Ивановича, великого князя Дмитрия Ивановича значится среди «волостей» («волость отъездная»)[868]. «Лопастеньские места» духовной великого князя Ивана Ивановича – левобережная часть волости «Лопастна», отделенная Окой от административного центра на правом берегу реки[869].
Скорее всего, «место Тула» московско-рязанского договора 1381 г., как и в вышеприведенных случаях, означает не столько конкретный населенный пункт, сколько территорию – волость с неким административным центром, безусловно, к моменту заключения договора уже существовавшим.
Стоит обратить внимание на тот факт, что самостоятельный топоним «Тула» присутствует только в договоре 1381 г. В последующих московско-рязанских договорах, 1402, 1434 и 1447 гг. «Тула» более не «место», а к топониму прибавляется еще один, «Берести (Берестии, Берестеи)», очевидно составляющее с «Тулой» определенное территориальное и административное единство[870]. Высказывалось мнение, впрочем ничем не подкрепленное, о соответствии его с. Берещено под современным г. Чернь[871], расположенным много южнее Тулы. Соединение в текстах докончаний топонимов через предлог «и» скорее говорит о географической близости объектов.
С некоторой долей вероятности можно предположить, что на территории «Тулы» вблизи соименного административного центра в какой-то момент появился второй, вследствие чего «место Тула» докончания 1381 г. эволюционировало в «Тулу и Берести» XV в.
Между 1447 г., когда было заключено последнее московско-рязанское соглашение, упоминающее «Тулу», и началом XVI в. источники никаких сведений о «Туле» не содержат, но в исходе первого десятилетия топоним опять появляется, уже в летописях и разрядных книгах, и это теперь совершенно определенный тип поселения, «град на Туле».
Градостроительная история Тульского кремля в свое время была подробнейшим образом проанализирована В. В. Косточкиным, однако с главным выводом автора, о том, укрепления изначально ставились в смешанной технике, из кирпича и дерева, основано на единичном и, похоже, недостоверном известии одного позднего летописца[872].
Летописные известия четко показывают, что строился «град на Туле» в два этапа, «град древян» ставили в 1509–1510 гг.[873], «град камен» «поставиша» в 1519–1520 гг.[874] Ряд летописей относительно последней даты употребляет глагол «свершиша» то есть «закончили».[875] Вполне логичным представляется, что деревянные укрепления вполне могли быть возведены за один сезон, относительно же каменных стен в летописи попала только дата завершения их строительства. С этой точки зрения уникальное известие одной из летописей, «поставиша город на Туле деревян, а на пятое лето камен»[876], дает дату начала строительства каменного кремля «на Туле», 1513–1514 г.
Стоит также подчеркнуть, что ни одно из летописных известий не содержит месяца начала строительства, и деревянных, и каменных стен, что делает невозможным, в силу бытования в России этого времени сентябрьского годового счисления, сведения датировки к одному году[877].
Возведение стен и башен из белого камня и кирпича заняло пять – шесть лет. Срок строительства представляется вполне правдоподобным. Почти одновременно с Тулой и в близких инженерно-технических параметрах и архитектурных формах в Росси ставились еще две каменных крепости южных границ Великого княжества Московского, кремли Коломны и Зарайска. Первый «почат делати» в 1524 г. а завершен в 1531 г.[878], то есть возводился шесть – семь лет, как и Тула. Второй, первоначально «град на Осетре камен», самый маленький из кремлей, ставился три года, межу 1528 и 1531 гг.[879]
Похоже, назначением первого, быстро возведенного деревянного «града на Туле» было служить укрепленным плацдармом для выдвигавшихся «на Поле» за Оку полков «берегового разряда» вооруженных сил Русского государства XVI в. Только около времени завершения строительства каменного кремля Тула обрела статус города с собственным гарнизоном, и в нее стал назначаться воевода (первым в этом чине «на Туле» разрядные книги фиксируют в 1527 г. князя Ф. Хрипунова[880]). Таким образом, речь надо вести не только об укреплении обороноспособности крепости с появлением каменного кремля, но и о повышении статуса «крепости на Туле».
Территория будущего Тульского уезда, «Тула и Берести» великокняжеских договорных грамот, как помним, в результате «купли» великого князя Василия Васильевича вошла в состав владений московских князей много ранее всего рязанского удела. Само Великое княжество Рязанское, пребывая к этому моменту уже более столетия под прямым патронатом Москвы, продолжало сохранять формальную независимость вплоть до 1521 г. «Крепость на Туле», и деревянная, и каменная в период строительства, возводилась в то время, когда продолжало действовать положение московско-рязанского договора 1483 г. о совместном «ведении» рубежа по р. Мече, возлагавшее на великих князей обязанности по совместной обороне южных границ от татарских набегов. Не исключено, что на начальном этапе истории «крепости Тула» последняя была также одним из элементов этой совместной обороны.
Воинские формирования великого князя московского начали регулярно выдвигаться «на Тулу» с весны 1513 г.[881] Это был «береговой разряд» из пяти полков, обычно стоявший по крепостям левого берега Оки с весны до осени и по мере необходимости выдвигавшийся за реку, «на поле». В 1513–1514[882] и 1515–1516 гг.[883] такая необходимость диктовалась военными действиями в Литве, в 1517 – «для крымского царя приходу»[884].
Понятно, что в деревянной «крепости Тула» наверняка постоянно присутствовал какой-то воинский контингент, а в 1519 г. здесь даже держали военнопленных, «одиннатцать человек татар»[885], но, повторимся, не было ни городового воеводы, ни, соответственно, руководимого им гарнизона. С этой точки зрения показательна ситуация 1514 г., когда возвращавшееся из Турции посольство, в связи с трудностями перехода через степи, вынужденно задержалось на Усмани, послав в Москву гонца за помощью. Царская грамота об оказании помощи дипломатам была отправлена в Рязань с князем С. Ф. Курбским, которому надлежало, прибыв в город, «обсылатися» с первым воеводой «берегового разряда» князем А. В. Ростовским, «будет на Коломне, и ему (С. Ф. Курбскому. – А. Л.) на Коломну, а будет на Туле, и ему на Тулу»[886].
Проще говоря, в уже существующий «града на Туле» в этот момент еще не назначалось административное лицо ранга воеводы, а руководство крепостью осуществлял первый воевода «берегового разряда».
Кроме полков «берегового разряда» защита Тулы до 1521 г. осуществлялась силами вассалов великого князя московского. Сохранился летописный рассказ о нападении татар в 1513 г. «на Тулу, на Безпуту и на Олексинские места» и их дальнейшем разгроме силами полков под предводительством воевод «берегового разряда», князей В. С. Одоевского и И. М. Воротынского, которые «послаша наперед себя… детей боярских многих со многими людми, Ивашку Тутыхина да Волконских князей»[887]. Последние – вассалы московского и рязанского князей.
«Ивашка Тутыхин» – И. Ф. Сумбул-Тутыхин, боярин последнего великого князя рязанского Ивана Ивановича[888], и ранее не раз «по слову» московского князя водивший полки великого князя рязанского в походы на татар и Литву. «Волконские князья» – двое из трех братьев, Дмитрий (Митяй) и Ипат Потул Васильевичи, служившие в это время брату великого князя московского Василия III, удельному верейскому князю Андрею Ивановичу по завещанию отца, великого князя московского Ивана III, «благословленному» в 1504 г. Волконой[889]. Очевидно, в 1513 г. «Волконские князья» командовали отрядами своего московского суверена, князя Андрея Ивановича. Впрочем, в «счетном» местническом деле второй половины XVI в. князя Ф. Ф. Волконского есть отсылка к «службам» его предков 1519 г., когда «Ивашко Тутыхин, да Митя да Потул Волконские» были «на Туле» уже при великокняжеских воеводах, князе Ю. В. Ушатом и В. Григорьеве[890].
Время вхождения Волконы в состав владений князей московского дома неизвестно. Как помним, по московско-рязанскому договору 1483 г. западная половина рязанского удела отошла к Москве, и в ее состав должна была входить и «Тула» с Волконой. Если высказанные выше предположения о службе не позднее 1427 г. кого-то из Болконских князей великому князю рязанскому Ивану Федоровичу верны, удельные земли последних, во всяком случае «Спаши – Испаши» и часть Гордеева за р. Колодной, вошли около середины XV в. в состав Великого княжества Московского вместе с западной половиной Рязанского княжества.
Что же касается собственно Волконы, то Москва владела ею уже не позже 1491 г. В этом году московские власти, из опасения занести «болесть» (в Крыму бушевала эпидемия), вынуждены были задержать ханских послов, следовавших в Москву, за Окой, «на Волконе», где дипломаты провели более полугода[891].
Ранее уже приходилось ссылаться на наблюдение А. А. Зимина, обратившего в свое время внимание на существование неписаного правила в отношениях между московскими великими князьями и служившими им удельными князьями, по которому последние обязывались принимать участие только в тех войнах, которые затрагивали их непосредственные интересы как формальных держателей определенных территорий[892]. Московская «Тула» примыкала как непосредственно к территории Великого княжества Рязанского, так и к уделу Андрея Ивановича, бывшие же владения Болконских князей просто оказались в зоне вооруженного конфликта, что и определило участие бывших вотчинников в обороне Тулы.
Итак, строительство «крепости на Туле» стало важнейшей вехой в истории региона. Как же соотносятся «Тула» договорных грамот последней четверти XIV – первой половины XV вв. и «крепость на Туле» летописей первой четверти XVI в.?
Наиболее вероятным «претендентом» на звание административного центра «Тулы» великокняжеских договоров остается городище XII–XIV вв. у с. Торхово в десяти километрах от современной Тулы, с обширным посадом, в окрестностях которого выявлено большое количество сельских поселений того же времени. В пользу ее идентификации с «Тулой» договоров XIV–XV вв. говорит, в том числе, и единственный случай наименования последней в договоре 1402 г. не «Тула», а «Тулцы». Топоним, как видим, имеет здесь окончание множественного числа, городище же располагается на двух реках бассейна Упы, правом притоке, Тулице, при впадении в другой Тулицы, Синей[893]. Собственно «Тулцы» может быть понято как гидронимическая отсылка к двум соименным рекам Тулицам в месте их слияния[894]. Заметим также, что крепость 1-й четверти XVI в. в летописях именуется «град на Туле» то есть город, поставленный на территории «Тулы» договорных грамот, но не на месте какого-то иного соименного центра.
В литературе давно присутствует мнение, что «град на Туле», крепость эпохи великого князя московского Василия III, располагающаяся в 10–12 км. от Торховского городища, предполагаемого административного центра «места Тулы» XIV–XV вв., ставилась на месте какого-то древнерусского поселения, следы которого были уничтожены в ходе строительства города[895]. Археологические обследования центра современного города результатов не дали, более того, позволили его авторам «сформировать довольно четкую картину его (города Тулы. – А. Л.) культурных напластований. В ней не остается места для поселения, непосредственно предшествующего городу XVI в.»[896].
Согласно несохранившейся писцовой книге по Туле 1551/1552 гг. один из местных земельных собственников имел жалованную несудимую грамоту на владения «в Тулском уезде в Заупском стану да в Старом городище», которые названы, между прочим, «обеими половинами Тулы»[897]. Речь, следовательно, надо вести о том, что изначально посад «града на Туле» состоял из двух «станов» – «половин», причем одной из них являлся некий предшествующий по времени появления «летописной Туле» т. е. каменной крепости укрепленный населенный пункт, находившийся на противоположном от нее берегу р. Упы. Писцовая книга 1587–1588 гг. фиксирует зримые следы этого предшественника «града на Туле», называя его «Старым Тулским городищем», остатки которого существовали, во всяком случае, на момент составления писцового описания, то есть в последней четверти XVI в. «Старое Тулское городище» локализовывалось «на посаде за… Упою от усть речки Тульцы вверх по Упе по берегу» (заметим, выше по той же реке Тулице находилось Торховское городище – предполагаемый центр «места Тула» договорных грамот). Писцовое описание указывает приблизительную площадь «городища»: его бывшую территорию, согласно писцовой книге, «отмерели под новой девичь монастырь, в длину семдесят сажен, а поперег тритцать сажен» и под монастырские дворы «тритцать сажен, а поперег десять сажен»[898]. Таким образом, в сумме площадь городища была не менее 2 400 кв. сажен или около 10 000 квадратных метров.
Итак, «Старое Тулское городище» на самом деле все-таки существовало. Разумеется, можно предположить, что «град на Туле камен» ставился не там же, где полутора десятилетиями ранее отстроили «град на Туле древян», и тогда в писцовой книге речь идет о деревянной крепости времени Василия III. Как представляется, однако, «Старое Тулское городище» стоит соотнести с более древним топонимом, «Берести (Берестии, Берестеи)» договорных грамот первой половины XV в. упоминаемого в документах вместе с ее старшим современником, «Тулой» – Торховским городищем.
Возможно, в короткое, между 1381 и 1385 гг., время владения «местом Тула» Москвой, отошедшей ей по докончанию Дмитрия Ивановича и Олега Ивановича, здесь появился новый, московский административный центр региона. С возвращением «места Тулы» Рязани «Берести» утеряло прежнее значение, но осталось в качестве объекта договоренностей в московско-рязанских докончаниях, уже как рязанский населенный пункт. Если это так, то строительство московского, «града на Туле» было начато вблизи прежнего административного центра московских князей, «Берести», в стороне от Торховского городища, старой «рязанской» «столицы» региона.
В XVI–XVII вв. возведение новых крепостей на южнорусских «украинах» зачастую сводилось к возобновлению древнерусских городов и поселений, иногда пустовавших не одно столетие[899]. Совершенно очевидно, что в столь хорошо освоенных в прошлом регионах уже в древности были выявлены и соответствующими образом обустроены стратегически важные объекты. Значение их не изменилось и в XVI–XVII вв. хотя бы в силу того, что в основном сохранялись и направления сухопутных и речных путей сообщения. Даже если зримые следы «Берести», предшественника «града на Туле» и не будут отысканы, это не должно смущать. В отличие от Торховского городища, жизнь на котором продолжалась не менее трех столетий, предполагаемый «Берести» существовал непродолжительное время, с соответствующей недолгому существованию невысокой толщиной и интенсивностью культурного слоя.
Таким образом, строительстово каменной Тулы, формирование нового, Тульского уезда во владениях великих князей московских за Окой связало единой хронолгической нитью события конца XIV в., Куликовскую битву, и новый период в истории России, начало освоения степного юга, стало важнейшей вехой в истории Окско-Донского региона, положило начало новому этапу его истории.
Приложение. Об одном полузабытом известии из жизни Троицкого монастыря времени Куликовской битвы
Круг источников, освещающих события вокруг сражения 8 сентября 1380 г., достаточно устойчив – исследователи неизменно обращаются к памятникам Куликовского цикла (летописные рассказы, Задонщина, Сказание о Мамаевом побоище), и вероятность обнаружения новых крайне мала. Тем интереснее, что И. С. Борисов всего десятилетие назад, похоже, первым обратил внимание на существование выпавшего из поля зрения историков небольшого текста, современного событиям «Донского побоища»[900]. Сам по себе этот текст, в то же время, хорошо известен специалистам в области археографии, кодикологии, исследователям древнерусской книжности, а содержащая его рукописная книга является объектом пристального интереса и научных дискуссий, имеющих долгую историю.
Прежде всего, о самой рукописи. Это 149-листовой пергаменный Минейный Стихирарь, происходящий из библиотеки Троицкого монастыря, ныне хранящийся в собрании рукописей Троице – Сергиевой лавры отдела рукописей РГБ (Ф. 304. I. № 22 [1999]), одна из известнейших русских рукописных книг, старейший памятник книжности, созданный в стенах обители.
Кроме собственно стихир, церковных песнопений, расписанных в календарном порядке, Троицкий Стихирарь содержит двадцать записей на полях, принадлежащих переписчику книги и, следовательно, синхронных времени ее написания[901]. Писец и автор заметок в одной из них называет свое имя, «многогрешъныи рабъ Божии Епифанъ», и, как полагают многие исследователи, это известный писатель Древней Руси, троицкий инок Епифаний Премудрый, автор первого, не дошедшего до наших дней Жития преп. Сергия Радонежского[902].
Особое внимание в Троицком Стихираре всегда привлекал тот факт, что рукопись – редкий случай – можно как будто бы достаточно точно датировать, а датировку эту перепроверить. Из двадцати записей девять имеют даты, но если семь ограничиваются только месяцем и (или) числом[903], то одна содержит, кроме месяца и числа, указание еще и на день недели («месяца сентября в 21 день, в пяток»)[904] и еще одна включает месяц, число и год, 1380 («Лета 6888 сентября в 26 день»)[905]. Высказывалось в то же время и мнение, что годовая дата записи не может быть точно определена в силу неудовлетворительной сохранности последних двух букв «цифири»[906]. Тем не менее, именно это чтение годовой даты, 6888 считается наиболее вероятным, весомое доказательство чему было приведено достаточно давно.
Почти полтора века назад И. И. Срезневский проверил по одной из календарных формул, являлось ли в 1380 г. 21 сентября пятницей и, убедившись, что да, твердо отнес рукопись к сентябрю 1380 г. (26 сентября было крайней месячной датой среди прочих записей)[907]. С тех пор именно эта датировка признается неоспоримой, а сам Троицкий Стихирарь считается «точно датированной книгой»[908].
Среди двадцати записей Троицкого Ститхираря большинство лаконичны и исторически малосодержательны, но две представляют для нашей темы особый интерес. Первая, самая пространная из всех, помещенная на полях л. 40 и крайне плохо читающаяся, содержит рассказ о событиях, произошедших в Троицком монастыре в течение одного дня, «месяца сентября в 21 день, в пяток на память о агиос апостола Кондрата»: «В тож день Симоновскии приездилъ, в тож день келарь поехалъ на Резань, в тож день… Исакии Андрониковъ приехалъ к намъ, в тож день весть прииде, яко Летва грядетъ с агаряны…»[909]. Как видим, в Троицу в течение одного дня приехали двое, поименованые, один прозвищем, второй именем и прозвищем, тогда же анонимное лицо из монастырской администрации, наоборот, выехало из обители в Рязань и, одновременно, необъясненным автором записи образом, в монастырь дошло известие о военных приготовлениях литовцев и татар.
Вторая запись, на л. 129, читается, в отличие от первой, хорошо, но состоит всего из одного слова, «Токтомышъ»[910], имени хана, правившего в Золотой Орде между 1380 и 1395 гг.
Если исходить из датировки И. И. Срезневского, то окончание работы над перепиской рукописи, таким образом, отделяется считанными двумя – тремя неделями от 8 сентября 1380 г., дня победы коалиционной армии русских князей под командованием великого князя московского Дмитрия Ивановича над ордой темника Мамая на Куликовом поле. Так же, естественно, датируются и приписки на полях книги, включая обе выше приведенные.
Относительно недавно А. Л. Лифшиц предпринял попытку обосновать иную датировку Троицкого Стихираря и, соответственно, записей тоже. Отметив плохую сохранность «цифири» в записи на л. 48 и сомнительность прочтения ее как «в лето 6888», о чем уже говорилось выше, исследователь счел годовую дату не более чем «коньектурой И. И. Срезневского» и предложил исходить в датировке рукописи не из нее, а из палеографических и графико-орфографических особенностей текста Троицкого Стихираря. Они, по мнению исследователя, «уверенно указывают не на последнюю четверть XIV в., а на первую четверть XV в.»[911]. Посетовав на отсутствие исследований о лицах, приезжавших в монастырь и уезжавших из Троицы в пятницу 21 сентября[912], А. Л. Лифшиц попытался уточнить свою, более позднюю датировку, обратившись к именам Искаия, приезжавшего в монастырь, и хана Тохтамыша.
Что касается «Токтомыша», то, «для 1380 г. упоминание этого хана… представляло бы собой аномалию», поскольку, как полагает исследователь, имя правителя Орды стало известно на Руси не ранее исходалета 1382 г., когда татары под руководством Тохтамыша совершили кровавый набег на Русь, уничтожив, в числе прочих городов, и Москву, столицу Дмитрия Ивановича. «Исакия» же А. Л. Лифшиц идентифицировал, на основании прозвища «Андрониковъ», с настоятелем Спасо-Андроникова монастыря XV в. Исакием, известным по монастырскому синодику[913]. Исходя из датировки почерка рукописи 1-й четвертью XV в., предложив свои варианты прочтения буквенной «цифири» годовой даты и выяснив, в какой из годов первой четверти XV в. совпадают 21 сентября и пятница, А. Л. Лифшиц пришел к заключению, что приведенные им аргументы делают «практически несомненной дату написания Стихираря: 1403 г.»[914].
Не будучи специалистом в области палеографии и кодикологии, могу только заметить, что присутствие в записях имен Тохтамыша и Исакия, наоборот, делает невозможным отнесение рукописи к 1403 г.
А. Л. Лифшиц в известном смысле прав в том, что упоминание хана в сентябре 1380 г. – нонсенс. Если Троицкий Стихирарь на самом деле был переписан в это время, то присутствие в нем записи «Токтомышъ» представляет неразрешимую загадку, поскольку две – три недели спустя после Куликовской битвы о существовании на белом свете такого хана на Руси явно еще не догадывались. Об уходе с политической сцены Мамая и «воцарении» Тохтамыша в Москве узнали только к исходу 1380 г., когда новый хан «оубиша Мамая, а сам шедъ в Орду… и улус его (Мамая. – А. Л.) весь поима… И отьтуду послы своя отъпусти на Русскую землю ко князю великому Дмитрию Ивановичю и ко всемъ княземъ Русскымъ, поведая имъ свои приходъ, а самъ…седе на царстве Волжъскомъ»; киличеи русских князей поспешили отправиться в Орду с «дары» новому «царю» «на зиму ту и на ту весну» то есть в конце 1380 – весной 1381 гг.[915]
Однако не меньшую аномалию наличие среди записей Троицкого Стихираря имени «Токтомышъ» представляет и для предложенной А. Л. Лифшицем новой датировки рукописи, 1403 г. Уже в 1395 г., в результате второго похода Тимура, хан был разгромлен и скрылся в Литве, позднее вернулся в степь, откуда снова, и на этот раз насовсем, бежал к Витовту в 1398 г. Фактическим правителем Орды после бегства Тохтамыша многие годы, включая 1403, предполагаемую дату переписки книги, был эмир Едигей[916]. После 1395 г. имя Тохтамыша упоминается в русских летописях единственный раз, в 1407 г. в связи с убийством его ханом Шадибеком «в Симбирской земли»[917].
Об игумене Спасо-Андроникова монастыря Исакии, в отличие от Тохтамыша, не известно ровным счетом ничего, кроме имени, занесенного в поздний монастырский синодик. Во всех такого рода синодичных записях порядок перечисления имен настоятелей, как правило, соответствует порядку поставления их в игумены, и в Спасском синодике имя Исакия стоит всего лишь пятым по счету[918]. При этом известно, что основатель обители и ее первый настоятель, преп. Андроник скончался либо в 1395 г.[919], либо между 1374 и 1404 гг.[920], а наследовавший ему на игуменстве преп. Савва почил между 1410 и 1420 гг.[921], и после него, но до Исакия в монастыре должны были игуменствовать еще двое настоятелей.
Кроме того, ровно в тот год, которым А. Л. Лифшиц датирует Троицкий Стихирарь, 1403 г., в стенах Спасо-Андроникова монастыря инок Онфим изготовил пергаменный список одной из старейших датированных русских рукописей, знаменитого Изборника 1073 г. (ныне ГИМ. Отдел рукописей. Синодальное собрание. № 275), отметив, что рукопись переписана «при державе великаго князя Василья Дмитреевича… при игуменьстве Савине»[922].
Таким образом, попытку датировать Троицкий Стихирарь 1403-м годом через имена Тохтамыша и Искаия вряд ли можно считать удачной. Но, кроме хронологических несовпадений, существует и чисто археографический вопрос, связанный с прозвищем упомянутого в записи Исакия, «Андрониковъ».
Как неоднократно отмечалось исследователями, сохранность записей в Троицком Стихираре оставляет желать лучшего. Первый публикатор записи о событиях 21 сентября, И. И. Срезневский, например, читал прозвище Исакия не «Андрониковъ», а «Андреиковъ»[923]. Коррективу в это чтение внес, причем весьма осторожно и с оговорками, Е. Е. Голубинский[924], но предложенное им чтение почему-то было впоследствии принято безоговорочно[925]. Однако тот же Е. Е. Голубинский весьма решительно настаивал, например, на том, что слово «келарь» в записи от 21 сентября читается И. И. Срезневским «произвольно и ошибочно: слово полуслиняло и остатки его вовсе не позволяют предполагать слово «келарь»[926]. Однако именно такое чтение, «келарь», принято ныне всеми исследователями Троицкого Стихираря[927]. Так что вопрос о прозвище Исакия, «Андреиковъ» или «Андрониковъ», очевидно остается открытым и в данном случае вряд ли может быть аргументом в дискуссии о датировке Троицкого Стихираря, тем более, что на Маковце времени игуменства преп. Сергия известен инок по имени Исакий. Один из ближайших учеников игумена, принявший обет молчания (отсюда монастырское прозвище Исакия, Молчальник), переписчик рукописей[928], этот Исакий скончался в 1387 г.[929]
В записи о событиях 21 сентября об Исакии сказано, что он «приехал к намъ», что, возможно, следует понимать как указание на возвращение приехавшего к монастырской братии, которой он принадлежал. Совершенно не настаивая на том, что таинственный «Исакии» – именно Исакий Молчальник, коль скоро он никак не мог быть Исакием Андрониковым, заметим, что «Андреиковъ» можно рассматривать как патроним инока, может быть, служивший для отличия от другого Исакия – насельника Троицы, того же, например, вышеупомянутого Исакия Молчальника.
При этом в записи от 21 сентября, как помним, есть еще одно имя приехавшего в этот день в Троицу, «Симоновский», которого А. Л. Лифшиц справедливо счел игуменом подмосковного Симонова монастыря[930], не попытавшись, в то же время, уточнить, о ком может идти речь. Почему запись в Троицком Стихираре ограничивается только прозвищем приехавшего, «Симоновский», назвав в то же время и имя, и прозвище Исакия, А. Л. Лифшиц не объяснил. Между тем, именно «Симоновский» заслуживает самого пристального внимания.
Вообще автор неточен в своем утверждении, что запись на л. 40 ранее не привлекала исследователей, которые «не задаются, например, вопросом, зачем это келарь Троицкого монастыря поехал в, несомненно, враждебную в 1380 г. Рязань»[931]. Привлекала, и неоднократно, другое дело, что ее источниковедческий потенциал оценивался неоднозначно, а содержание толковалось по-разному.
Первый публикатор записи, И. И. Срезневский, как помним, относивший и рукопись, и описанные события к 1380 г., находил рассказ о том, что происходило в Троицком монастыре в пятницу 21 сентября «не нелюбопытным в историческом отношении», полагая, что содержание записи «дает некоторые показания о том, что делалось и что ожидалось в Троице – Сергиевой лавре (так у автора. – А. Л.)», но одновременно констатируя, что в записи «к сожалению, нет ничего относящегося к Куликовской битве и ее последствиям»[932]. Так же, не более чем свидетельство «об атмосфере, царившей (в Троицком монастыре. – А. Л.) непосредственно после Куликовской битвы», много позднее оценил эту запись Троицкого Стихираря и Б. М. Клосс[933]. Не дальше своих предшественников пошел и публикатор записей рукописи, к тому же оставивший без внимания некоторые ранее сделанные наблюдения исследователей Троицкого Стихираря. Л. В. Столярова в комментариях ограничилась констатацией того, что «Симоновский» – это неизвестный по имени инок Симонова монастыря, «Токтомышъ» – ордынский хан Тохтамыш, а в Рязань келарь, отвечавший в монастыре за хозяйство, ездил по хозяйственным делам. Относительно «Исакия Андроникова» Л. В. Столярова не высказалась вовсе, хотя и отметила, что И. И. Срезневский читал имя иначе, «Исакии Андреиковъ», никак собственное предпочтение в выборе прозвища между двумя версиями не объяснив[934].
В то же время предпринимались попытки истолковать запись максимально конкретно, с расшифровкой указанных в записи имен и последовательности событий, имевших место в Троице 21 сентября 1380 г.
Пальма первенства здесь принадлежит Н. В. Шлякову[935]. Историк не согласился с оценкой содержания записи, данной И. И. Срезневским («думается, маститый филолог был не совсем прав»), предложив достаточно стройную реконструкцию событий, имевших место в Троицком монастыре. Автор предположил, что три из четырех перечисленных в записи событий, приезд в монастырь «Симоновского», отъезд в Рязань келаря и слух о грядущем военном походе «Летвы с агаряны» связаны между собой.
Во-первых, Н. В. Шляков определил, что «Симоновский» – это игумен подмосковного Симонова монастыря Федор, ученик и племянник преп. Сергия, один из многих троицких иноков, ставших настоятелями монастырей, «вследствие чего появились названия Спасский для преподобного Андроника, Высотский для преподобного Афанасия, Симоновский для преподобного Федора… Махрищский и Пермский для двух Стефанов». От себя добавим, что «Симоновский», судя по отсутствию имени собственного, для автора записи в Троицком Стихираре был, безусловно, лицом конкретным, более того, хорошо знакомым, и это мог быть только Федор Симоновский, практически выросший на Маковце и покинувший Троицкую обитель совсем недавно, не позднее 1377 г.; год спустя Федор уже игуменствовал «на Симонове», в монастыре, находившимся под особым покровительством великого князя[936].
Во-вторых, Н. В. Шляков истолковал глагол «приездил» как спешный и короткий визит[937], и это должен был быть «не незаурядный приезд ученика и племянника к учителю и дяде», а значительное, не допускающее отлагательств дело. Послать Федора Симоновского в Троицу из Москвы по какому-то спешному делу мог, полагает автор, только кто-то из первых лиц великого княжества, и это был глава русской православной церкви, митрополит Киприан, поскольку 21 сентября 1380 г. великого князя Дмитрия Ивановича в Москве еще не было (московские полки в это время возвращались с Куликова поля).
В-третьих, наконец, келарь, «лицо важное, но не самостоятельное», не мог поехать «на Резань» без благословения игумена и, следовательно, Федор Симоновский приезжал в Троицу для каких-то переговоров о миссии в Рязань к Сергию Радонежскому, от имени и по поручению которого келарь собственно только и мог отправиться «на Резань», надо думать, к великому князю Олегу Ивановичу.
В итоге И. В. Шляков предложил следующую реконструкцию последовательности событий и их объяснение. 21 сентября 1380 г., две недели спустя после победоносного сражения на Дону, до Москвы дошли слухи о намерении Ягайло напасть на Русь. В связи с этим митрополит Киприан, находившийся в этот момент в Москве, обратился к игумену Симонова монастыря Федору с просьбой уговорить дядю, преп. Сергия отправиться к Олегу Ивановичу с целью убедить его, союзника литовского князя, воспрепятствовать намерениям Ягайло, ради чего монастырский келарь и отправился в Великое княжество Рязанское.
Наблюдения И. В. Шлякова дополнил и развил И. С. Борисов. Автор, во-первых, определил имя келаря, посланного в Рязань, Илья, кончина которого отмечена записью в Рогожском летописце под 1384 г.[938] Во-вторых, И. С. Борисов попытался объяснить, почему к рязанскому князю отправился не сам игумен, а монастырский келарь: очевидно, миссия требовала поспешности, а преп. Сергий, по святоотеческому завету, совершал свои путешествия пешком, на что ушло бы много времени[939].
Вышеизложенное объяснение содержания записи л. 40 Троицкого Стихираря, при всей его кажущейся логичности, вызывает ряд вопросов.
Безусловно соглашаясь с идентификацией «Симоновского» с игуменом Федором, равно как и с официальным характером миссии последнего в Рязань (к вышесказанному можно прибавить, что Федор Симоновский в 1380 г. был еще и духовником великого князя[940]), все-таки остается неясным, от чьего имени он мог действовать и к кому ездил. 21 сентября 1380 г. в Москве не было не только Дмитрия Ивановича, но, и, вопреки мнению Н. В. Шлякова, митрополита Киприана[941]. Что же касается цели поездки, Рязани, то ранние летописные рассказы о Куликовской битве повествуют о бегстве Олега Ивановича за пределы собственных владений сразу после поражения татар в Куликовской битве[942]. Следовательно, если это так, то неясно, с одной стороны, кто в Москве уполномочил преп. Сергия на посылку келаря и, с другой стороны, с кем Илья мог встречаться в Рязани.
Кроме того, И. В. Шляков не уточнил, что за «Летву… с агаряны», «весть» о возможном нападении которых дошли в Троицу, имеет в виду автор записи в Троицком Стихираре. Всего двумя неделями ранее «агаряне» как будто бы были наголову разбиты на Куликовом поле армией московского князя Дмитрия Ивановича и его союзников, а «Летва», несмотря на союзнические отношения с Мамаем, так и не дошла до места битвы.
Наконец, совершенно не очевидно, что миссия Ильи в Рязань была прямо связана с «вестью» о литовцах и татарах – мнение И. В. Шлякова скорее надо рассматривать как вероятное, но не очевидное. Известия о событиях в монастыре 21 сентября всего лишь соседствуют, соединившись в единый блок по воле переписчика Троицкого Стихираря, но необязательно вытекая одно из другого. Во всяком случае, доставка вести о «Летве… с агаряны» в Троицкий монастырь не приписывается ни «Симоновскому», ни Исакию. Точно также совершенно неясно, имела ли запись в виду совместный поход «Летвы… с агаряны» или две различные военные акции, повторимся, дошедшие в монастырь только в виде слуха, не более.
Противоречия в построениях И. В. Шлякова (но не все) попытался разрешить В. А. Кучкин. Исследователь предположил, что дошедшая в монастырь «весть» о «Летве с агаряны» имела в виду действия Мамая после поражения в Куликовской битве.
Действительно, ранние летописные рассказы о битве сообщают, что сразу после разгрома 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле темник как будто бы планировал новый, так и не состоявшийся, поход на Русь. Что же до троицкого келаря, отправившегося в Рязань, то целью его визита была встреча не с великим князем, а с рязанскими боярами, потому что Олег Иванович в это время находился у Мамая, собиравшегося вновь напасть на Русь, на этот раз с литовцами[943].
Как представляется, и в этих построениях есть ряд досадных нестыковок. Во-первых, если верить записи, то согласно «вести», дошедшей в Троицкий монастырь 21 сентября 1380 г., ожидалось едва ли не совместное нашествие литовцев и татар. Но ранние летописные рассказы о событиях, последовавших за Куликовской битвой, не упоминают «Литвы» вообще и говорят только о планах Мамая. После разгрома на Дону темник «не во мнозе убежа… и паки… собра остаточную свою силу еще восхоте изгономъ ити на Русь», однако планам этим не суждено было сбыться: «и се приде к нему весть, что идетъ на него некыи царь… именемъ Токтамышъ», против которого, отложив план набега на Русь, Мамай и выступил «с тою ратин»[944].
Во-вторых, если верить тому же летописному рассказу, Мамай готовил не просто новый поход на Русь, а «изгон» т. е. неожиданное нападение, что вполне логично – летописи подчеркивают, что в распоряжении темника находилась всего лишь «остаточная сила» Орды, основная же полегла на Куликовом поле, и вряд ли новый масштабный поход на Русь был в принципе осуществим.
Какие меры секретности, дабы «весть» о подготовке «изгона» не дошла до Руси, предпринимались в таких случаях ханами, хорошо известно по Повести о нашествии Тохтамыша на Москву в 1382 г., когда они дали ожидаемый результат[945]. Между тем, даже в удаленной на сорок верст от Москвы Троице 21 сентября 1380 г., если верить записи, уже знали о планах Мамая. Кстати, ни о каком участии «Летвы» в планировавшемся «изгоне» летописи не сообщают, хотя запись Троицкого Стихираря гласит, что «грядет» не Мамай, а «Летва с агаряны», отдавая в этом союзе Ягайло едва ли не пальму первенства.
Как помним, куда из Рязани после Куликовской битвы бежал Олег Иванович, ранние летописи не сообщают. Вероятность того, что рязанский князь скрылся из своей столицы во время похода Мамая, достаточно велика, и это был далеко не первый случай такого бегства Олега Ивановича. Между 1365 г., когда в летописи отмечено первое бегство князя из столицы в связи нрападением татар, и 1402 г., годом смерти рязанского князя, последний, в случае опасности, ордынской, литовской и московской, не менее одиннадцати раз куда-то бежал из Переяславля-Рязанского[946], но летописи ни разу не сообщают, где князь скрывался. В то же время пребывание рязанского князя после разгрома татар на Дону в стане ордынского темника, как предположил В. А. Кучкин, вряд ли возможно. Еще М. М. Щербатов справедливо замечал, что «должны мы по его поступку с татарами заключить, которым он обещанной им помощи не дал (Олег Иванович так и не явился на Куликово поле. – А. Л.), что он не мог… к сему народу бежать»[947]. Так что, в любом случае, 21 сентября 1380 г. Олега Ивановича в Рязани не было.
Таким образом, безусловно указывая на время Куликовской битвы, записи содержат ряд противоречий, заставляющих усомниться в том, что они, равно как и Троицкий Стихирарь, относятся к сентябрю 1380 г.
Не испытывая, повторимся, как и И. В. Шляков, сомнений в идентичности «Симоновского» и Федора Симоновского, рассмотрим вопрос о датировке рукописи и записей исходя из того, что известно о биографии племянника преп. Сергия.
Хронологические рамки возможных приездов Федора Симоновского в Троицкий монастырь легко высчитываются, и это могли быть периоды либо между 1378 (первый год игуменства Федора «на Симонове») и 1381 гг., либо 1383–1385 гг.: в 1382 г. игумен провел в Царьграде, туда же отправился «о устроении дел церковных» в 1386 г, вернувшись на Русь только в 1390, причем уже в сане ростовского архиепископа, «ему же дасть патриархъ в Цариграде архиепископьство»[948]. Исходя из выше изложенного, крайней датой переписки Троицкого Стихираря можно считать 1386 г. время до отъезда игумена Федора, скорее всего отбывшего в Царьград не ранее весны.
Возвращаясь к датировке событий, имевших место в Троице в пятницу 21 сентября, констатируем, что с одной стороны существуют хронологические данные для отнесения их к 1380 г. и, с другой стороны, содержательная сторона записи противоречит отнесению этих событий к месяцу Куликовской битвы, сентябрю именно 1380 г. Чисто исторические обстоятельства как представляется, безусловно связывая записи с эпохой Куликовской битвы, а не началом XV в., указывают, тем не менее, не на 1380, а на 1381 г.
Начнем с «Летвы с агаряны». «Вести» о литовцах и татарах зафиксированы в русских летописях в 1381 г. но при этом никак не связаны между собою.
Летом этого года Тохтамыш «пославъ своего посла къ великому князю Дмитрию Ивановичю… царевича Ахтозю, а с нимъ дружину 700 татаринов». Татары дошли, однако, только до Нижнего Новгорода, откуда «возвратися вспять, а на Москву не дръзнулъ ити»[949]. «Посол», как полагает А. А. Горский, шел на Русь для получения «выхода»[950], однако бросается в глаза внушительный военный отряд, сопровождавший «царевича», семьсот человек. Известно, что несколькими годами ранее те же нижегородцы разгромили «послов Мамаевых» во главе с неким Сарайкой, «а съ ними татаръ тысящу»[951]. Судя по всему, мирный характер миссий, сопровождавшихся столь многочисленными воинскими силами, изначально вызывал у нижегородцев серьезные сомнения[952]. К тому же татар в 1381 г. возглавлял, как при набегах, «царевич» (Сарайка был просто «стареишина ихъ»). По-видимому «царевич» «не дързну» т. е. просто не рискнул двигаться дальше Нижнего Новгорода, слух же о том, что «грядут агаряны» мог быть зафиксирован в Троицком Стихираре.
Что же до «Летвы», то «тое же осени» 1381 г. князь Свидригайло Ольгердович безуспешно осаждал Полоцк, рассказ о чем попал в московский летописный свод конца XV в.[953] Это, казалось бы, далекое от Москвы событие, тем не менее, было актуально в для Руси в связи с тем, что полоцкий князь Андрей Ольгердович, старший сын великого князя литовского, по кончине отца, ущемленный в наследственных правах Ягайло, с 1377 г. служил Москве. В 1381 в Полоцк, до этого управлявшийся самим Ягайло, литовский князь безуспешно попытался посадить одного из своих братьев[954]. Возможно, слухи о грядущих военных действиях имели в виду именно эти события вокруг Полоцка, явно небезразличные для его наследственного владельца, героя Куликовской битвы, служившего в этот момент московскому князю.
Если принять 21 сентября 1381 г. как дату записи, становится объяснимым и то, кто отправил «Симоновского» в Троицу к преп. Сергию – это, несомненно, великий князь московский, духовный сын игумена Федора.
1381 г. актуален и с точки зрения наличия в записях Троицкого Стихираря имени Тохтамыша. Как поминим, о появлении в Орде нового хана на Руси стало известно только в исходе 1380 г. Надо сказать, что, внешне выразив покорность новому царю посылкой «даров», Дмитрий Иванович отправил своих киличеев в Орду гораздо позже прочих князей. Рогожский летописец, во всяком случае, сообщает, что если прочие «князи… Рустии» направили «коиждо своихъ киличеевъ со многими дары ко царю Тохтомышу» вскоре по получении известия из Орды о его «воцарении», зимой 1380 и весной 1381 гг., то московский князь сделал это только «на ту же осень» 1381 г., отпустив к Тохтамышу «своихъ киличеевъ Толбугу да Мокшея…. съ дары и съ поминкы»[955]. Возможно, имя Тохтамыша попало в число записей Троицкого Стихираря именно в связи с этой поездкой первых официальных представителей московского князя к новому «царю».
В связи с предполагаемой датировкой рукописи 1381 годом необходимо снова вернуться к тексту на полях л. 40, содержащему дату происшествий в монастыре, «пяток» 21 сентября, легших в основу датировки и Троицкого Стихираря, и самой записи 1380-м годом.
В 1381 г. этот день, 21 сентября, приходился на субботу, что легко проверить как по формуле Гротгаузена, которой воспользовался в свое время И. И. Срезневский, так и по табличным вычислениям дня недели мартовского года через вруцелето[956]. Хорошо известно, однако, что в XIV в. суточный счет часов и, соответственно, начало суток, отсчитывалось не с полуночи, а с восхода солнца, богослужебные же сутки, принятые в монастырском обиходе, завершались вечерней службой предшествующего, по современному счету числа. При этом временной промежуток между вечерней службой предыдущего дня и утренней следующего имел весьма специфический статус. Церковный устав этого времени, как подметил Д. И. Прозоровский, «постоянно назначает для вечери час предшествующего числа, а заутреню всегда определяет выражением «за столько-то часов до дня», не причисляя заутреннего времени ни к прошедшим, ни к наступающим суткам,…так как с заутрени… совершался переход с одного числа на другое»[957]. Проще говоря, суббота 21 сентября 1381 г. началась только утренней службой, и если «Симоновский приездил» в монастырь между завершением вечерни в пятницу 20 сентября и субботней заутренней 21, то этот приезд мог быть с равным успехом отнесен как к пятнице, так и к субботе. Так что ссылку записи на «пяток» как день недели именно 21 сентября, судя по всему, не стоит соотносить с современным суточным делением, имея в виду, что момент приезда «Симоновского» и Исакия мог быть и субботой.
На 1381 г. указывает и некая явно не хозяйственная, а политическая миссия, которую через своего духовника великий князь Дмитрий Иванович просил выполнить в Рязани преп. Сергия Радонежского, возможно, никак не связанная с «вестью» о «Летве» и «агарянах».
В связи с последним особого внимания заслуживает сообщение Никоновской летописи, помещенное под 1381 г., «тоя же осени, месяца ноября в 1 день вси князи рускии, сославшеся, велию любовь учиниша между собою»[958]. В историографии это событие считается княжеским съездом[959], которому предшествовали, как видим, «ссылкии» между его будущими участниками, в связи с чем и стоит рассматривать рязанскую поездку келаря. Вообще некий антиордынский союз русских князей существовал как до Куликовской битвы 8 сентября 1380 г., так и после нее[960], но Олег Иванович определенно до победного сражения на Дону не был его участником. Тем не менее, к исходу сентября 1381 г. уже не менее двух месяцев действовал московско-рязанский договор, сделавший рязанского князя вассалом Москвы, и отношения двух великих князей выглядели иначе, чем до Куликовской битвы (подробнее см. гл. 1 настоящего издания). Так что поездка троицкого келаря «на Рязань», явно инспирированная из Москвы, могла иметь какое-то отношение к этим «ссылкам» осени 1381 г.
Сам съезд русских князей 1381 г. А. Е. Пресняков соотносил с общей для Руси угрозой со стороны Орды, заставлявшей Дмитрия Ивановича стремиться к единству со всеми русскими князьями, включая великого князя рязанского Олега Ивановича[961]. Вполне вероятно, московско-рязанские «ссылки» осени 1381 г., к которым был причастен преп. Сергий, имели в виду достижение каких-то договоренностей касательно совместного отпора Орде, не прописанных в заключенном недавно докончании. Нарушение этих договоренностей, в таком случае, лежит в основе Московско-Рязанского «нелюбия» 1382–1385 гг.[962]
Список сокращений
АЕ – Археографический ежегодник
АЗР – Акты Западной России
АРИ – Архив русской истории
АСЭИ – Акты социально – экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI вв.
АФЗХ – Акты феодального землевладения и хозяйства
ВИ – Вопрсы истории
Временник МОИДР – Временник Московского общества истории и древностей
ГИМ – Государственный исторический музей
ДДГ – Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв.
ИЗ – Исторические записки
Изв ГАИМК – Известия Гос. академии истории материальной культуры
ИСССР – История СССР
ЛИРО – Летописи историко-родословного общества в Москве
ОИ – Отечественная история
РИБ – Русская историческая библиотека
РГБ – Российская государственная библиотека
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
Сл. РЯ XI–XVII вв – Словарь русского языка XI–XVII вв.
Сб. РИО – Сборник Русского Исторического общества
ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом)
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей Российских при Московском Университете






