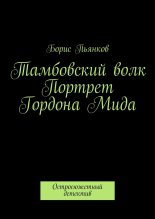История Геродот

— Луи Бонапарт предает республику, — сказал я, не замечая, что возвысил голос.
Он дотронулся до моей руки, показав пальцем на силуэты, видневшиеся на фоне застекленной перегородки.
— Осторожнее, сударь, говорите тише.
— Как, — воскликнул я, — вот до чего мы дошли! Вы не смеете говорить, не смеете громко произнести имени «Бонапарт», вы едва решаетесь потихоньку пробормотать несколько слов, здесь, на этой улице, в этом Сент-Антуанском предместье, где все двери, все окна, все булыжники, все камни должны были бы возопить: «К оружию!»
Огюст объяснил мне то, что я и сам уже довольно ясно понимал, о чем я догадывался еще утром, после своего разговора с Жераром: моральное состояние предместий. «Народ «одурачен», — говорил он, — все поверили, что восстанавливается всеобщее голосование. Они довольны тем, что закон от тридцать первого мая отменен».
Здесь я прервал его:
— Да сам же Луи Бонапарт требовал этого закона тридцать первого мая, ведь его составил Руэр, ведь его предложил Барош, ведь это бонапартисты голосовали за него. Вы одурачены вором, который украл у вас кошелек и сам же возвращает его вам!
— Я — нет, — возразил Огюст, — но другие — да. В сущности, — продолжал он, — простые люди не очень дорожат конституцией, они любят республику, а республика ведь «осталась неприкосновенной»; во всем этом ясно видно только одно: пушки, готовые расстреливать народ; июнь тысяча восемьсот сорок восьмого года еще не забыт, бедные люди сильно тогда пострадали; Кавеньяк наделал много зла, и женщины теперь цепляются за блузы мужчин и не пускают их на баррикады; несмотря на все это, если руководство возьмут на себя такие люди, как мы, народ, может быть, станет драться, но, главное, никто толком не знает, из-за чего. — Он закончил словами: — Верхняя часть предместья никуда не годится, нижняя лучше. Здесь будут драться. На улицу Ларокет можно рассчитывать, на улицу Шаронны тоже, но те, кто живет близ кладбища Пер-Лашез, спрашивают: «А какая мне будет от этого польза?» Они знают только те сорок су, которые зарабатывают за день. Они не пойдут, не рассчитывайте на мраморщиков. — Он прибавил с улыбкой: — У нас говорят не холодный, как мрамор, а холодный, как мраморщик, — и продолжал: — Что до меня, то если я жив, этим я обязан вам. Располагайте мной, пусть меня убьют, но я сделаю все, что вы захотите.
Пока он говорил, я заметил, как позади него приподнялась белая занавеска, висевшая на застекленной перегородке. Его молодая жена с тревогой смотрела на нас.
— Да нет же, — сказал я ему, — ведь нам нужно общее усилие, а не жизнь одного человека.
Он замолчал, а я продолжал говорить:
— Так вот, послушайте меня, Огюст, вы человек смелый и умный, — неужели парижские предместья, полные героизма даже тогда, когда они заблуждаются, те самые предместья, которые в июне тысяча восемьсот сорок восьмого года из-за недоразумения, из-за плохо понятого вопроса о заработной плате, из-за неудачного определения социализма поднялись против Собрания, избранного ими самими, против всеобщей подачи голосов, против того, за что они сами голосовали, теперь, в декабре тысяча восемьсот пятьдесят первого года, не встанут на защиту права, закона, народа, свободы, республики! Вы говорите, что дело запутанное и вам многое непонятно, но ведь совсем наоборот — в июне все было темно, а сейчас все совершенно ясно.
Когда я произнес последние слова, дверь заднего помещения тихо отворилась, и кто-то вошел. То был молодой человек, белокурый, как и Огюст, в пальто и в фуражке. Я вздрогнул. Огюст обернулся и сказал:
— Ему можно доверять.
Молодой человек снял фуражку, подошел вплотную ко мне и, встав спиной к застекленной перегородке, сказал вполголоса:
— Я вас хорошо знаю. Я был сегодня на бульваре Тампль. Мы спросили вас, что нужно делать; вы ответили: «Браться за оружие». Смотрите!
Он засунул обе руки в карманы пальто и вытащил оттуда два пистолета.
Почти в тот же момент звякнул колокольчик у входной двери. Юноша быстро сунул пистолеты обратно в пальто. Вошел человек в блузе, рабочий лет пятидесяти. Ни на кого не глядя, не говоря ни слова, он бросил на прилавок монету; Огюст достал рюмку и налил в нее водки; человек выпил залпом, поставил рюмку на прилавок и вышел.
Когда дверь за ним закрылась, Огюст сказал:
— Вы видите, они пьют, едят, спят и больше ни о чем не думают. Все они таковы!
Другой запальчиво прервал его:
— Один человек еще не весь народ! — И, повернувшись ко мне, он продолжал: — Гражданин Виктор Гюго, народ поднимется. Если и не все выступят, то найдутся такие, которые пойдут. По правде сказать, может быть, начинать надо не здесь, а по другую сторону Сены.
Он вдруг остановился.
— Однако вы ведь не знаете моей фамилии.
Он вынул из кармана записную книжку, вырвал из нее листок, написал карандашом свою фамилию и подал мне. Я жалею, что забыл эту фамилию. Это был рабочий-механик. Чтобы не подвести его, я сжег эту бумажку вместе со многими другими в субботу утром, когда меня чуть не арестовали.
— Сударь, — сказал Огюст, — это верно, мой приятель прав, не нужно так уж обвинять предместье, оно, может быть, и не начнет первым, но если другие поднимутся, то и за ним дело не станет.
Я воскликнул:
— Кто же тогда поднимется, если Сент-Антуанское предместье не шевельнется? Кто еще жив, если народ мертв?
Рабочий с машиностроительного завода подошел к выходной двери, убедился, что она плотно закрыта, затем вернулся и сказал:
— Охотники найдутся. Некому только руководить ими. Послушайте, гражданин Виктор Гюго, вам я могу это сказать… — И он прибавил, понизив голос: — Я думаю, что восстание начнется сегодня ночью.
— Где?
— В предместье Сен-Марсо.
— В котором часу?
— В час ночи.
— Почему вы это знаете?
— Потому что я буду участвовать в нем. — Он продолжал: — Теперь скажите, гражданин Виктор Гюго, если сегодня ночью в предместье Сен-Марсо начнется восстание, вы будете руководить им? Вы согласны?
— Да.
— Ваша перевязь с вами?
Я вытащил ее конец из кармана. Глаза его засияли радостью.
— Хорошо, — сказал он, — у гражданина при себе его пистолеты, у депутата его перевязь. Все вооружены.
Я спросил его:
— Вы уверены, что восстание начнется сегодня ночью?
Он ответил:
— Мы его подготовили и рассчитываем на него.
— В таком случае я хочу быть на первой же баррикаде, которую вы построите, — сказал я, — приходите за мной.
— Куда?
— Туда, где я буду.
Он сказал, что если восстание решат начать ночью, он будет знать об этом самое позднее в половине одиннадцатого, а меня предупредят до одиннадцати часов. Мы условились, что, где бы я ни находился до этого времени, я сообщу о своем местопребывании Огюсту, а тот известит его.
Молодая женщина по-прежнему смотрела на нас. Разговор затянулся и мог возбудить подозрения в людях, сидевших в помещении за лавкой.
— Я ухожу, — сказал я Огюсту.
Я приоткрыл дверь, он взял мою руку, пожал ее нежно, словно женщина, и сказал мне с глубоким чувством:
— Вы уходите, вы еще вернетесь?
— Не знаю.
— Верно, — продолжал он, — никто не знает, что может случиться. Послушайте, вас, может быть, будут преследовать и разыскивать, как в свое время меня: может быть, настанет ваша очередь скрываться от расстрела, а моя — спасать вас. Знаете, маленькие люди тоже могут пригодиться. Господин Виктор Гюго, если вам понадобится убежище, мой дом в вашем распоряжении. Приходите сюда. Вы найдете здесь постель, где вы сможете спать, и человека, который пойдет за вас на смерть.
Я поблагодарил его крепким пожатием руки и ушел. Пробило восемь часов. Я торопился на улицу Шаронны.
XVIII
Депутатов преследуют
На углу улицы Фобур-Сент-Антуан, перед бакалейной лавкой Пепена, в том самом месте, где в июле 1848 года поднималась гигантская, высотой в два этажа, баррикада, были расклеены изданные утром декреты; несколько человек рассматривали их, хотя прочесть что-либо в темноте было невозможно. Какая-то старуха говорила: «Двадцатипятифранковых прогнали. Вот и хорошо!»
Я сделал еще несколько шагов, меня окликнули. Я обернулся. Это проходили Жюль Фавр, Бурза, Лафон, Мадье де Монжо и Мишель де Бурж. Я попрощался с отважной и преданной женщиной, которая провожала меня. Посадив ее в проезжавший мимо фиакр, я присоединился к пяти депутатам. Они шли с улицы Шаронны. Помещение ассоциации краснодеревщиков было закрыто.
— Там никого нет, — сказал мне Мадье де Монжо. — Эти добрые люди начинают накапливать капиталец и не хотят рисковать им. Они боятся нас, они говорят: нас перевороты не касаются, пусть себе делают, что хотят.
— Это меня не удивляет, — ответил я, — в настоящий момент ассоциация — то же, что буржуа.
— Куда мы идем? — спросил Жюль Фавр.
Лафон жил в двух шагах отсюда, на набережной Жемап, в доме № 2. Он предложил нам свою квартиру, мы согласились и приняли необходимые меры для того, чтобы сообщить членам левой о нашем местопребывании.
Через несколько минут мы были у Лафона, в пятом этаже высокого старого дома. Этот дом видел взятие Бастилии.
Вход в этот дом был с набережной Жемап; чтобы попасть на узкий двор, нужно было пройти через калитку и спуститься с набережной на несколько ступеней. Бурза остался у этой калитки, чтобы предупредить нас в случае тревоги и указывать дом депутатам, которые еще должны были прибыть.
Через несколько минут нас собралось довольно много, пришли почти все те, кто был утром, и прибавилось еще несколько человек. Лафон предоставил нам свою гостиную, окна которой выходили на задний двор. Мы избрали нечто вроде бюро, и Жюль Фавр, Карно, Мишель и я сели за большой стол у камина, освещенный двумя свечами. Депутаты и все присутствующие уселись вокруг нас на стульях и креслах. Группа, стоявшая у двери, загораживала вход.
Мишель де Бурж, входя, воскликнул:
— Мы пришли в Сент-Антуанское предместье поднять народ. Мы здесь. Здесь мы и останемся!
В ответ на эти слова раздались рукоплескания.
Изложили положение: предместья бездействуют, в ассоциации краснодеревщиков — никого нет, почти повсюду двери заперты. Я рассказал обо всем, что видел и слышал на улице Ларокет, о том, что говорил о равнодушии народа виноторговец Огюст, о надеждах механика и о предполагаемом восстании в предместье Сен-Марсо. Было решено, что по первому зову я отправлюсь туда.
Впрочем, о событиях этого дня еще ничего не было известно. Сообщали, что Гавен, помощник командира 5-го легиона Национальной гвардии, разослал своим офицерам приказ явиться в часть.
Прибыли несколько журналистов демократического направления, среди них Александр Рей и Ксавье Дюррье, а также Кеслер, Вилье и Амабль Леметр, из газеты «Революсьон»; одним из этих журналистов был Мильер.
У Мильера над бровью виднелась широкая кровавая ссадина; утром, когда он, расставшись с нами, нес с собой одну из копий продиктованной мною прокламации, кто-то набросился на него и пытался вырвать у него листок; очевидно, полиция была уже предупреждена о прокламации и разыскивала ее; Мильер вступил в рукопашную схватку с полицейским агентом и свалил его с ног, но вышел из борьбы со ссадиной на лбу. Тем не менее прокламации до сих пор не были напечатаны. Было уже около девяти часов вечера, а их все еще не принесли. Ксавье Дюррье заявил, что не пройдет и часа, как у нас будут обещанные сорок тысяч экземпляров. Мы надеялись ночью расклеить их на всех парижских домах. Каждый из присутствующих должен был стать расклейщиком.
Среди нас — явление неизбежное в бурном смятении этих первых часов — находилось много людей, которых мы не знали. Один из них принес десять или двенадцать экземпляров призыва к оружию. Он попросил меня собственноручно подписать их, чтобы иметь возможность, как он сказал, показать мою подпись народу… «Или полиции», — улыбаясь, шепнул мне Боден. Но нам было не до этих предосторожностей. Я подписал все экземпляры.
Слово взял Жюль Фавр. Нужно было организовать действия левой и руководить ими, придать подготовлявшемуся движению единство, обеспечить ему центр, дать восстанию стержень, а народу — точку опоры. Он предложил немедленно составить комитет, который представлял бы всю левую со всеми ее оттенками, и поручить ему организовать и возглавить восстание.
Все депутаты шумно одобрили речь этого смелого и красноречивого человека. Предложили составить комитет из семи членов. Сразу же назвали кандидатуры Карно, де Флотта, Жюля Фавра, Мадье де Монжо, Мишеля де Буржа и мою. Так был единогласно избран этот комитет восстания, который, по моему настоянию, назвали Комитетом сопротивления: ибо мятежником был Луи Бонапарт, а мы воплощали республику. Было высказано пожелание ввести в комитет представителя от рабочих. Предложили Фора (от Роны). Но Фор, как мы потом узнали, утром был арестован. Таким образом оказалось, что комитет фактически состоял только из шести членов.
Члены комитета тут же распределили между собой обязанности. Они выделили из своей среды постоянный комитет, который должен был в случае крайней необходимости издавать декреты от имени всей левой, служить средоточием сведений, директив, инструкций, материальных средств, приказов. В этот постоянный комитет вошли четверо представителей: Мишель де Бурж, Карно, Жюль Фавр и я. Де Флотт и Мадье де Монжо получили специальные задания: де Флотту поручили левый берег Сены и район высших учебных заведений, Мадье — бульвары и пригороды.
Когда закончилась эта предварительная работа, Лафон отозвал в сторону Мишеля де Буржа и меня и сказал нам, что бывший член Учредительного собрания Прудон хочет повидаться с кем-нибудь из нас двоих, что он минут пятнадцать простоял внизу и теперь ушел, передав, что будет ждать нас на площади Бастилии.
Прудон, в это время отбывавший трехгодичный срок заключения в тюрьме Сен-Пелажи за оскорбление Луи Бонапарта, время от времени получал разрешение выйти. Случайно одно из этих разрешений совпало с днем 2 декабря.
Нельзя не отметить следующего факта: 2 декабря Прудон находился в заключении на основании судебного приговора, и в тот самый день, когда в тюрьму незаконно бросили депутатов, пользовавшихся неприкосновенностью, из нее выпустили Прудона, которого могли держать там совершенно законно.
Оказавшись на свободе, Прудон пришел к нам.
Я был знаком с Прудоном, так как видел его в Консьержери, где сидели оба моих сына, а вместе с ними мои знаменитые друзья, Огюст Вакери и Поль Мерис, и мужественные писатели, Луи Журдан, Эрдан и Сюше; в голове у меня невольно мелькнула мысль, что в этот день, конечно, не выпустили бы никого из этих людей.
Тут Ксавье Дюррье шепотом сказал мне:
— Я только что расстался с Прудоном; он хотел бы вас видеть. Он ждет вас внизу, совсем близко, у входа на площадь, вы увидите его — он стоит, облокотившись на парапет канала.
— Я иду, — ответил я.
Я спустился.
В самом деле, Прудон стоял в указанном месте, в раздумье, опершись обоими локтями на парапет. На нем была та самая широкополая шляпа, в которой он часто прогуливался большими шагами, один, по двору Консьержери.
Я подошел к нему.
— Вы хотите говорить со мной? — спросил я его.
— Да.
И он пожал мне руку.
Место было пустынное. Налево от нас расстилалась обширная и темная площадь Бастилии; на ней ничего нельзя было различить, но чувствовалось присутствие множества людей; там в боевом порядке стояли полки; они не располагались биваком и были готовы выступить; слышался глухой шум их дыхания; на площади мелькали бледные искры — это во тьме поблескивали штыки. Над этой бездной мрака, прямая и черная, вздымалась Июльская колонна.
Прудон продолжал.
— Вот в чем дело. Я пришел предупредить вас как друг. Вы во власти иллюзий. Народ одурачен. Он не тронется с места. Бонапарт одержит верх. Этот вздор, восстановление всеобщего голосования, вводит простаков в заблуждение. Бонапарт слывет социалистом. Он сказал: «Я буду императором черни». Это наглость, но наглость может иметь успех, когда к ее услугам вот это.
И Прудон показал рукой на зловещие отблески штыков. Он продолжал:
— У Бонапарта есть своя цель. Республика создала народ, он хочет воссоздать чернь. Он добьется своего, а вы проиграете. На его стороне сила, пушки, заблуждение народа и промахи Собрания. Несколько человек из левой, к которым вы принадлежите, не справятся с переворотом. Вы честные люди, а он мошенник. У вас есть совесть, а у него ее нет, — и в этом его преимущество. Поверьте мне, прекратите сопротивление. Положение безвыходное. Нужно ждать, а сейчас борьба была бы безумием. На что вы надеетесь?
— Ни на что, — ответил я.
— А что же вы будете делать?
— Все.
По звуку моего голоса он понял, что настаивать бесполезно.
— Прощайте! — сказал он мне.
Мы расстались. Он скрылся во мраке: больше я его не видел.
Я вернулся к Лафону.
Печатных прокламаций с призывом к оружию все еще не было. Встревоженные депутаты спускались и поднимались по лестнице. Некоторые выходили на набережную Жемап, чтобы подождать там и узнать новости. В комнате стоял неясный шум разговоров. Члены комитета Мадье де Монжо, Жюль Фавр и Карно ушли, передав мне через Шарамоля, что они будут на улице Мулен в доме № 10, у бывшего члена Учредительного собрания Ландрена, в округе 5-го легиона, так как там удобнее совещаться: они просили меня тоже прийти туда. Но я счел нужным остаться. Я обещал принять участие в предполагавшемся восстании в предместье Сен-Марсо. Я ждал известий от Огюста и не хотел далеко уходить; кроме того, если бы я ушел, представители левой, видя, что среди них не осталось ни одного члена комитета, могли бы разойтись, не приняв никакого решения, а я считал это нежелательным во многих отношениях.
Время шло, а прокламаций все не было. На другой день мы узнали, что весь тираж был захвачен полицией. Присутствовавший среди нас бывший офицер республиканского флота Курне взял слово. Что за человек был этот Курне, какая это была энергичная и решительная натура, мы увидим в дальнейшем. Он напомнил нам, что мы находимся здесь уже около двух часов, что об этом непременно узнает полиция, что первый долг членов левой — сохранить себя и возглавить народ; что в нашем положении необходимо из предосторожности почаще менять пристанище, и закончил, предложив нам совещаться в его мастерских, на улице Попенкур в доме № 82, в конце тупика, тоже поблизости от Сент-Антуанского предместья. Это предложение было принято, я послал известить Огюста о моем местонахождении и просил сообщить ему адрес Курне. Лафон остался на набережной Жемап, с тем чтобы послать нам прокламации, как только их принесут, и мы тут же отправились в путь.
Шарамоль взялся послать кого-то на улицу Мулен предупредить остальных членов комитета, что мы ждем их на улице Попенкур в доме № 82.
Мы шли, как и утром, небольшими отдельными группами. Набережная Жемап тянется вдоль левого берега канала Сен-Мартен; мы пошли по набережной. Мы встретили там только нескольких шедших поодиночке рабочих, которые оборачивались, когда мы проходили, и с удивлением смотрели нам вслед. Ночь была темная. Накрапывал дождь.
Перейдя через улицу Шмен-Вер, мы свернули направо и пошли по улице Попенкур. Там мы не встретили ни души, огни были потушены, все закрыто и погружено в безмолвие, как и в Сент-Антуанском предместье. Это длинная улица, мы шли долго, миновали казармы. Курне уже не было с нами, он отстал, чтобы предупредить кого-то из своих друзей и позаботиться об обороне на случай нападения на его дом. Мы стали искать дом № 82. Темнота была такая, что мы не могли различить номера домов. После долгих поисков в конце улицы направо мы увидели свет; это была мелочная лавка, на всей улице только она одна и была открыта. Кто-то из нас вошел и спросил хозяина, сидевшего за прилавком, где живет г-н Курне. «Напротив», — сказал торговец, показав пальцем на старые низкие ворота, видневшиеся на другой стороне улицы.
Мы постучали в ворота. Они отворились. Боден вошел первым, стукнул в окно привратницкой и спросил: «Здесь живет господин Курне?» Старушечий голос ответил: «Здесь».
Привратница уже лежала в постели. В доме все спали. Мы вошли.
Войдя и закрыв за собой ворота, мы очутились на маленьком квадратном дворе перед убогим двухэтажным строением; тишина как в монастыре, ни одного огонька в окнах; возле сарая — низенький вход, а за ним узкая, темная, извилистая лестница. «Мы ошиблись, — сказал Шарамоль, — не может быть, чтобы это был дом Курне».
Тем временем привратница, слыша шаги целой толпы под воротами, окончательно проснулась, зажгла ночник и показалась в окне; прижавшись лицом к стеклу, она испуганно смотрела на шестьдесят черных призраков, неподвижно стоявших во дворе.
Эскирос обратился к ней:
— Точно здесь живет господин Курне?
— Господин Корне? — ответила старушка. — Конечно.
Все объяснилось. Мы спрашивали «Курне», а лавочнику и привратнице послышалось «Корне». Случайно оказалось, что какой-то господин Корне как раз жил здесь.
В дальнейшем мы увидим, какую необыкновенную услугу оказала нам судьба.
Мы вышли, к великой радости бедной привратницы, и снова пустились на поиски. Ксавье Дюррье удалось, наконец, осмотреться и вывести нас из затруднительного положения.
Через несколько минут мы повернули налево и попали в довольно длинный глухой переулок, слабо освещенный старым масляным фонарем, какие прежде горели на улицах Парижа; потом опять повернули налево и через узкий проход вышли на широкий двор, застроенный навесами и загроможденный разными материалами. На этот раз мы были у Курне.
XIX
На краю могилы
Курне нас ожидал. Он провел нас в низкое помещение первого этажа, где топилась печь, стояли стол и несколько стульев. Но помещение было маленькое; когда вошли человек пятнадцать, там уже негде было повернуться; другим пришлось остаться во дворе.
— Здесь нельзя совещаться, — сказал Бансель.
— У меня наверху есть комната побольше, — ответил Курне, — но дом еще не достроен, и потому там не топлено и нет мебели.
— Ничего, — ответили ему, — пойдем наверх.
Мы поднялись во второй этаж по крутой и узкой деревянной лестнице и расположились в двух комнатах с очень низким потолком, из которых одна была довольно поместительна. Стены были выбелены известкой, вся мебель состояла из нескольких табуреток с соломенными сиденьями.
Мне крикнули: «Ведите собрание!»
Я сел на табурет в углу первой комнаты; по правую сторону от меня находился камин, по левую дверь на лестницу. Боден сказал мне: «У меня есть карандаш и бумага. Я буду вашим секретарем». Он взял другой табурет и сел рядом со мной.
Депутаты и прочие присутствовавшие, среди которых было несколько блузников, образовали перед Боденом и мной нечто вроде треугольника, прилегавшего к двум стенам зала, даже на лестнице толпились люди.
Казалось, что собрание вдохновляла единая душа. Лица были бледны, но глаза сверкали одной и той же великой решимостью. Во всех этих призраках пылало одно и то же пламя. Слова попросили несколько человек сразу. Я предложил, чтобы они сказали свои фамилии Бодену, который записал их и затем подал мне список.
Первым говорил один рабочий. Он сперва извинился за то, что выступает перед депутатами, не будучи членом Собрания. Его тут же перебили: «Нет! Нет! Народ и его депутаты едины. Говорите!» Он сказал, что взял слово только для того, чтобы снять всякое подозрение с чести своих собратьев, рабочих Парижа: он слышал, что некоторые депутаты сомневаются в них, но это несправедливо, — рабочие понимают всю тяжесть преступления Бонапарта и долг, который ложится на народ; они не будут глухи к призывам депутатов-республиканцев, и скоро все это увидят. Он говорил просто, с каким-то гордым смущением и честной прямотой. Он сдержал слово. Я встретил его на другой день среди защитников баррикады на улице Рамбюто.
Рабочий заканчивал свою речь, когда вошел Матье (от Дромы). «Важные новости!» — воскликнул он. Воцарилось глубокое молчание.
Как я уже сказал, до нас еще утром дошли слухи о том, что члены правой должны были собраться и что некоторые из наших друзей, очевидно, приняли участие в их заседании; это все, что мы знали. Матье (от Дромы) рассказал о событиях дня, об арестах, беспрепятственно произведенных на дому, о том, как было разогнано совещание у Дарю, на Бургундской улице, как вытолкали депутатов из зала Национального собрания, о низости председателя Дюпена, о полном бессилии Верховного суда, о ничтожестве Государственного совета, о жалком заседании в мэрии X округа, о провале Удино, о смещении президента, о том, как двести двадцать депутатов были арестованы и отведены на набережную Орсе. Он закончил мужественными словами: «Ответственность левой возрастает с каждым часом. Завтрашний день, по всей вероятности, будет решающим». Он заклинал Собрание принять необходимые меры.
Какой-то рабочий сообщил еще следующий факт: утром он был на улице Гренель, видел, как вели арестованных членов Собрания, и слышал, как один из командиров Венсенских стрелков сказал: «Теперь очередь господ красных депутатов. Им несдобровать!»
Один из сотрудников «Революсьон», Эннет де Кеслер, впоследствии мужественно отправившийся в изгнание, дополнил сведения, принесенные Матье (от Дромы). Он рассказал о попытке двух членов Собрания обратиться к так называемому министру внутренних дел Морни и об ответе упомянутого Морни: «Если я обнаружу депутатов на баррикадах, то расстреляю их всех до одного!» Кеслер привел и другие слова этого негодяя — о депутатах, отведенных на набережную Орсе: «Это последние депутаты, которых мы сажаем в тюрьму». Он сообщил нам, что в это самое время в Национальной типографии печатается плакат, оповещающий о том, что «всякий, кого застанут на каком-нибудь тайном совещании, будет немедленно расстрелян». На следующее утро в самом деле появился такой плакат.
Тогда поднялся Боден.
— Ярость переворота удвоилась, — воскликнул он. — Граждане, удвоим и мы нашу энергию!
Вдруг вошел какой-то блузник. Он запыхался от быстрой ходьбы; он сказал нам, что видел своими собственными глазами, как по улице Попенкур по направлению к тупику, где находился дом № 82, в молчании двигался батальон, что дом уже окружен и сейчас на нас нападут.
— Граждане депутаты! — воскликнул Курне. — У меня в тупике поставлены дозорные, которые вернутся и предупредят нас, если батальон повернет сюда. Ворота узкие, их можно забаррикадировать в мгновение ока. Нас здесь вместе с вами пятьдесят человек, мы вооружены и готовы на все, а при первом же выстреле нас станет двести. У нас есть патроны. Вы можете спокойно совещаться.
При этих словах он поднял правую руку; в его рукаве блеснул спрятанный там кинжал с широким лезвием; левой рукой он стукнул одну о другую рукоятки пары пистолетов, лежавших у него в кармане.
— Ну что ж, — сказал я, — заседание продолжается.
Затем один за другим выступили трое ораторов левой, да числа самых молодых и красноречивых, Бансель, Арно (от Арьежа) и Виктор Шоффур. Всем троим не давала покоя мысль, что наш призыв к оружию до сих пор еще не расклеен, что попытки поднять народ на бульваре Тампль и у кафе Бонвале не привели ни к каким результатам, что из-за насильственных мер, принимаемых Бонапартом, ни одного из наших решений не удалось осуществить, — а между тем слухи о собрании в мэрии X округа уже начали распространяться по Парижу, и таким образом могло создаться впечатление, что правая организовала сопротивление раньше левой. Их воодушевляло благородное соревнование, стремление действовать ради общего блага. Для них было радостью узнать о том, что где-то здесь, совсем близко, находится батальон, готовый к бою, что, быть может, через несколько минут польется их кровь.
Впрочем, советов было множество, а вместе с ними росла и неуверенность. У некоторых оставались еще иллюзии. Рабочий, стоявший рядом со мной у камина, сказал вполголоса своему товарищу, что рассчитывать на народ нельзя и драться «было бы безумием».
События этого дня несколько изменили мой взгляд на то, как надлежит действовать в таких трудных условиях. Молчание толпы в тот момент, когда Арно (от Арьежа) и я обратились к войскам, произвело на меня тяжелое впечатление, и если за несколько часов до этого, на бульваре Тампль, я был уверен в том, что народ будет драться, то теперь эта уверенность пошатнулась. Колебания Огюста заставили меня призадуматься; ассоциация краснодеревщиков, видимо, уклонялась от борьбы, безучастие Сент-Антуанского предместья было так же очевидно, как и инертность предместья Сен-Марсо, — механик должен был известить меня до одиннадцати часов, а было уже больше одиннадцати, — все надежды постепенно рушились. Тем более важно было, по моему мнению, разбудить Париж, поразить его необыкновенным зрелищем, смелыми действиями, проявлением энергии и силы объединенных депутатов левой, их отвагой и безграничной преданностью народу.
В дальнейшем мы увидим, что случайное стечение обстоятельств помешало этой мысли осуществиться так, как я ее понимал. Депутаты до конца исполнили свой долг, провидение, быть может, не до конца исполнило свой. Как бы то ни было, предположив, что мы не погибнем тут же в ночном бою и что у нас еще не все потеряно в будущем, я считал необходимым привлечь общее внимание к вопросу, как нам действовать на следующий день. Я стал говорить.
Я начал с того, что решительно сорвал покров, окутывавший действительное положение дел. Несколькими словами я обрисовал обстановку: конституция выброшена в сточную канаву, Собрание прикладами загнано в тюрьму, Государственный совет уничтожен, Верховный суд распущен полицейским агентом, — явно намечается победа Луи Бонапарта; Париж весь, словно сетью, покрыт войсками, повсюду оцепенение, все власти повержены, ни один договор не действителен. Остались только две силы: переворот и мы.
— Мы! А что такое мы? Мы, — сказал я, — это истина и справедливость! Мы — это верховная, суверенная власть, мы — это воплощенный народ, это право!
Я продолжал:
— С каждой минутой Луи Бонапарт все больше погрязает в своем преступлении. Для него нет ничего неприкосновенного, ничего святого; сегодня утром он силой ворвался во дворец представителей нации, несколько часов спустя он наложил руку на самих депутатов, завтра, может быть сейчас, он прольет их кровь. Он наступает на нас, будем же и мы наступать на него. Опасность растет, будем расти вместе с опасностью.
Слова мои были встречены одобрением. Я продолжал:
— Повторяю и настаиваю — не простим этому гнусному Бонапарту ни одного из его чудовищных преступлений. Раз он нацедил вина — я хочу сказать крови, — пусть выпьет. Мы не одиноки, мы — нация. Каждый из нас облечен верховной властью народа, Бонапарт не может посягнуть на нас, не поправ ее. Пусть же его картечь вместе с нашей грудью пробьет наши перевязи. Путь, избранный этим человеком, с неумолимой логикой приведет его к измене родине. Это ее он убивает сейчас! Ну что ж, если пуля исполнительной власти пробьет перевязь власти законодательной, — это будет явная измена родине. И это все должны увидеть!
— Мы готовы! — закричали все. — Скажите, какие меры, по вашему мнению, нужно принять?
— Никаких полумер, — ответил я, — нужно великое деяние! Завтра, если только мы выйдем отсюда сегодня ночью, встретимся все в Сент-Антуанском предместье…
Меня прервали: «Почему в Сент-Антуанском?»
— Да, — повторил я, — в Сент-Антуанском предместье! Я не могу поверить, чтобы сердце народа перестало так биться. Встретимся завтра все в Сент-Антуанском предместье. Напротив рынка Ленуар есть зал, где в тысяча восемьсот сорок восьмом году был клуб…
Мне закричали: «Зал Руазен!»
— Да, — подтвердил я, — зал Руазен. На свободе остались сто двадцать депутатов-республиканцев. Займем этот зал. Водворимся там во всей полноте и величии законодательной власти. Отныне мы представляем Собрание, все Собрание! Будем там заседать, будем совещаться в перевязях среди народа. Потребуем от Сент-Антуанского предместья, чтобы оно дало приют национальному представительству, чтобы оно укрыло верховную власть народа, отдадим народ под охрану народа, призовем его защищаться, в случае надобности прикажем ему это!
Какой-то голос прервал меня: «Народу не приказывают!»
— Нет, — воскликнул я, — когда дело касается общественного блага, когда дело касается будущего всех европейских наций, когда нужно защищать республику, свободу, цивилизацию, революцию, мы, представители всей нации, имеем право приказывать от имени французского народа народу Парижа. Соберемся же завтра в этом зале Руазен. В котором часу? Не слишком рано. Среди бела дня. Чтобы лавки были открыты, чтобы всюду ходили люди, чтобы началось движение пешеходов, чтобы на улице было много народа, чтобы нас видели, чтобы знали, кто мы, чтобы величие поданного нами примера всем бросалось в глаза и волновало каждое сердце. Сойдемся там все от девяти до десяти часов утра. Если не удастся почему-либо собраться в зале Руазен, мы займем первую попавшуюся церковь, манеж, сарай, любое помещение, где можно совещаться; если понадобится, то, как сказал Мишель де Бурж, мы будем заседать на перекрестке между четырьмя баррикадами. Но я пока назначаю зал Руазен. Не забывайте, во время такого кризиса перед народом не должно быть пустоты. Это пугает его. Где-то должно быть правительство, и об этом все должны знать. Мятежники в Елисейском дворце, правительство в Сент-Антуанском предместье; левая — это правительство, Сент-Антуанское предместье — это крепость; вот чем завтра нужно поразить Париж. Итак, в зал Руазен! Там, среди бесстрашной толпы рабочих этого большого района Парижа, утвердившись в предместье, как в крепости, одновременно законодательствуя и руководя борьбой, мы используем все возможные средства обороны и нападения, мы будем издавать прокламации и строить баррикады из булыжников мостовой; мы заставим женщин писать воззвания, пока мужчины будут сражаться; мы декретом заклеймим Луи Бонапарта, заклеймим его сообщников, мы объявим изменниками генералов, мы поставим вне закона все преступление в целом и всех преступников, мы призовем граждан к оружию, мы заставим армию исполнить ее долг, мы грудью встанем перед Бонапартом, грозные, как живая республика, мы сразимся с ним, и с нами будет и сила закона и сила народа; мы сокрушим этого презренного мятежника и восторжествуем, как великая законная власть, как великая власть революционная!
Говоря, я все больше опьянялся своей идеей. Мое воодушевление передалось собранию. Меня приветствовали. Я заметил, что слишком далеко зашел в своих надеждах, увлекся и увлек других, и рисовал им успех возможным, почти что легким в такой момент, когда никому нельзя было обольщаться иллюзиями. Действительность была мрачная, и я должен был об этом сказать. Я подождал, пока восстановилась тишина, и дал знак рукой, что хочу добавить еще несколько слов. Я продолжал, понизив голос:
— Послушайте, вы должны ясно отдать себе отчет в том, что вы делаете. На одной стороне сто тысяч солдат, семнадцать батарей полевой артиллерии, шесть тысяч крепостных орудий, склады, арсеналы, боеприпасов столько, что их хватило бы на поход в Россию; на другой стороне сто двадцать депутатов народа, тысяча или тысяча двести патриотов, шестьсот ружей, по два патрона на человека, ни одного барабана, чтобы бить сбор, ни одной колокольни, чтобы ударить в набат, ни одной типографии, чтобы напечатать прокламации, разве что где-нибудь в подвале два-три типографских станка, на которых можно наспех, украдкой оттиснуть плакат; смертная казнь тому, кто выворотит булыжник из мостовой, смертная казнь за скопление на улицах, смертная казнь за тайные сборища, смертная казнь за расклейку призыва к оружию; если вас застанут в бою, — смерть; если вас захватят после боя, — каторга или ссылка; на одной стороне армия и с ней преступление, на другой горсть людей и с ними право. Вот какова эта борьба. Готовы ли вы на нее?
Ответом был единодушный крик: «Готовы!»
Этот крик вырвался не из уст, это был крик души. Боден, все еще сидевший рядом со мной, молча пожал мне руку.
Тут же условились встретиться на другой день во вторник, между девятью и десятью часами утра, в зале Руазен; договорились собираться поодиночке или небольшими группами и известить о назначенной встрече отсутствующих. После этого оставалось только разойтись. Было, вероятно, около полуночи.
Вошел один из дозорных Курне.
— Граждане депутаты, — сказал он, — батальон ушел. Улица свободна.
Батальон этот, вышедший, вероятно, из казарм, расположенных очень близко, на улице Попенкур, целых полчаса простоял против тупика, затем вернулся в казармы. Уж не сочли ли несвоевременным и опасным вести нападение ночью, в этом узком тупике, среди грозного квартала Попенкур, где в июне 1848 года так долго не могли подавить восстание? Известно только, что солдаты обыскали несколько соседних домов. По сведениям, полученным позже, за нами, когда мы вышли из дома № 2 по набережной Жемап, следовал полицейский агент; он видел, как мы входили в дом, где жил некий Корне, и сразу же отправился в префектуру донести, где мы укрываемся. Батальон, посланный, чтобы захватить нас, окружил этот дом, обшарил его сверху донизу, ничего не нашел и повернул восвояси.
Это почти полное совпадение фамилий «Корне» и «Курне» было причиной тому, что ищейки переворота потеряли след. Как видите, нас выручил только случай.
Я стоял у дверей с Боденом, уславливаясь с ним насчет завтрашней встречи, как вдруг ко мне подошел молодой человек с каштановой бородкой, со светскими манерами и прекрасно одетый, — я заметил его, еще когда говорил свою речь.
— Господин Виктор Гюго, — спросил он, — где вы собираетесь ночевать?
Я об этом еще не подумал.
Возвращаться домой было бы весьма неразумно.
— Право, не знаю, — ответил я.
— Хотите пойти ко мне?
— С удовольствием.
Он назвал себя. Это был де Лар…, он знал семью жены моего брата Абеля, Монферье, родственников Камбасересов, и жил на улице Комартен. При временном правительстве он был префектом. Его ждала карета. Мы сели; я дал адрес де Лар… Бодену, который собирался ночевать у Курне, чтобы он послал за мной, если придет известие о восстании в предместье Сен-Марсо или еще где-нибудь. Но я уже не надеялся, что оно начнется этой ночью, и был прав.
Приблизительно через четверть часа после того, как депутаты разошлись и мы уехали с улицы Попенкур, Жюль Фавр, Мадье де Монжо, де Флотт и Карно, за которыми мы послали на улицу Мулен, явились к Курне вместе с Шельшером, Шарамолем, д'Обри (от Севера) и Бастидом. У Курне еще оставалось несколько депутатов. Некоторые, как, например, Боден, предпочли ночевать у него. Нашим товарищам сообщили о решении, принятом по моему совету, и о встрече в зале Руазен, но, по-видимому, позабыли, в какой час была назначена эта встреча. Боден тоже не помнил этого точно, и наши товарищи вообразили, что нужно явиться не в девять часов утра, а в восемь. Виновата в этом только чья-то память, и упрекать здесь нельзя никого. Это помешало осуществить мой план, водворить Собрание в предместье и вступить в бой с Луи Бонапартом, зато повлекло за собой героическое событие — баррикаду на улице Сент-Маргерит.
XX
Похороны великой годовщины
Таков был этот первый день. Рассмотрим его внимательно. Он этого заслуживает: это — годовщина Аустерлица; племянник чествует дядю. Аустерлиц — самая славная битва в истории; племянник поставил себе задачу — совершить подлость, столь же черную, сколь эта битва была блистательна. Он достиг цели.
Первый день, за которым наступят другие, уже содержите себе все, что будет дальше. Из всех попыток повернуть историю вспять эта — самая страшная. Невиданное доселе крушение цивилизации. То, что было зданием, стало развалинами; земля покрылась обломками. В одну ночь исчезли неприкосновенность закона, право гражданина, достоинство судьи, честь солдата. Все было чудовищно извращено. Присяга стала клятвопреступлением, знамя — грязной тряпкой, армия — шайкой разбойников, правосудие — злодейством, закон — насилием, управление страной — мошенничеством, Франция — притоном. И это называется — спасти общество.
Так на большой дороге бандит спасает путника.
Франция шла своей дорогой, Бонапарт остановил ее.
Предшествовавшее преступлению лицемерие по своему безобразию не уступает дерзости, которая за ним последовала. Нация была доверчива и спокойна. Ей нанесли внезапный и наглый удар. В истории нет ничего подобного Второму декабря. Никакой славы, одна только мерзость. Никаких прикрас. Те, кто говорил о своей честности, теперь объявляют себя подлецами, — что может быть проще? Почти непостижимая удача этого дня доказала, что политика может быть предельно непристойной. Измена вдруг задрала свой грязный подол. Она сказала: «Вот я какая!» И мы увидели гнусную душу во всей ее наготе. Луи Бонапарт появился без маски, и обнаружилась мерзость, он сорвал с себя покровы, и обнаружилась клоака.
Вчера президент республики, сегодня каторжник. Он клялся, он клянется еще и теперь, но уже совсем другим тоном. Клятва превратилась в проклятия. Словно женщина, которая вчера еще твердила о своей невинности, а сегодня, смеясь над дураками, пошла в публичный дом. Представьте себе Жанну д'Арк, сознавшуюся в том, что она Мессалина. Вот что такое Второе декабря.
В этом преступном деле замешаны женщины. В этом злодеянии участвуют и будуар и каторга. К тяжелому смраду пролитой крови примешивается неясный аромат пачули. Соучастники этого разбоя — люди обходительные, Ромье, Морни; запутавшись в долгах, они пришли к преступлению.
Европа была ошеломлена. Это был удар грома, подготовленный рукою плута. Нужно признаться, гром иногда попадает в дурные руки. Пальмерстон, этот изменник, одобрил свершившееся; старый Меттерних, погруженный в раздумье на своей Ренвегской вилле, покачал головой. Что до Сульта, первого после Наполеона героя Аустерлица, он сделал то, что должен был сделать: в день преступления он умер. Увы! Слава Аустерлица тоже.
ВТОРОЙ ДЕНЬ
БОРЬБА
I
Меня разыскивает полиция
Чтобы попасть с улицы Попенкур на улицу Комартен, нужно пересечь весь Париж. Повсюду, казалось, царило полное спокойствие. Был уже час ночи, когда мы приехали к де Лар… Фиакр остановился у калитки, которую де Лар… открыл своим ключом: направо, под аркой, лестница вела во второй этаж отдельного флигеля, где жил де Лар…, он провел меня к себе.
Мы вошли в небольшую гостиную, очень богато обставленную, освещенную ночником; наполовину задернутая портьера из гобелена отделяла ее от спальни. Де Лар… вошел туда и через несколько минут вернулся в сопровождении прелестной белокурой женщины в капоте; красивая, свежая, с распущенными волосами и нежным цветом лица, удивленная и все же приветливая, она смотрела на меня с тем растерянным видом, который придает юному взгляду еще большую прелесть. С минуту она оставалась на пороге комнаты, улыбающаяся, полусонная, оторопевшая, немного испуганная, и переводила глаза с мужа на меня; она, вероятно, никогда не думала о том, что такое гражданская война, которая теперь, внезапно, среди ночи, ворвалась к ней в дом в лице этого просящего приюта незнакомца.
Я стал извиняться перед г-жой де Лар…; она отвечала с милым добродушием; эта очаровательная женщина, которую мы подняли с постели среди ночи, воспользовалась случаем, чтобы приласкать хорошенькую двухлетнюю девочку, спавшую в колыбельке в гостиной, и, целуя ребенка, она простила разбудившему ее изгнаннику.
Не переставая разговаривать, де Лар… развел большой огонь в камине, а его жена устроила мне постель из подушек, плаща мужа и своей шубки; стоявший перед камином диван, где мне предстояло спать, был для меня немного короток, но мы приставили к нему кресло.
Во время совещания на улице Попенкур, где я только что председательствовал, Боден дал мне свой карандаш, чтобы записать несколько фамилий. Этот карандаш еще был при мне. Я написал записку жене, а госпожа де Лар… взялась лично передать ее на следующее утро госпоже Гюго. Роясь в карманах, я нашел купон на ложу в Итальянскую Оперу и отдал его госпоже де Лар…
Я смотрел на эту колыбель, на эту прекрасную и счастливую молодую чету и на себя: волосы мои были растрепаны, одежда в беспорядке, башмаки покрыты грязью, в голове — мрачные мысли; я казался самому себе совой, попавшей в соловьиное гнездо.
Через несколько минут г-н и г-жа де Лар… ушли в свою спальню, полураздвинутая портьера задернулась, я лег, не раздеваясь, на диван, и нарушенный мною безмятежный покой снова воцарился в уютном гнездышке.
Можно спать накануне сражения двух армий, но накануне гражданской битвы заснуть невозможно. Я слышал бой часов на ближней церкви; всю ночь под окном гостиной, где я лежал, по улице проезжали кареты, увозившие из Парижа напуганных событиями людей; они быстро, непрерывно следовали одна за другой; можно было подумать, что это разъезд после бала. Не в силах заснуть, я встал. Я немного раздвинул кисейную занавеску окна и пытался рассмотреть, что делается на улице; там царил полный мрак. Звезд не было, по ночному зимнему небу стремительно бежали бесформенные тучи. Дул зловещий ветер. Этот ветер, проносившийся в небесах, был подобен дыханию стихий.
Я смотрел на спящего ребенка.