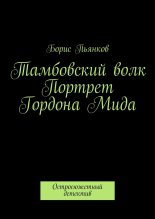История Геродот

Двое чернорабочих, посланных полицейским комиссаром, подняли тело Бодена с деревянной койки и отнесли к фиакру. Его поместили в глубине кареты, закрыв ему лицо и с головы до ног закутав в саван. Оказавшийся тут же рабочий одолжил свой плащ, который набросили на труп, чтобы не привлекать внимания прохожих. Госпожа Л… села возле мертвого тела, Жендрие напротив, молодой Боден рядом с Жендрие. Следом за ними ехал другой фиакр, где сидела вторая родственница Бодена и студент-медик по фамилии Дютеш.
Тронулись в путь. По дороге голова трупа от тряски качалась из стороны в сторону; кровь снова потекла из раны и образовала большие пятна на белой простыне. Жендрие протянул руку и, упершись в грудь мертвеца, не давал ему свалиться вперед; госпожа Л… поддерживала его сбоку.
Кучеру велели ехать шагом; переезд продолжался больше часа.
Когда подъехали к дому № 88 по улице Клиши и стали выносить тело из фиакра, у дверей собрались любопытные. Сбежались соседи. Брат Бодена с помощью Жендрие и Дютеша отнесли тело в пятый этаж, в квартиру убитого. Это был новый дом, и он жил там только несколько месяцев.
Они отнесли Бодена в его комнату, прибранную, имевшую такой же вид, как утром 2 декабря, когда он ушел из дому. Постель была не смята, так как он не ложился в предыдущую ночь. На столе лежала книга, раскрытая на той странице, где он прервал чтение. Они развернули саван, и Жендрие ножницами разрезал рубашку и фланелевую фуфайку. Тело вымыли. Пуля вошла в край правой надглазной дуги и вышла со стороны затылка. Рана над глазом не кровоточила, там образовалась опухоль; из отверстия в затылке вытекли потоки крови. На мертвеца надели белое белье, постелили чистую постель, подложили под голову подушку, оставив лицо открытым. В соседней комнате рыдали женщины.
Жендрие однажды уже оказал подобную услугу бывшему члену Учредительного собрания, Жаму Демонтри. В 1850 году Жам Демонтри умер изгнанником в Кельне. Жендрие поехал в Кельн, пошел на кладбище и добился разрешения вырыть тело Жама Демонтри. Он распорядился извлечь сердце Демонтри, набальзамировал его и, положив в серебряный сосуд, привез в Париж. Гора поручила ему вместе с Шоле и Жуаньо отвезти это сердце в Дижон, на родину Демонтри, и устроить ему торжественные похороны. Эти похороны были запрещены приказом Луи Бонапарта, в то время президента республики. Погребение смелых и преданных людей не нравилось Луи Бонапарту, ему нравилась их смерть.
Когда Бодена положили на постель, в комнату вошли женщины, и вся семья стала плакать, сидя вокруг тела убитого. Жендрие призывали другие обязанности, он вышел вместе с Дютешем. У подъезда собралась толпа.
Какой-то человек в блузе, со шляпой на голове, поднявшись на тумбу, ораторствовал, превознося переворот, восстановление всеобщего голосования, отмену закона 31 мая, разгон «двадцатипятифранковых»: «Луи Бонапарт правильно поступил» и т. д. Остановившись на пороге, Жендрие возвысил голос:
— Граждане! Там, наверху, лежит Боден, депутат народа; его убили, когда он защищал народ! Боден ваш депутат! Слышите? Вы перед его домом. Там, наверху, он истекает кровью на своей постели, а этот человек смеет прославлять его убийцу! Граждане, хотите, я скажу вам, как зовут этого человека? Его имя — Полиция. Стыд и позор изменникам и трусам! Честь праху того, кто погиб за вас!
И, растолкав толпу, Жендрие схватил этого человека за шиворот и, ударом руки сбросив с него шапку, крикнул: «Шапку долой!»
VI
Декреты депутатов, оставшихся, на свободе
Текст приговора, вынесенного, как мы думали, Верховным судом, принес нам бывший член Учредительного собрания Мартен (от Страсбурга), адвокат при кассационном суде. Тогда же мы узнали о том, что происходило на улице Омер. Сражение началось, нужно было поддерживать и вдохновлять бойцов, нужно было без устали продолжать вместе с вооруженным сопротивлением сопротивление законное. Депутаты, собравшиеся накануне в мэрии X округа, издали декрет об отрешении Луи Бонапарта от должности, но этот декрет, исходивший от Собрания, почти сплошь состоявшего из непопулярных членов большинства, не мог оказать действия на массы; нужно было, чтобы левая пересмотрела его, выпустила от своего имени, придала ему более энергичный и революционный характер, а также использовала приговор Верховного суда, считавшийся действительным, поддержала этот приговор и обеспечила приведение его в исполнение.
В нашем призыве к оружию мы объявили Луи Бонапарта вне закона. Декрет об отрешении президента от должности, принятый и подписанный нами, явился полезным дополнением к объявлению вне закона, довершая революционный акт актом юридическим.
Комитет сопротивления созвал депутатов-республиканцев.
В квартире Греви, где мы заседали, было слишком тесно, поэтому мы условились собраться в доме № 10 на улице Мулен, хотя и были предупреждены, что полиция уже побывала там. Но у нас не было выбора; во время революции соблюдать осторожность невозможно, и скоро убеждаешься в том, что это бесполезно. Рисковать, рисковать каждую минуту — таков закон великих деяний, иногда определяющих великие события. Постоянно изобретать всё новые средства, способы, приемы, возможности, не размышлять о мелочах, но бить сразу в цель, не зондировать почву, не укрываться от опасности, но идти ей навстречу, чтобы добиться успеха, сразу ставить на карту все: час, место, благоприятный случай, друзей, семью, свободу, состояние, жизнь — в этом заключается революционная борьба.
К трем часам около шестидесяти депутатов собрались на улице Мулен, в доме № 10, в большой гостиной, смежной с маленьким кабинетом, где заседал Комитет сопротивления.
Был хмурый декабрьский день; казалось, что уже наступил вечер. Издатель Этцель, — которого можно было бы также назвать поэтом Этцелем, — человек благородного ума и большого мужества; будучи главным секретарем министерства иностранных дел при Бастиде, он, как известно, проявил редкие политические способности. Он предоставил себя в наше распоряжение, так же как пришедший к нам утром смелый и преданный родине Энгре. Этцель знал, что больше всего мы нуждаемся в типографии; мы были немы, говорил только Луи Бонапарт; Этцель пошел к одному владельцу типографии, и тот сказал ему: «Примените силу, приставьте мне к груди пистолет, и я напечатаю все, что вы захотите». Оставалось только собрать нескольких преданных друзей, силой захватить типографию, забаррикадироваться в ней и в случае необходимости выдержать осаду, покуда будут печататься наши прокламации и декреты; это и предложил нам Этцель. Следует рассказать, как он прибыл на место нашей встречи. Подходя к подъезду, в мглистом свете унылого декабрьского дня он увидел неподвижно стоявшего поодаль человека, который словно кого-то подстерегал. Он подошел к этому человеку и узнал бывшего полицейского комиссара Собрания, Иона.
— Что вы здесь делаете? — резко спросил Этцель. — Уж не пришли ли вы нас арестовать? В таком случае вот что у меня для вас приготовлено. — И он вытащил из кармана пару пистолетов.
Ион ответил улыбкой:
— Я действительно караулю, но не во вред, а на пользу вам, — я охраняю вас.
Зная о собрании на улице Ландрен и боясь, что нас арестуют, Ион добровольно взял на себя обязанности нашего дозорного.
Этцель уже сообщил свой план депутату Лабрусу, который должен был сопровождать его и в этом опасном деле оказать ему моральную поддержку от имени Собрания. Первая их встреча, назначенная в кафе Кардиналь, сорвалась, поэтому Лабрус оставил хозяину кафе для Этцеля записку следующего содержания: «Г-жа Элизабет ждет г-на Этцеля на улице Мулен, в доме № 10». По этой записке Этцель и явился.
Мы приняли предложение Этцеля, и было решено, что с наступлением темноты депутат Версиньи, исполнявший обязанности секретаря комитета, снесет ему наши прокламации, декреты, известия, которые мы получим, и все, что мы найдем нужным опубликовать. Условились, что Этцель будет ждать Версиньи на тротуаре в конце улицы Ришелье, около кафе Кардиналь.
Тем временем Жюль Фавр, Мишель де Бурж и я окончательно отредактировали декрет, объединявший отрешение президента от должности, постановленное правой, и принятое нами объявление президента вне закона. Мы вернулись в гостиную, чтобы прочитать этот декрет депутатам и собрать их подписи.
В эту минуту дверь отворилась, и вошел Эмиль де Жирарден. Со вчерашнего дня мы его еще не видели.
Если рассеять туман, окутывающий каждого, кто участвует в борьбе партий, туман, на расстоянии искажающий и затемняющий облик человека, Эмиль де Жирарден предстанет перед нами как выдающийся мыслитель, как писатель энергичный, искусный, сильный, логичный, точно выражающий свои мысли, журналист, в котором, как во всех крупных журналистах, чувствуется государственный человек. Эмилю де Жирардену мы обязаны памятным шагом вперед — дешевой газетой. У Эмиля де Жирардена есть великий дар — упрямство мысли. Эмиль де Жирарден — страж общественных интересов, для него газета — дозорный пост; он выжидает, смотрит, подстерегает, ведет разведку, наблюдает, дает сигнал при малейшей тревоге и открывает огонь своим пером; он готов вести борьбу во всех видах: сегодня он часовой, завтра генерал. Как все глубокие умы, он понимает, видит, определяет, он, так сказать, осязает великое и чудесное единство этих трех слов — революция, прогресс, свобода: он хочет революции, но прежде всего путем прогресса, он хочет прогресса, но единственно посредством свободы. Можно и, на наш взгляд, иногда нужно спорить с ним о том, каким путем идти, как поступать, какую занять позицию, но нельзя ни отрицать его храбрость, которую он проявил в самых различных обстоятельствах, ни отвергать его цели — улучшение морального и материального состояния всех граждан. Эмиль де Жирарден больше демократ, чем республиканец, больше социалист, чем демократ; в тот день, когда эти три идеи: демократия, республика, социализм, иными словами принцип, форма и применение, уравновесятся в его уме, все его колебания исчезнут. У него уже есть сила, будет и постоянство.
В течение этого заседания, как мы увидим, я не всегда соглашался с Эмилем де Жирарденом. Тем более я должен здесь отметить, как высоко я ценю этот светлый и мужественный ум. Что бы о нем ни говорили, Эмиль де Жирарден один из тех людей, которые делают честь современной прессе; он прекраснейшим образом сочетает в себе искусство борца и невозмутимость мыслителя.
Я подошел к нему и спросил:
— Осталось ли у вас хоть несколько рабочих в «Прессе»?
Он ответил:
— Наши станки опечатаны и охраняются подвижной жандармерией, но у меня есть пять или шесть преданных рабочих; можно изготовить несколько плакатов литографским способом.
— Ну так напечатайте, — продолжал я, — наши декреты и прокламации.
— Я напечатаю, — ответил он, — всё, кроме призыва к оружию.
Он добавил, обращаясь ко мне:
— Я знаю вашу прокламацию. Это боевой клич, этого я не могу напечатать.
Раздались негодующие возгласы. Тогда он объявил нам, что со своей стороны тоже составляет прокламации, но в совершенно ином духе. По его мнению, с Луи Бонапартом не следует бороться оружием, а нужно создать вокруг него пустоту. Из вооруженной борьбы он выйдет победителем, пустота окажется для него гибельной. Эмиль де Жирарден заклинал нас помочь ему изолировать «клятвопреступника Второго декабря».
— Окружим его пустотой! — воскликнул Эмиль де Жирарден. — Объявим всеобщую забастовку! Пусть купец перестанет продавать, потребитель — покупать, рабочий — работать, мясник — бить скот, булочник — выпекать хлеб; пусть бастуют все, вплоть до Национальной типографии; пусть Луи Бонапарт не найдет ни одного наборщика, чтобы набрать «Монитер», ни одного тискальщика, чтобы его оттиснуть, ни одного расклейщика, чтобы наклеить газету на стену! Изолируем этого человека! Пусть он будет одинок, пусть вокруг него царит пустота! Пусть нация отступится от него. Всякая власть, от которой отступается нация, падает, словно дерево, подрубленное у корня. Луи Бонапарт, покинутый всеми в своем преступлении, обратится в ничто. Чтобы низвергнуть его, достаточно прекратить вокруг него всякую деятельность. Напротив, если вы начнете стрельбу, — вы только укрепите его власть. Армия пьяна, народ ошеломлен и не хочет ни во что вмешиваться, буржуазия боится президента, народа, вас, боится всех! Победа невозможна. Вы храбро идете напролом, вы рискуете головой, это прекрасно; вы увлекаете за собой две или три тысячи бесстрашных людей, уже льется их кровь, смешавшись с вашей. Это героизм, согласен. Но это не политика. Что до меня, я не напечатаю призыва к оружию, и я отказываюсь участвовать в сражении. Организуем всеобщую забастовку!
То была высокомерная и гордая позиция; но я чувствовал, что план этот, к сожалению, неосуществим. Жирарден обычно видит обе стороны проблемы — теоретическую и практическую. Здесь, казалось мне, практическая сторона не выдерживала критики.
Слово взял Мишель де Бурж. Со свойственной ему строгой логикой и быстротою мысли Мишель де Бурж подчеркнул то, что было для нас самым неотложным: он говорил о преступлении Луи Бонапарта, о необходимости восстать против этого преступления. Это была скорее беседа, чем прения; но Мишель де Бурж, а затем Жюль Фавр, выступавший после него, были в высшей степени красноречивы. Жюль Фавр, способный оценить мощный ум Жирардена, охотно согласился бы с его идеей, если бы она была осуществима; мысль о всеобщей забастовке, о создании пустоты вокруг этого человека казалась ему грандиозной, но неприменимой на практике. Нация не может так внезапно остановиться. Даже пораженная в самое сердце, она продолжает жить. Повседневная деятельность людей, эта физическая основа общественной жизни, продолжается даже тогда, когда прекращается политическая деятельность. Что бы ни говорил Эмиль де Жирарден, всегда найдется мясник, который будет бить скот, булочник, который будет печь хлеб, — есть-то все-таки нужно! Заставить всех трудящихся сидеть сложа руки — химера, говорил Жюль Фавр, несбыточная мечта! Народ может сражаться три, четыре дня, неделю; общество не может ждать до бесконечности. Разумеется, положение сейчас очень тяжелое, разумеется, оно трагично, льется кровь, но кто создал это положение? Луи Бонапарт. А мы, мы должны принять его таким, какое оно есть, и только.
Эмиль де Жирарден, целиком захваченный своей идеей, отстаивал ее твердо и логично. Некоторые, слушая его, могли поколебаться. У него не было недостатка в доводах, его мощный, неистощимый ум находил их с легкостью. Я же видел только свой долг, горящий передо мной, как факел.
Я перебил его, воскликнув:
— Теперь уже поздно рассуждать о том, что нужно делать. То, к чему обязывал нас долг, уже сделано. Переворот бросил перчатку, левая подняла ее, вот и все. Второе декабря — подлый, дерзкий, неслыханный вызов демократии, цивилизации, свободе, народу, Франции. Повторяю, мы подняли эту перчатку; мы — закон, но закон, воплощенный в живых людях, которые в случае надобности могут вооружиться и пойти в бой. Ружье в наших руках — это протест. Не знаю, победим ли мы, но мы должны протестовать. Прежде всего протестовать в парламенте; если парламент закрыт, протестовать на улицах; если оцепят улицу, протестовать в изгнании; если мы умрем в изгнании, протестовать в могиле. Вот наша роль, наша задача, наша миссия. Мандат депутата растяжим; народ вручает его, события его расширяют.
Пока мы совещались, пришел наш коллега, Наполеон Бонапарт, сын бывшего короля Вестфальского. Он молча слушал, затем взял слово. Энергично, решительно, с искренним и благородным негодованием он осудил преступление своего двоюродного брата, но заявил, что, по его мнению, достаточно письменного протеста, протеста депутатов, протеста Государственного совета, протеста Верховного суда, протеста прессы; такой протест, говорил он, будет единодушным и вразумит Францию, — никакая другая форма сопротивления не сможет объединить весь народ. Он напомнил о том, что всегда считал конституцию неудачной, он боролся против нее в Учредительном собрании с первой же минуты, не станет защищать ее и в последний день и, конечно, не прольет за нее ни капли крови, но если конституция мертва, то республика жива, и нужно спасать не конституцию, уже превратившуюся в труп, а самую сущность, республику!
Посыпались бурные возражения. Бансель, молодой, пылкий, красноречивый, запальчивый, преданный своим убеждениям, вскричал, что сейчас нужно говорить не о недостатках конституции, а о гнусности совершенного преступления, о вопиющей измене, о нарушении клятвы; он сказал, что можно было голосовать против конституции в Учредительном собрании и все-таки защищать ее теперь, перед лицом узурпатора, что это вполне логично и что многие из нас поступают именно так. Он привел в пример меня. «Доказательством, — оказал он, — может служить Виктор Гюго». Он закончил следующими словами:
— Предположим, что вы присутствовали при постройке корабля, вы находили недостатки в его конструкции, давали советы, которые не были приняты во внимание. И все же вам пришлось вступить на борт этого судна, вместе с вами взошли ваши дети и братья, ваша мать тоже отправилась с вами. Является пират с топором в одной руке и факелом в другой, чтобы сделать пробоину и поджечь корабль. Экипаж хочет защищаться, хватается за оружие. Неужели вы окажете экипажу: «Я считаю, что этот корабль плохо построен, и не буду препятствовать его разрушению»?
— В подобном случае, — добавил Эдгар Кине, — тот, кто не на стороне корабля, на стороне пирата.
Со всех сторон закричали:
— Декрет! Читайте декрет!
Я стоял, прислонившись к камину. Наполеон Бонапарт подошел и сказал мне на ухо:
— Вы начинаете сражение, которое заранее проиграно.
Я ответил ему:
— Я не забочусь об успехе, я исполняю свой долг.
Он возразил:
— Вы политический деятель и, следовательно, должны думать об успехе. Повторяю вам, пока вы не зашли слишком далеко: исход этого сражения предрешен.
Я продолжал:
— Если мы вступим в борьбу, сражение будет проиграно: вы утверждаете это, я тоже так думаю; но если мы не станем бороться, погибнет честь. Лучше проиграть сражение, чем потерять честь.
Он помолчал, потом взял меня за руку.
— Пусть так, — сказал он, — но послушайте. Вы лично подвергаетесь большой опасности. Из всех членов Собрания президент особенно ненавидит именно вас. Вы с высоты трибуны назвали его Наполеоном Малым; поймите, такие вещи не забываются. Кроме того, призыв к оружию продиктован вами, это всем известно. Если вас арестуют, вы погибли. Вас расстреляют на месте или, в лучшем случае, отправят в ссылку. Есть у вас безопасное убежище на эту ночь?
Об этом я еще не подумал.
— И в самом деле, нет, — ответил я.
Он продолжал:
— Ну так приходите ко мне. Пожалуй, в Париже есть только одно место, где вы будете в безопасности, — это мой дом. Там вас не станут искать. Приходите днем, ночью, когда вам будет угодно; я буду ждать вас и сам вам открою. Я живу на Алжирской улице, дом номер пять.
Я поблагодарил; это было благородное и сердечное предложение, оно меня тронуло. Я не воспользовался им, но не забыл о нем.
Снова раздались крики: «Читайте же декрет. Садитесь, садитесь!» Перед камином стоял круглый стол; принесли лампу, перья, чернильницу и бумагу; члены комитета поместились за этим столом; депутаты расселись вокруг них на диванах и креслах и на всех стульях, какие только можно было найти в соседних комнатах. Некоторые искали глазами Наполеона Бонапарта. Его уже не было.
Один из депутатов предложил, чтобы мы прежде всего провозгласили себя Национальным собранием и немедленно избрали председателя и бюро. Я возразил, что нам незачем провозглашать себя Собранием: мы и так являемся Собранием и юридически и фактически, и Собранием в полном составе — ведь наши товарищи отсутствуют только в результате насилия; Национальное собрание, даже изувеченное переворотом, должно сохранить свою целостность; нужно оставить того же председателя и то же бюро, какие были до переворота, избрать же других значит сыграть на руку Луи Бонапарту и как бы признать роспуск Собрания; нам не следует делать ничего подобного; наши декреты должны быть опубликованы не за подписью председателя, кто бы им ни был, а за подписью всех членов левой, оставшихся на свободе; только при этом условии декреты станут для народа законом и произведут должное действие. Решили не избирать председателя. Ноэль Парфе предложил начинать наши декреты и акты не с обычной формулы: «Национальное собрание постановляет», а с формулы: «Народные депутаты, оставшиеся на свободе, постановляют», и т. д. — таким образом мы сохраним весь авторитет, связанный со званием народных депутатов, и будем действовать независимо от наших арестованных товарищей. Эта формула была хороша также и тем, что она отделяла нас от правой. Народ знал, что из всех депутатов на свободе остались только члены левой. Предложение Ноэля Парфе было принято.
Я прочел декрет об отрешении от должности. Вот его текст:
ДЕКЛАРАЦИЯНародные депутаты, оставшиеся на свободе, на основании статьи 68-й конституции, гласящей:
«Ст. 68. Всякий акт, посредством которого президент республики распускает Собрание, отсрочивает его заседания или препятствует осуществлению его полномочий, является государственным преступлением. На этом основании президент считается отрешенным от должности, граждане обязаны отказывать ему в повиновении; исполнительная власть по праву переходит к Национальному собранию; члены Верховного суда обязаны собраться немедленно под страхом обвинения в государственном преступлении; они обязаны созвать присяжных в назначенное ими место и приступить к суду над президентом и его сообщниками»,
Постановляют:
Статья первая. Луи Бонапарт отрешается от должности президента республики.
Статья 2. Все граждане и лица, занимающие общественные должности, обязаны отказывать ему в повиновении под страхом быть признанными его сообщниками.
Статья 3. Приговор Верховного суда от 2 декабря, объявляющий Луи Бонапарта виновным в государственной измене, будет обнародован и приведен в исполнение. В виду этого гражданским и военным властям предписывается, под страхом обвинения в государственном преступлении, оказывать содействие приведению в исполнение вышеуказанного приговора.
Дано в непрерывном заседании, 3 декабря 1851 года.
Когда декрет был прочитан и принят единогласно, мы подписали его, и депутаты столпились вокруг стола, чтобы присоединить свои подписи к нашим. Сен заметил, что процедура эта займет слишком много времени, что к тому же нас присутствует не более шестидесяти, так как многие из членов левой разосланы по восставшим районам. Он спросил, не найдет ли возможным комитет, имеющий все полномочия от левой, поставить под декретом подписи всех без исключения депутатов-республиканцев, оставшихся на свободе, как имеющихся налицо, так и отсутствующих. Мы ответили, что действительно декрет, подписанный всеми, более соответствует своей цели. К слову сказать, я первый высказал эту мысль. У Банселя в кармане как раз был старый номер «Монитера», где был напечатан перечень депутатов по партиям. Оттуда вырезали список членов левой, зачеркнули имена тех, кто был арестован, и присоединили этот список к декрету.[12]
В этом списке мне бросилось в глаза имя Эмиля де Жирардена. Он все еще был здесь.
— Вы подписываете декрет? — спросил я его.
— Без колебаний.
— В таком случае вы согласны его напечатать?
— Хоть сейчас.
Он продолжал:
— Я вам уже говорил, что у меня нет больше станков; я могу печатать только литографским способом; для этого нужно время, но сегодня в восемь часов у вас будет пятьсот экземпляров.
— Но вы, — продолжал я, — все-таки отказываетесь печатать призыв к оружию?
— Все-таки отказываюсь.
С декрета сняли две копии, и Эмиль де Жирарден унес их с собой. Прения возобновились. Каждую минуту прибывали депутаты и приносили различные известия. Амьен восстал. Реймс и Руан в волнении и идут на Париж. Генерал Канробер сопротивляется перевороту, генерал Кастелан колеблется. Посол Соединенных Штатов требует визу на выезд. Мы не очень верили этим слухам, и дальнейшие события доказали, что мы были правы.
Тем временем Жюль Фавр составил следующий декрет, который был им предложен и немедленно принят Собранием.
ДЕКРЕТФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКАСВОБОДА — РАВЕНСТВО — БРАТСТВОНижеподписавшиеся народные депутаты, оставшиеся на свободе, присутствующие на непрерывном заседании Национального собрания;
Ввиду ареста большинства их коллег и ввиду крайней неотложности;
Принимая во внимание, что для совершения своего преступления Луи Бонапарт не только применил против жизни и собственности граждан Парижа самые грозные средства истребления, но и попрал ногами законы, уничтожая права личности, которыми обладают все цивилизованные нации;
Принимая во внимание, что эти преступные безумства еще более усиливают решительное осуждение со стороны всех честных людей и приближают час народного мщения, но считая необходимым провозгласить право,
Постановляют:
Статья первая. Осадное положение снимается во всех департаментах, где оно было объявлено, и возобновляется действие обычных законов.
Статья 2. Всем военным начальникам под страхом обвинения в государственном преступлении вменяется в обязанность немедленно сложить с себя те чрезвычайные полномочия, которые были им предоставлены.
Статья 3. Государственным чиновникам и полиции предписывается под страхом обвинения в государственном преступлении привести в исполнение настоящий декрет.
Дано в непрерывном заседании, 3 декабря 1851 года.
Вошли Мадье де Монжо и де Флотт. Они пришли с улицы, они побывали везде, где уже началась борьба, они видели собственными глазами, как часть населения колебалась, читая слова: «Закон от 31 мая отменяется, всеобщее голосование восстанавливается». Было очевидно, что плакаты Луи Бонапарта сильно смущают народ. Нужно было противопоставить натиску натиск и во что бы то ни стало открыть народу глаза; я продиктовал следующую прокламацию:
ПРОКЛАМАЦИЯНарод! Тебя обманывают.
Луи Бонапарт заявляет, что он восстанавливает твои права и возвращает тебе всеобщее голосование.
Луи Бонапарт лжет.
Прочти его плакат: он предоставляет тебе, — какое гнусное издевательство! — право передать ему, ему одному, учредительную власть, иными словами высшую власть, принадлежащую только тебе. Он предоставляет тебе право назначить его диктатором на десять лет. Иными словами, он предоставляет тебе право отречься от верховной власти и возложить на его голову корону, право, которого даже ты, народ, не имеешь, потому что одно поколение не может располагать верховной властью другого поколения.
Да, он предоставляет тебе, верховному властителю, право избрать себе владыку, и этот владыка — он.
Лицемерие и предательство!
Народ, мы срываем маску с лицемера, твое дело — покарать изменника!
Комитет сопротивления:
Жюль Фавр, де Флотт, Карно, Мадье де Монжо, Матье (от Дромы), Мишель де Бурж, Виктор Гюго.
Боден пал смертью славных. Нужно было известить народ о его гибели и почтить его память. По предложению Мишеля де Буржа был принят следующий декрет:
ДЕКРЕТНародные депутаты, оставшиеся на свободе, принимая во внимание, что депутат Боден погиб на баррикаде Сент-Антуанского предместья в борьбе за республику и законы и что он заслужил благодарность отечества,
Постановляют:
Депутат Боден будет погребен в Пантеоне со всеми подобающими почестями.
Дано в непрерывном заседании, 3 декабря 1851 года.
Почтив память погибших и приняв все меры, необходимые для продолжения борьбы, нужно было, по моему мнению, немедленно и по-диктаторски улучшить материальное положение народа. Я предложил отменить городские ввозные пошлины и налог на напитки. Мне возразили следующее: «Не нужно заискивать перед народом! После победы будет видно. А теперь он должен сражаться! Если он не будет сражаться, не восстанет, не поймет, что мы, депутаты, в этот час рискуем головой за него, за его права, если он покинет нас в самый трудный момент лицом к лицу с переворотом, значит, он недостоин свободы». На это Бансель возразил, что отменить городские ввозные пошлины и налог на напитки отнюдь не значит заискивать перед народом, что это помощь беднякам, важное экономическое мероприятие, искупающее прежнее невнимание к нуждам народа, удовлетворение его настоятельных требовании, которые правая всегда упорно отклоняла, а левая, приняв власть в свои руки, должна немедленно выполнить. — Оба эти мероприятия, объединенные в один декрет, были приняты с оговоркой, что декрет будет опубликован только после победы. Вот он:
ДЕКРЕТНародные депутаты, оставшиеся на свободе, постановляют:
Городские ввозные пошлины отменяются на всей территории республики.
Дано в непрерывном заседании, 3 декабря 1851 года.
Захватив с собой прокламации и декреты, Версиньи пошел разыскивать Этцеля. Лабрус со своей стороны тоже отправился к нему. Условились встретиться в восемь часов вечера у бывшего члена временного правительства Мари, на улице Нев-де-Пти-Шан.
Когда члены комитета и депутаты уже расходились, мне сказали, что кто-то хочет говорить со мной; я вошел в маленькую комнатку, смежную с гостиной, и увидел там человека с умным и симпатичным лицом, одетого в блузу. В руках у него была свернутая в трубку бумага.
— Гражданин Виктор Гюго, — оказал он, — у вас нет типографии. Но без нее можно обойтись, и вот каким способом.
Он развернул на камине сверток, который держал в руках. Это была тетрадь какой-то синей бумаги, очень тонкой и, как мне показалось, слегка промасленной. Листы синей бумаги чередовались с листами белой. Он вынул из кармана что-то вроде шила с тупым концом и оказал:
— Тут можно использовать все, что попадется под руку, — гвоздь, спичку. — И он начертил шилом на первом листе тетради слово «Республика». Затем, перевернув страницы, он показал мне: — Смотрите.
Слово «Республика» отпечаталось на пятнадцати или двадцати белых листках, вложенных в тетрадь.
Он прибавил:
— Этой бумагой обычно пользуются на фабриках, чтобы переводить чертежи. Я подумал, что в такое время, как сейчас, она может пригодиться. У меня дома около сотни таких листов, и я могу снять сто копий с чего угодно, например с прокламации, и потрачу на это столько же времени, сколько нужно, чтобы снять пять или шесть копий. Напишите мне что-нибудь, что вы сочтете полезным в настоящий момент, и завтра утром это будет расклеено по Парижу в пятистах экземплярах.
При мне не было ни одного из декретов, которые мы только что составили; копии унес Версиньи. Я взял листок бумаги и на уголке камина написал следующую прокламацию:
К АРМИИСолдаты!Человек, имя которого вам известно, нарушил конституцию. Он изменил присяге, которую дал народу, преступил закон, топчет право, заливает Париж кровью, душит Францию, предает республику!
Солдаты, этот человек вовлекает вас в свое преступление.
Есть две святыни: знамя, представляющее воинскую честь, и закон, представляющий право народа. Солдаты, поднять знамя против закона — тягчайшее из преступлений! Не следуйте за безумцем, ведущим вас по ложному пути. Французские солдаты должны быть не участниками подобного преступления, а мстителями за него.
Этот человек говорит, что имя его — Бонапарт. Он лжет, ибо имя Бонапарт означает славу. Этот человек говорит, что имя его Наполеон. Он лжет, потому что имя Наполеон означает гений. Он же безвестен и ничтожен. Выдайте закону этого негодяя. Солдаты, это Лженаполеон. Настоящий Наполеон заставил бы вас повторить победу при Маренго; он же заставляет вас повторить бойню на улице Транснонен!
Не забывайте истинного призвания французской армии: защищать родину, распространять революцию, освобождать народы, поддерживать нации, избавить от гнета весь континент, повсюду разбивать цепи, повсюду защищать право — вот ваша миссия среди европейских армий. Вы достойны великого поля битвы.
Солдаты! Французская армия — авангард человечества.
Придите в себя, одумайтесь, опомнитесь, поднимитесь! Вспомните о ваших арестованных генералах, которых схватили за шиворот тюремщики и с кандалами на руках бросили в камеры для воров. Бандит, сидящий в Елисейском дворце, принимает французскую армию за шайку наемщиков империи времен упадка; он надеется, что если ей заплатить, если ее напоить, то она будет повиноваться! Он заставляет вас делать подлое дело; в девятнадцатом веке, в самом Париже, он заставляет вас душить свободу, прогресс, цивилизацию. Вас, детей Франции, он заставляет разрушать все то, что Франция так доблестно и с таким трудом построила за три века просвещения и шестьдесят лет революции! Солдаты, если вы великая армия, уважайте великую нацию.
Мы, граждане, мы, депутаты народа и ваши депутаты, мы, ваши друзья, ваши братья, мы, представители закона и права, идем вам навстречу с распростертыми объятиями, а вы безрассудно поражаете нас вашим оружием! Знайте, мы в отчаянии не от того, что льется наша кровь, но от того, что гибнет ваша честь!
Солдаты! Еще один шаг по пути преступления, еще один день с Луи Бонапартом, — и вы навсегда осуждены мировой совестью. Люди, командующие вами, — вне закона. Это не генералы, а преступники. Их ждет балахон каторжника, он уже и сейчас у них на плечах. Солдаты, еще не поздно, остановитесь! Вернитесь к родине! Вернитесь к республике! Знаете ли вы, что окажет о вас история, если вы будете упорствовать? Она скажет: «Они растоптали копытами коней, они раздавили колесами пушек все законы своей страны; они, французские солдаты, обесчестили годовщину Аустерлица, и по их вине, из-за их преступления имя Наполеона теперь покрывает Францию позором столь же великим, сколь велика была слава, которою это имя озаряло ее прежде!
Французские солдаты! Перестаньте помогать преступлению!
Мои товарищи по комитету уже ушли, я не мог посоветоваться с ними, времени терять было нельзя, я подписал:
За депутатов народа, оставшихся на свободе, депутат, член Комитета сопротивления
Виктор Гюго.
Человек в блузе взял прокламацию, сказал: «Завтра утром вы ее увидите на стенах», — и ушел. Он сдержал слово. На следующий день я заметил ее на улице Рамбюто, на углу улицы Лом-Арме и в Шапель-Сен-Дени. Те, кто не знал, каким способом она оттиснута, могли подумать, что она написана от руки синими чернилами.
Мне хотелось пойти домой. Когда я пришел на улицу Тур-д'Овернь, дверь моего дома оказалась приотворенной. Я вошел. Я пересек двор и поднялся по лестнице, никого не встретив.
Моя жена и дочь сидели в гостиной у камина вместе с госпожой Мерис. Я тихо вошел. Они беседовали вполголоса. Разговор шел о Пьере Дюпоне, авторе народных песен, который приходил ко мне просить оружия. У Исидора, бывшего солдата, сохранились пистолеты; он одолжил их Пьеру Дюпону на случай боя.
Вдруг женщины повернули голову и увидели меня, моя дочь вскрикнула. «Ах, уходи поскорей, — воскликнула жена, бросаясь мне на шею, — ты погиб, если задержишься хоть на минуту. Тебя арестуют здесь!» Госпожа Мерис добавила: «Вас ищут. Полиция была здесь четверть часа назад». Я не мог их успокоить. Мне передали пачку писем; в каждом мне предлагали приют на ночь, некоторые из них были подписаны незнакомыми именами. Через несколько минут, видя, что они всё больше тревожатся, я решил уйти. Жена сказала мне: «То, что ты делаешь, ты делаешь во имя справедливости. Иди, продолжай». Я обнял жену и дочь; с тех пор до настоящей минуты, когда я пишу эти строки, прошло пять месяцев. Я уехал в изгнание, они остались в Париже из-за моего сына Виктора, сидевшего в тюрьме; больше я их не видел.
Вышел я так же, как вошел; внизу, у привратника, было лишь двое или трое маленьких детей; они сидели вокруг лампы и смеялись, рассматривая книжку с картинками.
VII
Архиепископ
В этот мрачный и трагический день одному человеку из народа пришла в голову мысль.
Это был рабочий, принадлежавший к честному и немногочисленному меньшинству демократов-католиков. Его экзальтация, одновременно революционная и мистическая, вызывала некоторые подозрения в народе, даже среди его товарищей по работе и друзей. Такой набожный, что социалисты могли назвать его иезуитом, такой республиканец, что реакционеры могли назвать его красным, — он был исключением в мастерских предместья. Но для того чтобы увлечь массы и повести их за собой в критический момент, нужны личности, исключительные по своей гениальности, а не по своим убеждениям. Революционер не может быть чудаком. Тот, кто хочет играть какую-нибудь роль в дни, когда обновляется общество, в дни социальной борьбы, должен целиком слиться с могучей однородной средой, именуемой партией. Великий поток идей увлекает за собою великий людской поток, и настоящий революционный вождь — тот, кто лучше всех умеет толкать людей в направлении, в котором движутся идеи.
Евангелие совместимо с революцией, католицизм противоречит ей. Это объясняется тем, что папство противоречит евангелию. Можно прекрасно понять республиканца-христианина, но нельзя понять демократа-католика. Это смешение двух противоположных начал. Это ум, в котором отрицание преграждает дорогу утверждению. Это нечто нейтральное.
Но во время революции нейтральное не имеет никакой силы.
Все же, начиная с первых часов сопротивления перевороту, рабочий католик-демократ, о благородной попытке которого мы здесь рассказываем, так решительно встал на сторону справедливости и истины, что в мгновение ока подозрения сменились доверием, и народ стал приветствовать его. Он выказал такую храбрость при постройке баррикады на улице Омер, что его единогласно признали ее вождем. Во время штурма он защищал ее так же бесстрашно, как и строил. Это было печальное и славное поле боя; большинство его товарищей было убито, и сам он спасся только чудом.
Однако ему удалось вернуться домой, и он в отчаянии подумал: «Все погибло».
Для него было ясно, что широкие слои народа не поднимутся. Победить переворот революцией отныне казалось невозможным; оставалось только одно — бороться с ним законным путем. То, от чего ждали успеха вначале, становилось последней надеждой в конце, а он считал конец неизбежным и близким. По его мнению, раз народ не восставал, нужно было поднять буржуазию. Если бы на улицу вышел хоть один вооруженный легион, гибель Елисейского дворца была бы неизбежна. Для этого нужно было найти какое-нибудь новое средство проложить путь к сердцу средних классов, воодушевить буржуазию зрелищем, которое могло бы поразить ее своим величием, но не отпугнуть.
И тогда этому рабочему пришла мысль:
Написать архиепископу Парижскому.
Рабочий взял перо и в своей бедной мансарде написал архиепископу Парижскому вдохновенное и полное глубокого смысла письмо, в котором он, человек из народа и верующий, говорил своему архиепископу следующее (мы передаем общий смысл этого письма):
«Настал час испытания, в междоусобной войне схватились армия и народ, льется кровь. Когда льется кровь, долг епископа — выйти на улицу. Господин Сибур будет достойным преемником господина Аффра. Это великий пример, но сейчас положение еще более трагично.
Пусть архиепископ Парижский в сопровождении всего духовенства, предшествуемый крестом первосвященника, в митре, выйдет на улицу во главе торжественной процессии. Пусть он призовет к себе Национальное собрание и Верховный суд, законодателей в перевязях и судей в красных мантиях, пусть призовет граждан, пусть призовет солдат и идет прямо к Елисейскому дворцу. Пусть он поднимет там карающую руку — именем правосудия на того, кто нарушает законы, и именем Христа на того, кто проливает кровь. Одним движением руки он сокрушит переворот.
И ему поставят памятник рядом с памятником господина Аффра, и народ будет говорить, что междоусобная война в Париже дважды была прекращена двумя архиепископами.
Церковь свята, но родина священна. В случае необходимости церковь должна прийти на помощь родине».
Окончив письмо, он поставил под ним свою подпись рабочего. Но тут возникло затруднение — как доставить это письмо?
Отнести самому?
Пропустят ли его, бедного рабочего в блузе, к архиепископу?
К тому же, чтобы добраться до архиепископского дворца, нужно идти как раз через восставшие кварталы, где, может быть, еще продолжается сопротивление, проходить по улицам, занятым войсками, его могут остановить и обыскать, руки у него пахнут порохом. Если его расстреляют, письмо не дойдет по назначению!
Как быть?
Он уж совсем было отчаялся, как вдруг вспомнил Арно (от Арьежа).
Этот депутат был ему по сердцу. Арно был благородный человек. Он также принадлежал к партии демократов-католиков. В Собрании он высоко и почти что один держал это знамя, стремившееся объединить демократию с церковью, знамя, за которым шли столь немногие. Молодой, красивый, красноречивый, восторженный, мягкий и решительный, Арно соединял в себе талант трибуна с верой рыцаря. Искренний по природе, он, не желая порывать с Римом, страстно любил свободу. Им руководили два принципа, но он не был двуличным. Все же демократ в нем брал верх. Однажды он сказал мне: «Я подам руку Виктору Гюго, но не подам ее Монталамберу».
Рабочий знал его. Он часто писал ему и иногда встречался с ним.
Арно жил в квартале, где почти не было войск.
Рабочий тотчас отправился туда.
Арно участвовал в борьбе вместе со всеми нами. Как и большинство представителей левой, он с утра 2 декабря не появлялся у себя дома. Однако на второй день он вспомнил о своей молодой жене, о грудном шестимесячном ребенке, которого он так давно не брал на руки; уходя из дому, он не знал, суждено ли им еще увидеться; он подумал о своем домашнем очаге, и, как в иные минуты бывает со всеми, его с непреодолимой силой потянуло домой. Он не мог удержаться; арест, Мазас, одиночная камера, понтон, взвод, расстреливающий пленника, — все было забыто, мысль об опасности исчезла, он вернулся домой.
Как раз в этот момент к нему пришел рабочий.
Арно принял его, прочел письмо и одобрил.
Арно лично знал архиепископа.
В представлении либерала-католика Арно Сибур, священник-республиканец, которого назначил архиепископом генерал Кавеньяк, был идеальным главой церкви.
В глазах архиепископа Арно представлял в Собрании тот подлинный католицизм, который Монталамбер извращал. Депутат-демократ и архиепископ-республиканец довольно часто совещались, причем посредником между ними служил аббат Маре, умный священник, друг народа и прогресса, главный викарий Парижа, впоследствии ставший епископом in partibus [13] Сурата. За несколько дней до описываемых событий Арно видел архиепископа, выслушал его жалобы по поводу посягательств клерикальной партии на епископскую власть и даже намеревался в ближайшее время запросить по этому поводу объяснения в министерстве и вынести этот вопрос на трибуну.
Арно присоединил к письму рабочего рекомендательное письмо за своею подписью и вложил оба письма в один конверт.
Но здесь снова возник вопрос: как доставить послание?
По причинам еще более веским, чем те, которые останавливали рабочего, Арно не мог сам отнести это письмо.
А медлить было невозможно!
Жена Арно увидела его замешательство и сказала не задумываясь:
— Дайте мне письмо!
Г-жа Арно, красивая и совсем молодая женщина, вышла замуж только два года тому назад. Она была дочерью бывшего члена Учредительного собрания республиканца Гишара: достойная дочь такого отца и достойная жена такого мужа!
В Париже шли бои; ей предстояло встретиться лицом к лицу со всеми опасностями, подстерегавшими ее на улицах, идти под пулями, рисковать жизнью.
Арно колебался.
— Что ты хочешь делать? — спросил он жену.
— Я отнесу это письмо.
— Сама?
— Сама.
— Но ведь это опасно.
Она подняла на него глаза и сказала:
— Разве я говорила тебе это два дня назад, когда ты уходил из дома?
Он поцеловал ее со слезами на глазах и сказал:
— Иди.
Но полиция была подозрительной, на улицах многих женщин обыскивали; у г-жи Арно могли найти это письмо. Как спрятать его?
— Я возьму с собой малютку, — сказала г-жа Арно.
Она развернула пеленки девочки, спрятала в них письмо и снова запеленала ее.
Когда это было сделано, отец поцеловал ребенка в лобик, а мать, смеясь, воскликнула:
— Ах ты, маленькая революционерка! Ей только шесть месяцев, а она уже участвует в заговоре.
Г-жа Арно не без труда попала к архиепископу. Фиакру, который вез ее туда, пришлось сделать большой крюк. Она все-таки добралась. Она оказала, что ей нужно видеть архиепископа. Что же бояться женщины с ребенком на руках? И ее пропустили.
Но она заблудилась во дворах и на лестницах. Растерявшись, она разыскивала дорогу и вдруг встретила аббата Маре, с которым была знакома. Она обратилась к нему и рассказала, по какому делу пришла. Аббат Маре прочел письмо рабочего и воспламенился.
— Это может спасти все дело, — сказал он.
Он добавил: