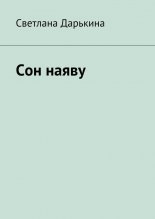Крысиная башня Лебедева Наталья

Люди за столиками лениво подняли головы к экрану. Они смотрели шоу, жевали, разговаривали. К середине выпуска многие начали узнавать Мельника. Перед ним уже стояла огромная тарелка с мясом, он впился зубами в кусок и старался не смотреть по сторонам.
Кто-то врезался в высокие ножки барного стула, на котором сидел Мельник. Он наклонился, уверенный, что это снова чей-то ребенок, но вместо детского лица увидел крохотные глазки, уродливую морду и высокую шапку с острым верхом. Шуликун оскалился, показывая острые кошачьи зубки. Мельник обернулся и увидел, что шулику-нов в «Мельнице» много. Они скакали между столиками, дергали посетителей за полы. Один держал в руках сковороду с мерцающими красным углями. Он встряхивал сковородой, угли взлетали вверх, искры фейерверком летели во все стороны, люди за столиками смеялись и аплодировали. Шуликун потряс барный стул и зло оскалил зубы. Мельник вскочил на ноги, человек рядом с ним засмеялся и стал показывать на него пальцем.
Людей в кафе становилось все больше, и все больше становилось шуликунов. Все чаще звучал короткий, отрывистый, громкий смех.
Острые зубки впились в ногу Мельнику, он ударил каблуком наугад и едва не попал по той девочке, что сидела на полу, когда он пришел. Шуликнун зло оскалился, показал на Мельника пальцем, его островерхая голова осуждающе покачалась из стороны в сторону. Отец девочки, молодой высокий парень, вскочил из-за стола и ударил Мельника кулаком в лицо. Удар был такой неожиданный, что Мельник не успел увернуться. Он пролетел сквозь толпу под смешки и редкие аплодисменты и ударился о стол, а когда поднял глаза, увидел, что за столом сидит всего один человек — женщина с фотографией Сережи. Она смотрела на Мельника пристально, не мигая, и он вдруг понял, что она очень молодая — ей не было еще тридцати, хотя выглядела она старухой.
Мельник встал и вернулся к стойке. Александра вышла в зал с мокрым полотенцем в руках и схватила за шкирку первого попавшегося шуликуна. Когда он пытался боднуть ее острой макушкой, хлестко оттянула полотенцем по ушам. Шуликун затих и обмяк, его лапки безжизненно свесились вдоль туловища. Александра распахнула заднюю дверь и выкинула мелкую тварь в сугроб. Второго выпихнула коленом под зад. Одного за другим Александра выгоняла шуликунов прочь. По мере того как их становилось все меньше, редела и толпа. Люди расходились, разочарованно опустив головы. Кафе пустело. Расплачиваясь и бросая скомканные салфетки в тарелки с объедками, люди медленно текли к выходу.
— Может, автограф возьмем? — спросила мужа молодая женщина с плохо вымытыми волосами. На руках у нее сидел чумазый мальчишка, еще один, постарше, цеплялся за ее свитер, чтобы не потеряться в толпе.
— Возьми, — хрипло ответил муж, почесывая ногу сквозь растянутые спортивные штаны. — Хотя мне старикан больше понравился.
— Думаешь, скоро выгонят? — спросила жена.
— Черт его знает. Может, дальше пройдет. Так что возьмем на всякий случай.
Они разговаривали, стоя возле Мельника, будто возле экспоната в музее восковых фигур. Муж пошарил в кармане своих штанов, достал измятый лист бумаги и шлепнул его на стойку перед Мельником.
— Пиши давай, — требовательно сказал он.
Мельник вспыхнул от ярости, но из-за детей сдержался и покорно расписался на грязном клочке.
Семья ушла, в кафе не осталось никого, кроме Мельника, Александры и женщины с фотографией Сережи.
Мельник посмотрел на мясо, которого в тарелке осталось довольно много. Спиной он чувствовал пристальный взгляд женщины, и, хотя есть ему хотелось очень сильно, а мясо выглядело аппетитно, кусок не лез в горло. Чтобы не сидеть над тарелкой просто так, Мельник подобрал со стойки забытую кем-то книгу. Она была маленькая, в бумажной серо-зеленой обложке с изображением молнии над ведущим в никуда шоссе. Корешок был переломлен, и книга раскрылась посередине. «You see, — прочитал он, — I am the only one of us who brings in any money. The other two cannot make money fortune-telling. This is because they only tell the truth, and the truth is not what people want to hear. It is a bad thing and it troubles people…» [5]
За спиной послышались легкие шаги — женщина с фотографией Сережи ушла из «Мельницы». Теперь никто не смотрел Мельнику в спину, но у него все равно не получилось доесть.
Автобусы подъехали к парку. Толпа перед оградой стала еще больше. Люди посмотрели первую серию шоу и новости, в которых обсуждались убийства. Теперь они хотели видеть все собственными глазами.
Медиумы медленно двигались сквозь толпу. Ассистенты — крепкие мужчины в темных футболках — отодвигали в сторону поклонников. Мельник шел последним. Женщина с фотографией Сережи рванулась к нему сквозь толпу, проскользнула под рукой ассистента и упала на колени, вытянув перед собой руки, в которых держала свою картонку. Ее обветренные, растрескавшиеся губы что-то шептали. Мельник отстранил от нее ассистента, наклонился и услышал, что она говорит:
— Помогите! Пропал. Полгода нет. Никто не может найти. Никаких следов. Я с ума схожу. Где он? Его мучают? Скажите мне! Скажите мне! Скажите! Я знаю, что он жив. Ему плохо? Скажите!
Шепот перешел в крик. Фотография упала на землю, две иссохшие руки вцепились в руки Мельника. Сразу три оператора, протиснувшись сквозь зевак, снимали неожиданный эпизод.
— Я ничего не могу, — сказал Мельник. — Я не ищу людей по фотографиям. Я хочу помочь, но не знаю как.
— Ты врешь! — зло выкрикнула она и вскочила на ноги — Ты просто не хочешь! Тебе плевать на меня! Его мучают там, а ты ходишь мимо меня в своем красивом пальто!
Она плюнула Мельнику в лицо и бросилась к нему, целясь в глаза скрюченными пальцами, тонкими, как когти большой птицы. Мельник раскрыл объятия, и она, не ожидая этого, упала к нему на грудь. Он обнял ее и стал качать, успокаивая. Люди в толпе глазели на кликушу, некоторые с состраданием, некоторые — смеясь.
Мельник и женщина обнимались, их тела прижались друг к другу плотно, словно были телами влюбленных, которым предстояла разлука.
Женщина что-то шепнула. Камера уловила едва заметное шевеление ее подбородка, но разобрать сказанное слово было невозможно. Казалось, и Мельник не должен был расслышать: слово ударилось в его грудь, запуталось в тяжелом драпе пальто — но он услышал.
— Жив, — сказал он, отстранил от себя женщину, поднял с земли картонку с фотографией мальчика, бережно отряхнул ее и протянул в сторону руку. Кто-то из зрителей тут же вложил в нее ручку, заготовленную для автографов. На обратной стороне картона Мельник написал несколько слов. Его движения были размашисты и злы. Кончик стержня утопал в мягком картоне, оставляя глубокие борозды. Мельник был очень красив в эту минуту, его синие глаза сверкали, сильные плечи расправились, он даже как будто вырос и поднялся над толпой.
Закончив, он нашел глазами полицейского и отдал ему картонку, сказав:
— Он держит ребенка в доме. Дом бревенчатый, старый. Рамы на окнах двойные, покосившиеся, с облупленной краской. Грязные окна и стекла плохие, волнистые, через них все искаженное — знаете? Перед домом… слово забыл… низкий забор из тонких реек… палисадник! Без цветов, конечно, там трава высокая. Сейчас желтая, стебли поникли от дождя. Такие безобразные гнилые шалашики. Во дворе сарай, собранный из чего попало: доски, железные Щиты. Три были когда-то ярко покрашены: в синий, желтый и красный. Но теперь краска пошла струпьями.
— Какого ребенка? Кто держит? — спросил ошалевший лейтенант, который не рассчитывал попасть в кадр, а пробрался через толпу, чтобы убедиться в безопасности участника.
— Ее ребенка, Сережу, украли полгОда назад. Украл сумасшедший. Думает, что это его сын. Я написал адрес.
Соседи про ребенка ничего не знают, он не выпускает его гулять. Пытается заботиться о мальчике, печалится, когда тот плачет и хочет обратно к маме. Он считает, что сына накачали наркотиками. Ждет, когда мальчик признает его отцом.
Лейтенант вчитался в адрес, покачал головой, показал картонку двум другим полицейским, которые подошли узнать, в чем дело.
— Это что, деревня? — спросил он Мельника. — Да таких названий по стране знаешь сколько?
— Я знаю регион, — шепнул Мельник. — Только я забыл, как он называется. Сейчас я подумаю. У меня как-то много вылетело из головы.
Айсылу с тревогой смотрела на него из толпы. Мельника трясло, в глазах его появилось то бессмысленное выражение, которое бывает у очень пьяных людей. Мама Сережи подошла к нему и обхватила ладонью его локоть. В ее глазах появилась надежда, горестные складки на лице почти разгладились, и это сразу убавило ей лет.
— Где это? — с надеждой спросила она Мельника.
— Карелия… — тускло ответил он.
Полина смотрела этот эпизод не на работе, а у Кирилла. Она не могла сосредоточиться на том, что происходит, потому что нервничала. Еще никогда Полина не встречалась с мужчиной во второй раз. Это было как заблудиться в лесу, она не знала, что должна делать и как себя вести.
Кирилл ухаживал за ней, и это пугало еще больше никто так раньше не делал. Она думала, что он в любую минуту может сказать: «Уходи, ты мне не нужна».
В «Ты поверишь!» закончились испытания, и на экране появилась Анна. Она стояла на фоне задника, испещ-peftrioro названиями шоу. В руках ее был большой желтый конверт.
— Я приношу вам свои извинения, — начала она тихим, чуть хриплым голосом, — за то, что наша программа лишилась привычного финала. Мы по-прежнему снимаем заключительный эпизод каждой серии на прежнем месте, как просит полиция, однако решили не показывать его в эфире из уважения к памяти погибших девушек. Мы делаем все, чтобы убийства прекратились. Лучшие из наших участников подключились к расследованию, однако в интересах следствия мы не можем рассказать вам о результатах их работы. Как только убийца будет найден — а это непременно случится в ближайшем будущем, — мы вернем программе привычный финал. А пока, после минуты молчания, которой я предлагаю почтить память жертв, я объявлю имя участника, покидающего проект.
Анна склонила голову и замолчала. Потом открыла конверт и показала в камеру листок, на котором было написано имя старухи с розой.
— А теперь хочу показать вам кадры, которые мы получили из Республики Карелия, — сказала Анна, — Полиция нашла мальчика по адресу, который указал участник шоу «Ты поверишь!» Вячеслав Мельник.
На кадрах полицейской хроники все было так, как он говорил: палисадник с гниющей травой, толстые рамы с плохими стеклами, сарай, собранный из старых железных щитов, и мужчина, который плакал искренними слезами, когда испуганного, измученного, больного от страха Сережу передавали матери.
Мельник не знал, как помочь женщине с фотографией Сережи, но хотел помочь так, что боль сочувствия пронизывала его с головы до ног. Когда она захотела выцарапать ему глаза, он подумал: «Пусть ударит. Может быть, ей станет легче», — и раскрыл руки.
Когда их тела соприкоснулись, Мельнику показалось, будто к нему подключили антенну. Женщина чувствовала своего мальчика, но не могла разобрать сигнал, ей словно нужен был декодер. Мельник оказался нужным устройством, он получил ее сигнал и мгновенно превратил его в картинку: дом, ветхую стену, проржавевшую табличку с номером и названием деревни — полустертые, но все же читаемые буквы. Но напряжение, идущее от Сережиной матери, было так велико, что Мельник перегорел. Голова стала пустой настолько, что в ней трудно было найти нужно слово. К Мельнику вернулись недовольные голоса, он снова чувствовал холод.
Ему больших усилий стоило вспомнить слово «Карелия», но, как только он вспомнил, от него отошли. Полицейские совещались, женщина неотступно следовала за ними, боясь, что они забудут про ее мальчика.
Мельник отошел к ограде и отдыхал, прижав лицо к холодным влажным прутьям, вцепившись в них руками. Перед его глазами плыли образы из видения. Он опять видел дом, окна, сарай из щитов, палисадник и табличку, но рядом с ними в голове крутилось еще что-то темное, массивное, похожее на недогруженный файл. Мельник сосредоточился, ему хотелось разобрать, что это, но тут его похлопали по плечу. Мельник повернулся и увидел Ганина.
— Пойдемте, — сказал режиссер. — Мы должны отснять финал. Вас ждут.
Мельник шел за ним, но его била такая сильная дрожь, что он споткнулся и был вынужден схватиться за Ганина, чтобы не упасть. Тот повернулся и критически осмотрел Мельника.
— Оу! — сказал он наконец, — Давайте-ка вы на руину не пойдете! Не страшно, все равно съемка не для эфира.
Мельнику нашли складной стул, он сел и прикрыл глаза, откинувшись на матерчатую спинку. Со своего места он видел только спины операторов и осветителей, рядом с ним стояли полицейские. Веки Мельника налились тяжестью, он начал дремать. Сквозь полусон ему было слышно шуршание полицейских раций, треск помех и механические голоса. Анна выкрикнула имя проигравшего, и наступила напряженная тишина. Люди боялись перешептываться, стояли и ждали. Мельник с трудом открыл глаза и увидел растерянных членов съемочной группы. Они озирались по сторонам в ожидании нового трупа, но ничего не происходило. Мельник захотел встать и подойти к полицейским, но ноги плохо слушались его. Тогда он с трудом обернулся назад, где кто-то сидел на таком же складном стуле. Мельник видел его нечетко, краем глаза.
— Нужно прочесать парк, — сказал он, — Потому что девушка убита. Может быть, что-то спугнуло его, и он не рискнул подойти ближе, но тело точно где-то здесь.
Человек не ответил. Мельника насторожила его неподвижность и странная, телесного цвета, одежда. Он сделал усилие и повернулся, чтобы рассмотреть соседа повнимательнее.
В кресле сидела мертвая женщина. На ее горле краснели уродливые кровоподтеки. Тонкая шея была сломана, и голова женщины склонилась под странным углом. Все ее тело было покрыто мелкими царапинами и налипшим мусором, словно ее волочили по земле. Мельник дотянулся до ближайшего полицейского и дернул его за рукав. Тот обернулся и онемел от неожиданности. Люди вокруг тоже начали замечать тело.
Пиха больше не скучал ни по Фреду, ни по мертвецу. Теперь он держал женщин, когда они умирали, и после смерти их тела оказывались в полном его распоряжении.
Последнюю он раздел в машине, на заднем сиденье, упиваясь ее покорностью, а потом поехал по городу, останавливаясь у мусорных баков и выкидывая вещь за вещью. Все это время тело лежало на полу за спинкой водительского кресла, и Пихе было приятно знать, что оно там. Никогда прежде ему не давали побыть с жертвами наедине.
В парке Пихе было страшно. Он едва мог заставить себя как ни в чем не бывало проходить мимо дежурящих у входа полицейских и мимо толпы зевак, неся на руках обнаженный женский труп. Длинные черные волосы жертвы легонько ударяли по плотной ткани брюк. В горле его пересохло, он мучительно сглатывал и чувствовал себя внутри кошмарного сна с его напряженным, мучительным ожиданием плохого. Пиха боялся, что у медиума не хватит сил: люди очнутся, увидят его с жертвой в руках и подумают, что он убил ее. Это было бы нечестно, потому что он отнимал жизни у других людей, это было давно, и большую часть работы делал Фред.
Пиха входил в парк до приезда съемочной группы. В прошлый раз он оставил жертву у подножия руины, сходил за стремянкой, поднял тело наверх, уложил в развилку ветвей, которую они с медиумом присмотрели днем раньше, сложил лестницу и ушел. В этот раз он прошел с девушкой в глубину парка и долго сидел с ней бок о бок в темноте. Тело ее закоченело, но они заранее придали ей нужную позу, чтобы не возникло проблем во время шоу. Сидеть рядом с ней было уютно. Пихе даже стало казаться, что девушка похожа на мертвеца. Не хватало только запаха сырой земли и прелых листьев. Он понял, что скучает, и, чтобы ждать было не так тоскливо, стал зачерпывать горстями землю и перегной и втирать в красивое белое тело. Пиха почувствовал знакомый запах, и ему стало хорошо и спокойно.
Закончив, он лег на землю и стал думать о том, как интересно было выслеживать этих девушек. Охота начиналась за несколько дней до съемок финальной части шоу. Когда спускалась ночь, они выезжали в город и кружили по улицам, высматривая жертву. Если видели подходящую женщину, стройную, лет тридцати, ухоженную, яркую, стильно одетую, черноволосую, — начинали следить за ней. Чаще всего дело срывалось: женщина не оставалась одна. Но в конце концов им везло, как было с дамочкой с Малого Трехсвятительского. Они заметили ее возле большого офисного здания, когда она садилась в джип, припаркованный на стоянке для сотрудников. Пиха спросил, почему нельзя убить девушку на глазах у всех, пользуясь той же удивительной способностью, которая позволяла ему оставаться невидимым в парке. Ему ответили, что это неинтересно. Гораздо интереснее смотреть, какая из женщин даст себя убить, а какая — нет.
Пиха боялся медиума. Он был высоким и сильным. Его черные волосы сверкали на солнце, как вороново крыло, и он всегда, даже в жару, носил длинное черное пальто.
Девушка на джипе долго пробиралась по московским пробкам, Пиха неотступно следовал за ней. Потом она свернула в Малый Трехсвятительский и припарковалась во дворе старого облезлого дома. Пиликнула сигнализация, женщина отошла от машины. Дом был тих, двор — пуст. Пиха и медиум догнали ее в темном подъезде. Пиха зажал ей рот, скрутил руки, медиум сделал все остальное. Она не успела закричать, и подъезд ничего не заметил.
Он вспоминал это, сидя рядом с телом, потом услышал голос, который сказал ему: «Пора!» Пиха подхватил женщину на руки и быстрым шагом пошел к месту съемок. Он должен был успеть усадить ее на стул, пока медиумы вставали на щербатые ступени руины.
— То есть нельзя было отказаться от незапланированного эпизода с Мельником и с этим пропавшим мальчиком?
— Ни в коем случае! Смотри, во-первых, это очень сопливая история. Именно из-за таких нас смотрят. Чудо, надежда, счастливое воссоединение семьи, прочая ерунда. Любовь! — куда же без нее. Но даже не в этом дело. Дело в том, что вмешалась полиция, а этого упускать нельзя. Видишь ли, милый мой, в чем дело… Сколько бы люди ни называли полицейских ментами, какие бы истории ни рассказывали, как бы ни состязались в том, кто ненавидит ментов больше, полиции у нас по-прежнему верят. Это в крови. И дело даже не в том, что где-то в глубине души у советского человека сидит образ Дяди Степы, совсем нет. Люди уверены, что уж эти-то делать из себя дураков не дадут. Вера! Вера — главное в нашем шоу! Это ты, надеюсь, уже уяснил? И потому мы стараемся приглашать полицейских как можно чаще. Есть среди полицейского начальства те, кто склонны верить, есть те, кто соглашается за деньги при условии, что в кадре будут не они, а сотрудники рангом поменьше, есть бывшие сотрудники органов, нуждающиеся в финансовой поддержке. Есть, в конце концов, актеры, которых можно переодеть.
— Но разве экстрасенсы и медиумы не помогают полиции раскрывать преступления?
— Я что-то об этом слышал, определенно слышал… Но никогда ничего конкретного. И не могу вспомнить ни одного дела, раскрытого с их помощью. Так что экспертом в данной области считать меня определенно нельзя.
— Мельник останется.
— Ганя, не спорь. Делай, что говорят!
— А то — что?
— Ничего.
— Ну и хер с тобой. Надоело.
— Что тебе надоело, Ганя? — Настин голос стал тихим и угрожающим.
— Надоело терпеть, как ты по мне топчешься. Не хочешь со мной спать — не спи. Я себе хоть женщину нормальную найду.
Ганя встал из кресла и двинулся к двери.
— Быстро вернулся и сел! — крикнула она.
— Да пошла ты! — резко ответил Ганя, и по его тону Настя поняла, что это — не временная размолвка. В кои-то веки Ганя говорил серьезно.
— Предатель, — шепнула она яростно, когда Ганя вышел. Он тут же появился снова, просунул голову в приоткрытую дверь и сказал:
— Кстати, будь готова, что тебя вызовут к Генеральному. Я предупредил, что ты пытаешься выбить Мельника по личным соображениям.
Настя вскинула бровь. Его слова обидели ее до глубины души, но вида она не подала — не хотела доставлять ничтожеству удовольствия. Ганя грустно кивнул и закрыл за собой дверь. Сердце его бешено стучало. Он хотел вернуть время назад и в то же время радовался, что это абсолютно невозможно.
Генерального продюсера Настя не боялась. Он, скорее, раздражал ее, потому что был человеком, решениям которого невозможно было противостоять. Ее бесила его инфернальная манера выглядеть добродушным и одновременно давить низким бархатным голосом, буквально вкладывая свои мысли в голову собеседника. Насте казалось, что он похож на крестного отца из старого фильма.
— Здравствуй, Настя, — пробасил он, жестом приглашая ее сесть напротив. — Как здоровье?
— Спасибо, хорошо, — ответила она, широко улыбаясь. — Как вы?
— И я не жалуюсь. Знаешь Аркадия?
Настя кинула взгляд налево, где сидел Аркадий, неразличимый и серый, словно тень.
— Да, конечно, мы встречались.
— Ну и славненько! Все здоровы, все знакомы… Как там наше шоу?
— Все идет очень хорошо. По последним данным, аудитория увеличилась. Темпы роста не так высоки, как в прошлом году, но…
— Не надо цифр, Настенька, не надо. Это так скучно, так бездушно. Я предлагаю говорить и думать о людях. Так что — люди?
— А что — люди?
— Говорят, у вас там появился кто-то настоящий? Разыскивает детей, утешает женщин, наказует виновных… Мельник, кажется?
Настя презрительно скривила рот. Она старалась казаться уверенной, но ей мучительно захотелось курить.
— Вы верите в такую чушь? — сказала она небрежно. — Ха. Был бы он настоящий, раскрыл бы убийства в парке.
Генеральный наклонился к ней и добродушно улыбнулся:
— Тогда как же объяснить такое меткое попадание в цель с этим мальчиком? Ну не мог же он это разыграть? Заявление о пропаже было подано в полицию полгода назад. Откуда ему было знать?
— А что, если… — Настя втянула воздух сквозь неплотно сжатые зубы, — …мммм… Скажем, мать мальчика сама случайно узнала, где находится сын?
— Но как?
— Мало ли как. Случайное совпадение… Звонок анонима. В конце концов, может быть, она и правда обратилась к колдуну — к настоящему, не такому, как наши. Тот рассказал ей, где сын, а она побоялась, что в полиции над ней посмеются. И нашла Мельника, чтобы устроить принародное шоу. А он, конечно, согласился, потому что ему такая история на руку. Вы же видите, как сильно выросла его популярность.
— Почему же, Настенька, не допустить мысли, что сам Мельник и был тем, как ты говоришь, «колдуном», к которому обратилась несчастная героиня?
— Да потому что он ничего собой не представляет! — Настя с трудом поборола желание выскочить из кресла и начать расхаживать по комнате.
— Как же? Он же несколько раз выступал со вполне верными догадками. А насколько мне известно, с ним наши редакторы не работали. Или я чего-то не знаю?
Настя с ненавистью и отвращением подумала о том, какие же цепкие у него глаза. Они смотрели так пристально, что немного кружилась голова и исчезало ощущение реальности происходящего. Раньше ей всегда удавалось сохранять при генеральном самообладание, чем могли похвастаться далеко не все, но разговор о Мельнике выбил ее из колеи.
— Нет, почему же, вы знаете все. В сценарий изменения ради него не вносились. Да и почему бы мы стали это делать? А секрет прост. Насколько я знаю, он добывал сведения через одну логгершу в обход редакторов и сценаристов. Именно поэтому, — она почувствовала резкую боль под ребрами и провела ладонью по животу, — я и считаю, что его необходимо исключить из шоу, я бы Даже предложила выгнать его с позором, чтобы все знали, что у нас жуликов очень не любят.
— Мысль хорошая, здравая. И нужно будет ее обсудить. Однако ты забываешь, что победителей не судят.
А он победитель. Домохозяйки рыдают над историей об обретении сына. Они не простят нам Мельника. Они не поверят, что он жульничал. Он теперь для них вроде святого. Так что Мельника пока не трогать.
Настя не решилась спорить — она прекрасно понимала, что ничего не выйдет. Ей пришлось подняться из кресла и покинуть кабинет.
Генеральный тяжело оперся о стол локтями, вздохнул. Аркадий, сидящий в углу кабинета, не шелохнулся.
— Видишь ли, — генеральный резко развернулся в своем кресле и прищурил глаза, вглядываясь Аркадию в лицо, — она хотела с ним спать, он отказал. Так пусть теперь порасхлебывает. Персонал нужно держать в тонусе, Аркаша. Их все время нужно клевать в спину.
— Может быть, в печень?
— Что?
— Клевать — в печень.
— Нет, Аркаша, милый друг, нам тут Прометеи не нужны. Вот кто уж нам точно не нужен, так это Прометеи.
Саша вытащила на середину комнаты раму для батика. В детстве она рисовала только в воображении, потом поняла, что в реальности получается не хуже. Когда она работала, гладкая подрагивающая поверхность шелка, шершавое дерево рамы, прохладное стекло плошек, в которых были разведены краски, и тонкая рукоятка кисти связывали ее мистический дар с вещественным миром.
Сегодня результат ее не устроил. Ткань сопротивлялась попыткам переписать судьбу Славика, написанную на тонком шелке темными красками. Саша прищурила глаза, подумала как следует и положила на полотно густой золотистый мазок. Мазок растворился во тьме, не подчеркнув и не рассеяв ее.
Это было странно и навело Сашу на мысль, что дело не в Славике. Она отошла к окну и запустила пальцы в мягкую трехцветную шерсть Черепашки. Кошка замурлыкала, приподняла спину, чтобы рука хозяйки прижалась плотнее. Они стояли, глядя в мягкую сентябрьскую тьму, на оранжевые фонари, на яркий полный диск луны, мимо которого плыли серые, похожие на обрывки пухового платка клоки облаков, и ждали, пока высохнет краска на шелке. Когда время пришло, Саша осторожно сняла ткань с рамы и расстелила ее на кровати. Черепашка прыгнула на подушку, тронула шелк лапой, старательно обнюхала и чихнула от резкого запаха резинового клея, а потом легла рядом, так что ее длинная трехцветная шерсть касалась края платка, и словно выразила этим молчаливую поддержку неизвестному ей Славику.
Саша намочила новый отрез ткани, растянула его на раме и закрепила разноцветными кнопками. Она вдавливала их в дерево, нажимая так сильно, что на подушечках пальцев оставались круглые отпечатки. Менять нужно было не Славика. Другая судьба должна была быть переписана.
Вдохновение нахлынуло на нее мощной волной, едва не вырвало кисть из ее пальцев, заставило застучать сердце. Саша испугалась, что не выдержит, но почувствовала, что Мельник удержал ее. Он был очень сильным и держал очень крепко. От волнения рука ее дрогнула, и, чтобы не испортить работу, она замерла, подняв кисточку над шелком.
Татьяна, мать Славика, не любила своего любовника. Она мучилась, тяготилась им, страдала от невозможности быть рядом со своим ребенком, однако страх одиночества сводил ее с ума. В стремлении иметь рядом мужчину она была похожа на бывшего хромого, который никак не решится отбросить костыли. Она не верила в свои силы.
У Татьяны не было опоры, внутренней уверенности в своих силах и надежды на то, что дальше все будет не так уж плохо. С ее судьбой Саша поступила просто и грубо: она нарисовала опору прямо поверх всего остального: любви к сыну, страха, горя утраты и боли. Опора была глубокого синего цвета, каким бывает небо летней ночью, она плотной тенью перечеркивала платок от края до края.
Было очень поздно. Саша работала, перебарывая дикую, почти смертельную усталость. Черепашка дремала, прислонившись боком к судьбе Славика, а Татьяна вдруг проснулась и не смогла уснуть. Она лежала, глядя в потолок, и чувствовала себя бодрой, как будто спала всю ночь, а не каких-нибудь два или три часа. Смотреть на потолок было отчаянно скучно, и, если бы рядом не спал Олег, Татьяна наверняка бы отправилась на кухню, заварила себе чая или погрела молока, достала печенье из шкафчика и начала читать какую-нибудь толстую-претолстую книгу. В этом было что-то от волшебства и что-то — от приключения, но рядом храпел Олег, который мог разозлиться, что она не спит.
Он пошевелился, словно услышал ее мысли, тяжелый горячий бок притиснул Татьяну к стене. Поворачиваясь, Олег придавил одеяло, и теперь с одной стороны ей было очень жарко, а с другой — холодно. Ей это не понравилось. Татьяна сказала про себя: «Мне это не нравится», — а потом прошептала то же самое, едва разжимая губы.
«Хорошо бы добавить злости», — подумала Саша. Ее кисть вонзилась в красное и развесила по опоре яркие изорванные лоскуты, потом добавила к ним холодного серебристого электричества.
«Какого черта, — подумала Татьяна, — он каждую ночь прижимает меня к стене? Это моя кровать, и не такая уж она маленькая!» Она привстала на локте и изо всех сил дернула застрявшее одеяло. Она не ожидала, что у нее получится, однако одеяло подалось и выскользнуло из-под его грузной фигуры, а сам он немного откатился назад, сонно пробормотав: «Лежи тихо».
Татьяна укрылась, вытянула ноги, закинула руки за голову и подумала, что это очень хорошо — лежать так, как тебе хочется. Особенно после того как весь день простояла у конвейера, а потом готовила ужин, убиралась и мыла посуду. Сон не шел, и она решила, что все же пойдет на кухню. Ступать Татьяна старалась тихо и дверцу холодильника притворила аккуратно, чтобы не хлопнула. Налила молока в кастрюльку, поставила греть, нашла початую пачку печенья и в темной гостиной наугад вытянула с полки книгу. Это оказалось «Красное и черное», не читанное Татьяной со студенческих лет. Но читать не пришлось. Едва она устроилась у стола, за спиной ее, в коридоре, скрипнула половица. Славик вошел в кухню, сонно щурясь на свет.
— Мама… — протянул он неуверенно, — ты чего?
— Я — ничего, — шепотом ответила она и весело подмигнула, — я захотела молока. Не спится. Посидишь со мной?
— Посижу… — Славик кивнул и вдруг забрался к ней на колени, как делал, когда был совсем маленький. Сейчас он стал большим и тяжелым. Татьяна обняла его, вдохнула запах детской макушки и почувствовала себя счастливой.
— Я тебя люблю, — шепнула она.
— Я тоже тебя люблю, — ответил Славик и прижался к ней худеньким, жилистым телом. Потом помолчал и неуверенно спросил: — А как же он?
Татьяна едва не рассердилась, потому что Славик напомнил ей о плохом в такую чудесную минуту, но тут же поняла, что, пока не расставлены все точки над i, не может быть никакого счастья.
— А он, — начала отвечать Татьяна и запнулась, а потом продолжила: — А он пусть катится отсюда к чертям. Как ты считаешь?
Славик кивнул, заплакал, прижался к ней еще сильнее, хотя казалось, что сильнее невозможно, и крепкокрепко обнял ее тонкими сильными руками.
— Ну чего ты, ну чего ты плачешь, малыш? — шептала Татьяна. Она гладила его по голове и чувствовала, как немеют ноги под весом выросшего, почти взрослого ребенка, — Не плачь, все будет хорошо.
— Я боюсь… — шепнул Славик.
— Чего? — спросила она, сдерживая слезы, — Чего ты боишься, дурачок ты мой?
Он ответил так невнятно и быстро, что она скорее догадалась, чем услышала:
— Боюсь, что ты передумаешь. Утром.
Эта фраза разозлила ее. Так сильно, что она больше не могла думать. Она спихнула сына с колен, встала, постояла немного, дожидаясь, пока кровь побежит по онемевшим ногам, и решительно пошла к спальне.
— Мама! — шепотом крикнул Славик, но она не захотела его услышать. Ей было весело. Ей, черт побери, хотелось драки. Доски пола яростно скрипели под ее ногами. Это было здорово — слышать собственные тяжелые шаги, это было здорово!
Татьяна подошла к кровати и с размаха хлопнула по кнопке выключателя. Вспыхнула люстра, Олег застонал, сел, прикрывая руками глаза, и длинно выругался матом.
— Не смей ругаться при ребенке, — твердо сказала Татьяна. В голосе ее было столько стали, что он испугался. Она почувствовала его испуг, носом, как собака, втянула горьковатый запах адреналина.
— Ты ох… охренела вообще, да? — Он не посмел сказать грубое слово, и первая победа окрылила Татьяну, — Ты чего творишь?!
— Вставай и убирайся отсюда! — решительно сказала она.
— Чего? — Олег сидел и смотрел на нее покрасневшими, привыкшими к свету, но все еще сонными и бессмысленными глазами. Одеяло скомкалось между его ног.
— Я подумала и решила, что нам не нужен человек, который ничего для нас не делает, проедает наши деньги да еще смеет поднять на меня руку. Уходи.
Саша увидела, что в одном месте опора закрашена не плотно. Оранжевый страх штрихами пробивался сквозь плотную, незыблемую синеву.
Железа в голосе не хватило. Олег вскочил и схватил со стула ремень.
— Убью! — заорал он, и тут Славик вышел вперед:
— Ты ее больше никогда не ударишь, понял, придурок? Уходи отсюда.
— Уходи, — Татьяна подошла к сыну, положила руки ему на плечи. В голосе ее снова зазвучала уверенность, — А посмеешь ударить — его или меня, без разницы, — вызову милицию. И заодно покажу все шмотки, которые ты мне таскал. Вдруг им будет интересно?
— Пожалеешь, — просипел он, опуская занесенную руку. — Приползешь ко мне. Без мужика пропадешь, а кому ты нужна, кроме меня? Ты посмотри на себя, морда ты облезлая.
— Не смей так говорить! — крикнул Славик.
Олег не обратил на него внимания. Он натянул джинсы, рывком раскрыл шкаф, вытащил из него спортивную сумку и стал запихивать в нее подаренное Татьяне барахло. Руки его двигались рывками, голова была опущена, но в какой-то момент он бросил на нее короткий, полный ненависти взгляд. Похолодев, Татьяна подумала: а что мешает ему прирезать обоих — маленького тщедушного мальчика и женщину чуть выше полутора метров ростом? Он сотрет отпечатки пальцев и сбежит.
Свекровь не знает ни его фамилии, ни адреса. Татьяне стало страшно, но Олег собрал сумку, натянул одежду и вышел. Не решился, хотя и хотел, подумала Татьяна.
Как только за ним захлопнулась дверь, она заперла замок и оставила ключ в дверях. Вместе со Славиком они подперли дверь тумбочкой и пошли на кухню пить молоко с печеньем. Спать легли в одной комнате, чтобы оберегать друг друга от ночных кошмаров, Славику постелили на старом раздвижном кресле.
Под утро проснулись от запаха гари.
Эпизод девятый ШЕСТОЕ ИСПЫТАНИЕ
— Историю, Аркаша, нужно выбирать обязательно слезливую. Одноногая собачка кормила нас уже много сезонов и прокормит еще столько же. Главное отличие от кино и литературы состоит в том, что наша собачка — настоящая. Там это попытка выжать слезу. У нас — отражение подлинной жизни. Человеку легко примерить ситуацию на себя. Это производит, я тебе скажу, впечатление.
Ты возразишь, что не все сюжеты достаточно выразительны. Однако опыт подсказывает мне, что хороший редактор легко убедит того, кто рассказывает историю, что его история страшнее и трагичнее, чем думал сам человек. Герой передачи начинает жалеть себя, съемочная группа жалеет его, зритель замирает у экрана — все счастливы. Конечно, некоторые люди при этом выглядят Жалкими или подлыми. Но все-таки в нашей передаче больше терапевтического, доброго, обнадеживающего. Нам с тобой есть для чего жить, Аркаша. Мы даем простому человеку надежду на чудо и веру в то, что он не так Уж ничтожен. Это дорогого стоит, дорогого…
Полина не выдержала. Постоянные отношения были так непривычны для нее, что она, чем дальше, тем больше тяготилась ими и в конце концов объявила, что не может больше встречаться с Кириллом.
— Ответь мне только на один вопрос, — сказал Кирилл, — почему ты смотришь одно это шоу, и все?
— Уйди, пожалуйста, — ответила Полина. — Разве тебя это касается?
Если бы не этот его странный вопрос, она могла бы поспорить, что Кирилл испытывает облегчение. С ней было трудно, он приложил слишком много усилий, чтобы расположить ее к себе, и ничего не получил взамен.
— Извини, — сказал Кирилл и вышел из стоматологии.
По телевизору начиналось «Ты поверишь!».
Полина смотрела очередную историю и пугалась собственного безразличия. Рассказывали о смерти молодого парня. Он ушел из дома и не вернулся, его искали несколько недель, нашли в лесу расчлененный труп, упакованный в спортивную сумку. Умом Полина понимала, как это ужасно, но принять чужое горе близко к сердцу не могла, как ни старалась. Она смотрела шоу каждую неделю и успела привыкнуть к таким историям. Парень был мертв. Полине страшно было думать о том, что именно с ним произошло, но она знала: в шоу все страдающие непременно будут утешены.
Конечно, редакторы знали, что горе матери не уменьшить словами, но это не было для них важным. Во главу угла ставился так называемый «терапевтический эффект» для аудитории, состоящей из миллионов телезрителей. Жизнь одной деревенской женщины никого не интересовала — только история, которую можно было создать на ее основе.
Мельник кутался в пальто и прятал руки в карманы, стоя перед матерью погибшего. С ней были еще два человека: ее старший брат, краснолицый, большеносый человек с жесткими седеющими волосами, и ужасающе худая большеротая девушка, с которой встречался убитый парень.
— Авария. Ночь, лес, узкая дорога, — сказал Мельник. — Рому сбила машина. Сильно тормозил водитель. Сам едва не разбился. Испугался. Марку не вижу. Номер не вижу. Темного цвета. Иномарка. И туман.
Мать скептически поджала губы и покачала головой.
— Совсем не то сказал, — зашептала она, низко склоняясь к белокурой, сильно накрашенной Анне. — Какая же машина, когда Ромочку… так…
Анна сочувственно кивала.
— Да что ж они лезут, если не умеют ничего? — Мать сорвалась на слезы, заговорила хриплым, быстрым шепотом: — Душу мне мотают. Уберите вы тех, кто не может, бога ради, уберите! Мне ж просто узнать, просто узнать, кто… кто… кто… кто… мальчика моего…
У нее началась истерика. Брат, стоящий рядом, начал растерянно и неуклюже ее утешать. Он гладил плачущую сестру по плечу, наклонял к ней свою большую растрепанную голову и ничего не мог поделать. В его глазах тоже блестели слезы.
Анна обняла женщину за плечи и увела прочь от камер.
Мельник едва вспомнил, что нужно вытащить наушники из ушей, когда его, тронув за руку, позвали на съемочную площадку. Его знобило, и голоса гудели, как зимний ветер в остывшей трубе. Мельник вошел в деревенский Дом, сырой до промозглости, пахнущий печным угаром и слежавшейся, прокопченной пылью, и увидел троих незнакомых людей.
Он потянулся к Насте, но нашел в ее голове только белый густой туман. Потянулся к членам съемочной группы — и тоже увидел только белую клубящуюся мглу, такую плотную, что, будь она настоящим туманом, в нем нельзя было бы разглядеть носки собственных ботинок. Кто-то опять не хотел, чтобы Мельник хорошо себя показал. Но он был к этому готов.
Мельник потянулся к незнакомцам и отступил, ошарашенный, потому что ярче тумана в них звучала надежда получить ответ. Они любили своего Ромку, он тоже их любил, и все они были хорошими людьми. Мельник хотел ответить на их вопросы. Но в этом тумане ему не на что было опереться, кроме злости, и тогда он отпер дверь затерянной в снегах башни. Серебристая крыса замерла и уставилась на него красными маленькими глазами. Мельник присел на корточки и протянул крысе раскрытую ладонь.
— Пошли, — сказал он, — думаю, ты можешь мне помочь.
Крыса поняла, что обмана нет, и стрелой взлетела по руке Мельника на его плечо. Она удобно устроилась там, аксельбантом свесила длинный розовый хвост, слегка прикусила кожу на его шее.
— Я знаю, — ответил Мельник, — я слишком долго держал тебя здесь. Прости.
Туман начал рассеиваться, стало теплее, отступили голоса. Мельник увидел темный лес, изгиб дороги, парня, шагающего по обочине, увидел свет фар приближающейся машины, и свет этот ударил ему прямо в лицо, так что невозможно было рассмотреть марку или номер, но Мельнику показалось, что машина темная. Мельник был так захвачен видением, что не сразу понял, откуда оно идет — такое мощное и яркое. И вдруг он осознал, что три любящих человека работают как антенны, передавая и усиливая сигнал, но не в силах расшифровать его. Так же было с женщиной, искавшей сына Сережу.
Мельник был спокоен и зол. Он готовился рассмотреть машину и лицо того, кто сидел за рулем, однако у него ничего не вышло. Место тумана заняла кромешная темнота. Это случилось так внезапно, что Мельнику показалось, будто он ослеп, и глаза его начали болеть, словно под веки ему втыкали ледяные иглы. Крыса с испуганным писком слетела с его плеча и спряталась за пазухой, вонзая острые коготки в свитер, царапая кожу на груди. Боль от крысиных когтей не дала ему утратить связь с реальностью.
Он стоял, глядя на испуганных, растерянных, разочарованных людей, и понимал, что ему больше нечего сказать. Крыса у него за пазухой тряслась мелкой нервной дрожью.
— Простите, — сказал Мельник и вышел из их дома. Опасливо озираясь, крыса выползла из-за пазухи на его плечо, он злился все больше и больше и, желая знать что происходит, нырнул в голову Насти. Тумана там больше не было.
Настя злорадствовала по поводу его провала, теперь избавиться от него можно было с чистой совестью. К тому же фаворитам — Соколову и Эльме — редакторы написали сегодня исключительно удачный текст, и Мельник на фоне этого текста смотрелся хуже некуда.
Соколов снимался сразу после него, Эльма завершала День. Самые сильные выступления снимали всегда самыми последними, для того чтобы у зрителя был стимул досмотреть. В каждом эпизоде шоу лучшим назначался кто-то другой — для того чтобы не разрушить интригу, чтобы зритель до финальной программы не смог однозначно сказать, кто станет победителем.
Соколов вошел в дом обычной неторопливой походкой и встал посреди комнаты, опираясь на трость. По сценарию он должен был сказать про расчлененный труп и вспомнить серию похожих убийств в Тульской области. Преступления совершались два года назад, а потом внезапно прекратились. Сценаристы написали, что убийца затаился, поскольку полиция уже шла по его следу, а позже перебрался в Подмосковье, где убил двоих, потом сам погиб в результате несчастного случая. Насте нравилась эта схема, по ней выходило, что преступник не найден, но наказан.
— Это была авария, — внезапно сказал Соколов. Настя вздрогнула. — Рома шел домой из соседней деревни…
Мать снова скептически поджала губы, но девушка не дала ей сказать:
— А ведь мог идти! — вскрикнула она. — Валентина Степановна, помните, он все хотел у Сереги долг забрать? Помните? А у меня же день рождения был через три дня — он мог пойти. И ведь была такая мысль у нас с вами, когда мы его только-только искать начали, помните?
Мать пожала плечами. Ей было странно слышать версию кроме той, к которой она привыкла.
— Машина шла под сто восемьдесят. На узкой дороге. Поворот. Даже два резких поворота. Выбоины.
Настя похолодела от ужаса, слушая его. Ей заплатили внушительную сумму денег за то, чтобы Соколов стал победителем, и она не понимала, зачем он сам роет себе яму. Ей хотелось выбежать из ПТС на съемочную площадку, встряхнуть Соколова за плечи и закричать, чтобы он придерживался сценария. Но это было невозможно: участники тоже должны были верить происходящему. Мокьюментари нужно было снимать с одного дубля, иначе оно не имело никакого смысла. И Насте пришлось сидеть, вцепившись ногтями в стул.
— Но как же — авария? — растерянно спросила мать.
Анна, понявшая, что нужно срочно вмешаться, вошла в кадр и обратилась к Соколову.
— Нет, аварией это быть не могло, — сказала она и протянула ему фотографии. — Вот, посмотрите, в каком виде было найдено тело. Боюсь, вы ошиблись, Владимир Иванович.
Соколов внимательно посмотрел на снимки, потом бросил на ведущую насмешливый взгляд:
— А вы не думаете, что человек, случайно сбивший молодого парня, мог испугаться и попытаться замести следы? Например, замаскировать несчастный случай под преступление маньяка? Только он должен был быть осведомлен о серии преступлений в Тульской области, должен был знать почерк преступника и иметь доступ к материалам дела, чтобы достоверно подделать убийство. Мне кажется, это вполне логично. Значит, преступником был кто-то, имеющий внушительный чин в правоохранительных органах.
Настя похолодела. Это уже пахло не просто неотработанными деньгами — это пахло огромными неприятностями для всех, потому что голословные обвинения в адрес полиции были чреваты закрытием производящей студии.
Анна тоже это поняла и взяла Соколова под локоть: