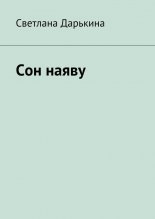Крысиная башня Лебедева Наталья

— Нет.
Мужчина наклонился, оперся ладонями о стол, и Полине пришлось посмотреть на него. У него оказались чудесные глаза: умные, живые, жемчужно-серые.
— Почему? — спросил он. — Я ведь просто хочу вас куда-нибудь пригласить.
Полина вздохнула.
— Это ни к чему не приведет, — сказала она — Я не живу с другими людьми. Я не терплю ссор, особенно когда повышают голос. Я умная и способна на многое, но не хочу ни учиться, ни менять место работы. И я никогда не отращу волосы.
Мужчина улыбнулся так обезоруживающе, что у Полины сжалось сердце.
— Вы, оказывается, трусиха. Я-то думал, что девушка, которая рискует постричься так коротко, должна быть очень смелой.
— Перестаньте! — Полина почувствовала, что злится, и это ее удивило. С тех пор как они с матерью разъехались, она всегда была очень спокойна. — Разве может быть трусом человек, который рискнул остричься, имея такое лицо?
Полина провела рукой по колючему ежику волос. Мужчина стоял на месте и спокойно смотрел на нее. Полине стало стыдно.
— Хорошо, — сказала она. — Давайте знакомиться. Кто вы по профессии?
— Гинеколог, — ответил он.
— В частной, я надеюсь, клинике?
— Нет, в обычном роддоме. Так я подъеду за вами к восьми? Вы же заканчиваете в восемь?
Она неуверенно кивнула.
— Как вас зовут? — спросил он.
— Полина.
— Кирилл.
— Рада за вас.
Он отошел от стойки, потом остановился и спросил:
— Один только вопрос: почему вы боитесь отрастить волосы?
Полина хотела отшутиться, но не смогла.
— Не все страхи иррациональны, — ответила она, — Когда взрослый человек берет маленького за косу и поднимает от пола, и когда кажется, что от головы отрывайся кожа… Ты не хочешь потом ни повторять этого, ни помнить об этом. Так что сто раз подумайте, перед тем как заехать за мной.
Кирилл ушел. Полина подумала, что он не вернется. Но в восемь вечера он ждал ее перед стоматологией. В его руках не было цветов, и это успокоило Полину. Хотя и немного огорчило тоже.
В фургончике, где сидели медиумы, на полную мощность работал кондиционер. Мельник спрятал в рукава покрасневшие от холода руки. Рядом с ним сидели Айсылу и злая старуха с цветком на кофте. От старухи удушающе пахло пряными духами.
Напротив оказались огромный парень, голова которого едва не касалась потолка, и бледная девочка с прямыми волосами. Все напряженно молчали. Парень старался ни с кем не встречаться взглядом. Ундина шевелила губами, будто повторяла про себя стихи, и смотрела на Мельника внимательным, но совершенно бесстрастным взглядом, от которого ему становилось не по себе. Он прикрыл глаза и сосредоточился на поисках тепла, искал внутри себя его источник, бродил, будто по бескрайнему лесу в поисках одинокого костра, — и не мог его найти.
— Слава, улым, чем тебе помочь? — встревоженно спросила Айсылу.
— Все в порядке, — ответил он.
— Знала бы, термос бы взяла. Чайку, медку, хлебушка…
— Не переживайте, Айсылу. Я справлюсь.
Он открыл глаза, чтобы не пугать ее.
Парень напротив заметно нервничал. Он вжимал голову в плечи, мял огромные, покрасневшие от жары ладони и отчаянно потел. На его плотной рубашке все шире расплывались серые влажные круги.
Рядом с ним ундина, тонкая, будто сплетенный из неотбеленных нитей канат, казалась еще более хрупкой. От нее пахло свежестью утренних, едва распустившихся цветов и прохладной рекой, но в ее молодом лице не было детской живости. Глаза смотрели неподвижно, она вся была погружена в свои мысли, и казалось, будто внешний мир не имеет для нее значения. Она оживала ненадолго, схватывала что-то извне, забирала с собой и там, внутри себя, обдумывала. Мыслила она не словами, а образами. Мельник видел их, они вспыхивали и таяли очень быстро и были похожи на призраки. Его собственный образ тоже мелькал среди них: Мельник нравился ундине.
Первым на испытание ушел парень, потом — ундина и, наконец, Айсылу. Остальные участники сидели, наверное, в каком-то другом фургоне, и Мельник остался один на один со старухой. Холод подступил еще ближе. Мельник снова закрыл глаза и отправился на безнадежные поиски костра, но вдруг что-то острое впилось ему в колено. Он вынырнул из темного заснеженного леса и увидел короткий палец с распухшими суставами и остро отточенным ногтем: старуха тыкала в него этим пальцем. Увидев, что Мельник смотрит, она сказала:
— Уж при мне-то мож’шь не выеживаться. Сидит он, в пальто кут’ца. Кого дуришь?
На счастье Мельника, дверь фургончика распахнулась, и его пригласили на съемку. Мельник вышел из машины и почувствовал, как жаркое летнее солнце согревает его плечи. К месту съемки пришлось идти по полю. Стрекотали кузнечики, опьяняюще пахло скошенной травой. Вслед за сопровождающим — молодым человеком в белой футболке и кепке с логотипом компании — Мельник дошел до оживленной трассы. Возле обочины стоял огромный грузовик. Его передний бампер был помят и покрыт черными шрамами. Рядом с машиной Мельник увидел Анну, актера, которого угадывали в Первой части, и еще двоих: полную женщина неопределенного возраста и молодого парня. Вокруг суетилась съемочная группа. Мельник нашел глазами Иринку и улыбнулся ей. По ее губам скользнула тень ответной улыбки.
— Что вы можете сказать об этой машине, Вячеслав? — спросила Анна, и Мельник сосредоточился на грузовике.
Он сразу понял, что молодой человек — водитель. Не хозяин, а именно водитель. Мелькнуло увесистое, уверенное имя Фред. Так водитель звал свою машину. Следом потянулось что-то темное и неясное. Мельник поднял глаза и увидел силуэт на пассажирском сиденье, но не успел понять, к чему это видение: все исчезло. Машину заволокло плотным туманом, в котором ничего не получалось разглядеть. Мельник силился прорваться сквозь густую пелену, и напряжение отнимало у него остатки тепла, подаренного жарким июльским солнцем. Мельник понял, что балансирует на краю, и отступил. Насти на съемочной площадке не было, и он лихорадочно искал голову, в которую можно было бы залезть. Мельник тронул мысли ближайшего оператора, но и там была та же молочная муть, в которой проскакивали не имеющие отношения к грузовику образы домашнего борща и загорелой худенькой девчонки с желтой, как у одуванчика, головой.
— Вячеслав? — спросила Анна.
Мельник взглянул на нее, и она отшатнулась, будто спасаясь от удара в лицо. Ее голову наполнял тот же туман.
— Вячеслав, вы скажете нам сегодня хоть что-нибудь?
— Да, сейчас, — ответил он и поднес к лицу онемевшие от холода ладони.
За его спиной Анна отступила к съемочной группе. Согревая ладони дыханием, Мельник видел, что она пьет воду и обмахивается веером. Время уходило, и он решил попробовать узнать что-нибудь от женщины, стоящей рядом с водителем. Еще не коснувшись ее, он понял, что она приходится тому матерью. Она была закрыта меньше остальных, наверное, потому, что меньше других думала о грузовике. Стоя под палящим солнцем на раскаленной дороге, глядя на стройных молоденьких ассистенток, на ухоженную, дорого одетую Анну, мать водителя вспоминала, что тоже была когда-то хороша собой. Она представляла себя счастливой молодой женщиной с густыми каштановыми волосами, одетой в красивое зеленое платье. За руку она держала сына, которому тогда было года четыре. Мальчик смотрел на маму счастливыми веселыми глазами и совсем не походил на мрачного, замкнутого в себе человека, в которого вырос.
— Вячеслав? — еще раз спросила Анна.
Дольше тянуть было нельзя. Мельник указал на молодого человека:
— Вы — водитель фуры. Это — ваша мама. Вы называете машину Фред.
Мельник замолчал, но на него смотрели, ожидая, что он скажет еще что-нибудь.
— Вы были очень красивой в молодости, — добавил он, обращаясь к матери. — И у вас было зеленое платье.
На этом испытание для Мельника закончилось. Его повели к автобусу, где уже ждала Айсылу. В руках она держала пластиковый стаканчик с горячим чаем. Заварка была в пакетиках, и чай получился невкусный, с отчетливым ароматом целлофана. Мельник выпил его, морщась, как от лекарства.
Прошло еще два с половиной часа, и последний из медиумов занял место в автобусе. Участники, утомленные жарой и ожиданием, ехали в полном молчании — на сей раз все вместе. Некоторые дремали. Выглядел бодрым только хромой. Сначала он разглядывал попутчиков, потом сказал:
— Ну а почему бы нам не познакомиться, друзья мои? Раз уж судьба свела нас вместе. Мое имя — Владимир Иванович. А фамилия — Соколов. Ну а вас, душа моя, как зовут?
— Нина, — бесцветным голосом, не поворачивая головы, ответила сидящая через проход от него ундина.
— И сколько же вам лет, юное создание?
— Семнадцать.
— И как вам испытание?
Она едва заметно пожала худеньким острым плечом.
Владимир Иванович оглянулся растерянно и весело. Медиумы по-прежнему молчали, но что-то неуловимо изменилось. Атмосфера в автобусе перестала быть напряженной. Соколов взглянул на Мельника, и тому почудилось в его взгляде скрытое превосходство.
— А я — Паша, — сказал огромный парень. Он выглядел абсолютно поникшим, его плечи округлились до бесформенности, словно были вылеплены из оплывающего воска. — Ну вы скажите, угадал кто, не? Потому что у меня хреново пошло. Не увидел я ниче. А вы как?
— Боюсь, молодой человек, — сокрушенно качая головой, ответил ему Соколов, — ничем не могу вас обрадовать. У меня все прошло вполне успешно. А у вас? — спросил он у женщины, сидевшей возле него.
— Кажется, неважно, — ответила она и улыбнулась. — Мало что сказала. Место такое: машин много, людей. Все наваливается, невозможно разобраться в ощущениях. Кстати, меня зовут Светлана.
У нее был очень приятный голос, из тех, что течет и журчит. Она говорила без акцентов и ударений, не настаивая, не внушая. Светлану было приятно слушать, но, когда она замолчала, Мельник не смог вспомнить ни одной ее фразы. То же происходило и с ее лицом. Светлана была привлекательна, но ее правильные, гармоничные черты забывались, стоило лишь отвернуться. Карие глаза смотрели спокойно, черные густые брови были слегка приподняты, будто Светлана все время ждала ответа. Лицо обрамляли мягкие, блестящие русые волосы. Светлана не казалась расчетливой мошенницей, и Мельнику стало интересно, почему она здесь. Любопытство не было праздным: события последних дней заставили его серьезно сомневаться в том, что он сможет достигнуть своей цели. Ему хотелось знать, как играют остальные и чего они хотят.
Он залез в голову Светланы и увидел, что она страдает от одиночества и чувствует себя нормально, только когда находится среди людей. Мельник задержался у нее в голове чуть дольше, чем следовало бы — в этот раз у него получилось войти очень осторожно, ничего не нарушив, — и вдруг с удивлением заметил, что слышит ее мягкий нерешительный голос, хотя в реальности Светлана молчала. Потом голосов вдруг стало два, потом три, число их росло непрерывно. Голоса навалились на Мельника лавиной. Это было странно и страшно: тысячи голосов, каждый кричал или шептал, но слов было не разобрать, звуки сливались в единый гул. Мельник подумал, что сходит с ума. Он сбежал из головы Светланы, но голоса не исчезли.
— Слава, что с тобой, улым? — спросила Айсылу.
— Все хорошо, — ответил он. — Устал.
Она посмотрела недоверчиво и внимательно, как все матери, подозревающие у ребенка болезнь. Потом повернулась к Соколову, который негромко разговаривал с Пашей.
Мельник подумал о Саше. Пытаясь справиться с голосами, он закрыл глаза и начал рисовать ее тонкое лицо. Его удивило, как, оказывается, хорошо он его знает: и линию скул, и изгиб бровей, и то, как пряди светлых волос падают на лоб.
Голоса гудели то сильнее, то тише. Он гнал от себя этот гул и продолжал вспоминать. Он сравнивал Сашино лицо, каким оно было пять лет назад, и нынешнее, осунувшееся, землисто-серое, почти безжизненное. Голоса гудели, не переставая, будто издевались над его бессилием. Выносить это было невозможно, больше всего Мельника раздражало то, что он не может разобрать слов. И тогда он вспомнил о Сашином подарке. Он приподнялся на сиденье и начал рыться в карманах пальто, поражаясь, сколько всего в них накопилось. Будто песок, он просеивал между пальцами ключи, монеты, использованные проездные метро, баночку меда, подаренную Айсылу, металлическую зажигалку, оставленную Настей, клочки бумаги, на которых редакторы писали время и место следующей съемки, мобильный телефон. И наконец среди всего этого мусора Мельник нашел Сашин подарок, маленький iPod, серебристо-голубой квадратик размером с почтовую марку. На нем почти не было записей — только то, что сохранила Саша: один альбом «Scorpions» и один — «Def Leppard». Сейчас это было то, что надо. Индикатор горел предупреждающим оранжевым, но заряда должно было хватить минут на тридцать — сорок, может быть больше. Пронзительные гитары «Скорпов» заглушили навязчивые голоса, и Мельник подумал о Саше с благодарностью.
Он физически ощущал, как билось, раз за разом повторяя один и тот же цикл, ее сердце. И когда он слегка сжал ладонь — будто в дружеском пожатии — по ее телу прошла волна нервной дрожи. Сашу — там, за две сотни километров от Мельника — начало колотить, будто от холода. Мельник замер, испугавшись, что ей станет плохо. Его поступок, в сущности, был ребячеством, но он скучал по ней и хотел, чтобы она почувствовала его присутствие.
Он открыл глаза: за окном тянулись пыльные металлические листы, отгораживающие деревню от шоссе. Мельник представил себе руку, которая держит ее сердце. Пальцы, ладонь, запястье. Чуть выше запястья, там, где измеряют обычно пульс, рука выходила из Сашиного тела. Из спины, подумал Мельник, — и тут же представил себе эту спину — узкую, гибкую, с тонкой нежной кожей. Мысль о прикосновении волновала его. Он хотел ее коснуться, обнять Сашу, поцеловать ее в макушку, вдохнуть запах ее волос, положить свою широкую ладонь на хрупкую беззащитную спину.
Настя не ездила на второе испытание и на съемки финала программы, где должны были объявить выбывшего медиума. Зато она пристально следила за совещанием экспертного совета. Решение принимали четверо: приглашенная звезда, которую угадывали в первой части программы; люди из второго испытания; практикующий психолог и профессор института парапсихологии и телекинеза. Для звезды и психолога был важен личный рейтинг, они готовы были следовать написанному редакторами сценарию, а вот профессор и участники из народа действительно верили тому, что происходит.
Настя следила за тем, чтобы на совещаниях все вели себя естественно и принимали нужные решения. С особой осторожностью нужно было обходиться с простыми людьми. Они пугались камер, атмосфера съемочной площадки действовала на них оглушающе. С одной стороны, это приводило к тому, что они плохо соображали, быстро пугались и охотно доверяли знаменитым людям, которые подсказывали им решения, с другой — могли в состоянии шока выкинуть что-нибудь неожиданное.
Настя ждала, что Пихи будут голосовать против Павла — нескладного и глупого, несимпатичного человека. Но мать вдруг решительно назвала Мельника:
— Ничего не сказал дельного. Даже не пробовал. Другие вон хоть старались…
У Насти дрогнуло сердце. Она, конечно, понимала, что от этой женщины ничего не зависит, но ей стало неприятно. Анна тоже слегка растерялась, но через мгновение уже справилась с собой.
— Как же, — мягко сказала она, — он же угадал. Немного, но…
— Одну минуточку, — вмешался профессор парапсихологии. Он пригнул голову к столу и затряс худой красножелтой рукой, которая болталась в рукаве заношенного коричневого пиджака, будто колокольный язык. — Он действовал по классической мошеннической схеме, вы не заметили?
— То есть? — спросил актер.
— То есть он сказал как можно меньше — чтобы ошибиться как можно меньше. Это же очевидно. И главное: что он сказал? Что молодой человек — водитель? Так это было очевидно. Имя машины? Но я так понимаю, что машины этой марки часто называют Фредами, это в порядке вещей. Что мать его была красивой женщиной, и что у нее было зеленое платье? Послушайте: каждый человек в юности красивее, чем в более позднем возрасте. Ну и зеленые платья, как я понимаю, не редкость. Тут он попал пальцем в небо. Ну разве нет? Разве нет — я вас спрашиваю!
Психолог жевал губы, обдумывая, как возразить, но Анна сообразила первой. Она повернулась к актеру:
— Ну а вы что скажете? Как он показал себя в вашем случае?
Актер откашлялся и басовито произнес:
— У меня хорошо все было. Он много что правильно сказал.
— Тогда почему бы нам не рассмотреть другие кандидатуры? — резво подхватила Анна. — Ведь, насколько я понимаю, были и те, кто провалил оба испытания…
Ситуация была переломлена. Совет, как и было задумано, остановился на неприметной Светлане.
О решении медиумам традиционно сообщали в мистическом месте. Это был огромный старинный парк, почти лес, с дворцами и павильонами, буйно заросший, пересеченный десятками неглубоких оврагов и украшенный ожерельем прудов.
Финальную часть каждой серии снимали возле полуразрушенной двухсотлетней башни. Ее построили в начале девятнадцатого века в виде руины, следуя романтической моде на мистику и старину. Каждый раз участники шоу поднимались на руину по завитку опасной лестницы со стесанными ступенями, в которых шатались, готовясь выпасть, крупные круглые камни, и вставали на узкой стене, держась за тонкие металлические перила. На каждого из них направлялся свет прожектора, и, когда Анна произносила имя выбывшего, луч света гас.
В полночь медиумов выпустили из автобуса, припаркованного на одной из центральных аллей, и они пошли к месту съемки размашистыми быстрыми шагами. Гане всегда нравилось снимать, как они один за другим появляются из полукруглой арки под лестницей руины — бесшумно и быстро, как летучие мыши. Старинные развалины, густо заросший парк, ночь, редкие огни и тишина придавали шоу необходимую нотку напряженности и таинственности.
Медиумов расставили по местам, Анна произнесла свой текст. Свет над Светланой померк, она опустила голову — покорно, будто действительно прочла свою судьбу заранее, по рисунку летящих по небу серых, рваных в клочья облаков, по грубому карканью вороны перед рассветом. Вышло красиво.
Камеры выключили, медиумов спустили с руины и проводили к автобусу. Светлану подгримировали и повели к пруду, где на ажурном горбатом мостике ее ждала Анна. Здесь записывалось последнее слово выбывающего. С мостика хорошо был виден парк: вытянутое зеркало пруда, темные волны подступающих к воде деревьев и крыши дворца за ними. Светлана волновалась. Она сцепила руки и сжала пальцы так сильно, что Гане казалось, еще секунда — и он услышит хруст ломающихся пальцев. Анна тоже видела, что происходит, и спешила начать, чтобы героиня не разразилась слезами раньше времени.
Включился яркий свет, ведущая тихо спросила:
— Светлана, какие чувства вы испытываете в связи с решением жюри?
— Мне кажется, это несправедливо, — начала Светлана, и голос ее трижды пресекся, пока она произносила короткую фразу. — Я делала что могла — я действительно делала что могла…
В этот момент Ганя осознал, что смотрит не на участницу. Что-то отделилось от берега в нескольких десятках метров от съемочной группы и теперь скользило к мосту. Это было нечто неясное, одновременно темное как вода, и молочно-белое как предрассветный туман. В самой середине мерцал трепетный огонек свечи, живой, будто бьющееся сердце.
— …я уверена, что я… — Голос Светланы вдруг стал раздражающей помехой. Гораздо важнее стало узнать, что плывет по темной воде пруда. И не один Ганя чувствовал себя так, потому что, не дожидаясь окончания фразы, Анна громко спросила:
— Что там плывет?
Она решительно пошла вперед, отодвинула рукой опешившую Светлану, встала у самых перил и наклонилась над водой. Тут же камера качнулась вперед и вверх, слетая со штатива, и широкая спина Руслана загородила от Гани пруд. Тогда он тоже подошел к перилам моста и вцепился в холодный, липкий, запыленный чугун.
Луч от камеры Руслана выхватил темное, напитанное влагой дерево, а потом — лицо и широко распахнутые глаза. Закричала Светлана, за ней — Анна. Это был страшный крик, дикий, на износ, какого Ганя никогда не слышал. Он и сам готов был кричать, потому что на сколоченном из грубых досок плоту лежала обнаженная Настя. Мертвая. Со свечой в окоченевших руках. Ее длинные черные волосы были распущены и плыли за плотом по воде.
— Настя, — прошептал Ганя.
Чьи-то крепкие руки отдернули его прочь от перил. Ганя потерял счет времени. Он сидел на берегу и смотрел перед собой. Взгляд его не мог остановиться ни на чем, изображение расплывалось, искажалось и теряло смысл. Только иногда что-то случайно оказывалось в фокусе. Например, багры: откуда-то в большом количестве взялись багры, и Ганя даже немного посмеялся про себя над тем, какое это смешное слово: ба-гры. Гры.
Туман рассеялся, когда оказалось, что это не Настя. Очень похожая женщина, вот и все: высокая, стройная, темноволосая, но не Настя.
Прибыла полиция. Из парка никого не выпустили. Занимался рассвет, допрос шел полным ходом. Оказалось, что алиби есть только у пятерых: у Гани, Светланы, Анны, Руслана и у Сашка, который держал микрофон.
Остальные ждали окончания съемки у автобусов и постоянно перемещались. Никто ничего не мог доказать или подтвердить. Гане было страшно. Его желудок болезненно сжимался каждый раз, когда он думал о том, что плот от дальнего берега мог оттолкнуть кто-то из людей, которых он сегодня привез с собой.
Эпизод шестой ТРЕТЬЕ ИСПЫТАНИЕ
Сначала Боря отказывался сниматься. Он совершенно не хотел показывать свое лицо на экране, стеснялся камер и боялся, что после съемок внимание к нему будет так велико, что невозможно станет охотиться за новыми жертвами. К тому же он подозревал, что медиумы могут оказаться настоящими, и боялся разоблачения. Но сопротивляться матери было невозможно. Она плакала, жаловалась, настаивала, приводила доводы. В конце концов Боря сдался.
Он приехал, как и велели, утром, встал у обочины дороги, которая к полудню превратилась в раскаленный ад, и молчал, хмуро глядя себе под ноги. Однако приободрился, когда понял, что никто из медиумов не может его разгадать. Не очень способный к наукам, тугодум во всем, что касалось учебы, Пиха хорошо соображал, когда дело касалось Фреда или совершенных им убийств. Он представил, как подруги его матери посмотрят «Ты поверишь!» и убедятся, что он ни в чем не виноват: все медиумы, в один голос, говорили именно это, а мамины подруги телевизору верили.
Он понял, что мать надо ценить.
Теперь она сидела справа от него, в кабине Фреда, на том самом месте, где обычно сидел труп. Они ехали домой, мать слегка покачивало, а когда шатало сильно, она придерживалась двумя пальцами за приборную доску. Ободренный ее молчанием и счастливым выражением лица, даже отчасти растроганный, Боря предложил ей заехать в кафе.
— Давай, ма, — сказал он. — Мы ж теперь как звезды. Надо отметить.
Они поели. Боря не скупился и даже взял матери для шика бокал вина. Она, смущенная и немного напуганная неожиданным проявлением внимания, не посмела отказаться и выпила до дна, хотя вино показалось ей ужасно кислым и вызвало сильную, переходящую в тошноту изжогу. Но она терпела, не в силах поверить своему счастью: сын стал с ней разговаривать.
— Ну, — спросил Боря, — как тебе, ма?
Она смущенно пожала плечами:
— Страшновато даже. Такие люди — раньше тока по телевизору. Ведущая эта. Актер, как его там…
— Ну а колдуны тебе как?
— Колдуны — оооо… — Мать не сразу нашлась со словами, которые могли бы выразить весь ее восторг. В голове ее во время съемок стоял туман. Ей казалось, что колдуны говорят какие-то правильные и удивительно важные вещи, которые она никак не может осмыслить. Но главным было то, что все они поддержали Бореньку, и с сердца ее упал тяжкий груз.
— Те кто больше понравился? — спросил Боря.
— Цыганка, — не раздумывая, ответила мать.
Тут двух мнений быть не могло. Цыганка поражала воображение. Она была очень худой и отчетливо напоминала песочные часы с тонкой талией, широкой, колоколом, юбкой и копной густых, черных, волнистых, как использованная и распрямленная проволока, волос. Ее темные, жирно обведенные карандашом глаза смотрели остро и цепко, а слегка сутулые плечи добавляли ей сходства с настоящей колдуньей.
В руках Эльмы все время что-то с треском вспыхивало, от нее пахло дымом, серой и восточными специями. Когда цыганка стала говорить, у матери похолодело в груди — так точно она описывала все, что происходило с Борей: и первую аварию, и бомжа, и то, что случилось в тумане. Она, как ножами, бросалась короткими острыми фразами, грубый и низкий голос звучал убедительно и пугающе.
— Родственник у тебя есть, — сказала цыганка в конце и перевела взгляд с матери на Борю. — Завидует тебе.
Мать от неожиданности хватанула ртом воздух. Цыганка откуда-то знала про Стаса и его зависть, причин которой мать сформулировать не могла, но которую всегда подозревала.
— И машину он тебе сглазил.
Мать моргнула, испуганно схватилась за сердце. Цыганка вцепилась ей в запястье и тряхнула руку, то ли успокаивая, то ли приводя ее в сознание.
— Не бойся ничего. Сниму сглаз. Защиту поставлю. Никто до сына не дотянется.
Эльма пошла вокруг Фреда, жгла, шептала, курила и щелкала пальцами, а все остальные следовали за ней, как крысы за крысоловом. После ухода цыганки в душе у матери остались тревога и злость на Стаса.
— Цыганка мне тоже понравилась, — кивнул головой Боря. — Жутко даже немного, скажи?
— Это точно, — кивнула мать.
— И дядька был прикольный. Скажи?
— Какой из двух?
— Из двух? — Боря, вспоминая, нахмурил лоб. Ему запомнился только один, хромой, лет за пятьдесят, с благородной сединой, изящно поигрывающий богато украшенной тростью. Боре нравилось это непринужденное движение, которое он раньше видел только в кино. Мужчина не говорил про сглаз. Он произнес очень длинную фразу про негативные энергии, которые сгустились над Борей. Боря из этой фразы вынес ту же успокоительную мысль: его никто не считает виноватым.
Матери понравился второй, Константин. Правда, имени она не запомнила, как не запомнила, что седого звали Владимир Иванович, а цыганку — Эльма. Константин угадал совсем мало: аварию увидел только одну, с бомжом, правда, сказал, что сбитый человек выжил. Но он был очень похож на старинную ее любовь и смотрел так ласково, что сердце ее плескалось в груди, точно южное море, на котором она ни разу в жизни не была.
— Все будет хорошо, — пообещал Константин, и ему сразу как-то поверилось, и сразу стало спокойно.
— А бесноватый-то, — неожиданно для себя хихикнула мать.
— Это какой? — спросил Боря, перестраиваясь в другую полосу.
— С бубном. Чуднооой!
Мать взяла валявшуюся в кабине старую потрепанную газету и стала обмахиваться ею, будто от радостного смеха ей стало еще жарче. Боря криво усмехнулся в ответ, но по его заблестевшим глазам мать поняла, что сыну тоже весело.
Шаман пришел на съемку с потрепанным пластмассовым бубном. Обрезанные по колено джинсы он сменил мешковатыми холщовыми штанами, которые спереди выглядели прилично, но сзади имели треугольную проРеху, сквозь которую виднелись черные боксерские трусы с белыми кружочками. На голове у шамана по-прежнему была зимняя шапка с длинным пушистым мехом и оттопыренными ушами.
Борю он поначалу совершенно ошарашил: подошел почти вплотную, долго всматривался в глаза, а потом вдруг поднял руки резким, едва уловимым жестом и изо всех сил ударил в бубен. От Бори, едва удостоив вниманием мать, он пошел плясать вокруг грузовика, закатывал глаза и дергался всем телом, больше напоминая Элвиса, чем шамана. Протанцевав круг, упал на обочину и стал биться в припадке. Боря с ужасом ожидал пены изо рта, но пена не пошла. Шаман встал, облизнул пересохшие от чрезмерных вдохов и выдохов губы и стал говорить.
— Машиииинка знатнейшая, — говорил шаман, подкашливая и потряхивая бубном. — Много видала, много… Девок сюда напихавают полный кузов и ездют с има. И одную девк’ придушили тама. И на дорогу выкинули. А полиция не знает, откуд’ девк’ голая на дороге. А она отседа…
Боря не мог поверить тому, что он слышит. Он передернул плечами, которые вдруг ощутили жжение яростных солнечных лучей, и сглотнул. Горло мучительно сжалось. Боря взглянул на мать: та смотрела на шамана испуганными глазами. Рот ее был полуоткрыт, точно она собиралась что-то сказать, но не знала, можно ли, пока ей не дали слова.
— Мальчонка-т’ сам редко че там… — шаман снова резко ударил в бубен, потом затряс им, так что звон дешевых бубенцов, больше похожий на шорох, прокатился по Бориной груди, вызывая мурашки. — Он се болын’ за рулем, за рулем… Ну подсматрт иногда.
Боре сложно было представить, что теперь будет. Уйти от одного обвинения и вляпаться в другое, абсурдное, но… Кто знает, сколько человек поверят ему. Кто знает!
В отчаянии он оглянулся на съемочную группу. И увидел, как люди прячут улыбки. Боре стало легче: шаману не верили. Он еще раз рассмотрел нелепую фигуру: трусы, выглядывающие из прорехи в штанах, и начало худой, покрытой черным ворсом ноги; узкие плечи; шапка, кажущаяся непомерно большой; длинный острый подбородок, впалые щеки. Клоун, паяц. Он и двигался так, будто его дергали за веревочки. Публика умирала от смеха.
— Давайте заглянем внутрь, — предложила Анна. На лице ее не было и тени улыбки, она смотрела сосредоточенно и серьезно — словно верила, что такое действительно могло происходить. Но в ее серьезности и в том, как Анна произносила слова, Пихе слышалась нарочитость, граничащая с насмешкой.
Боря обошел Фреда, потянулся, чтобы распахнуть дверцы кузова, но Анна схватила его за руку.
— А вы можете, — обратилась она к шаману, — сказать, что мы там увидим?
Тот наклонился вперед, вытянул руку, в которой бился в эпилептическом припадке бубен. Длинный мех на шапке шамана колыхался в такт движениям, шел мелкими волнами, как река в ветреную погоду, сама же шапка сидела как влитая, будто была частью головы. Вторая рука шамана резко взлетела вверх и ударила бубен так, что на секунду показалось, будто белая пластмассовая середина разлетелась на осколки, а железные колечки бубенцов поскакали по асфальту шоссе. Все, кто окружал его, вздрогнули, а он выпрямился, спрятал бубен за спину и сказал ровным, немного гнусавым голосом:
— Тама для оргий се. Ковром застлано. Диван там’ж. Для выпивки шкаф и пыточная.
— Что? — в изумлении переспросила Анна.
— Пыточная. Для извращенц’в. Кнуты т’м, плетки…
Анна пожала плечами и дала Боре знак. Тот, не чувствуя уже ни капли страха и едва сдерживая подступающий хохот, рванул на себя дверцу. За ней обнаружился грязный темный кузов безо всяких следов ковра и диванов. Бара тоже не было, а была только пустая пластиковая бутылка, закатившаяся в угол. При воспоминании об этом Боря и его мать закатились в приступе искреннего, громкого и раскатистого смеха.
Шаман упал в обморок — то ли придуривался, то ли действительно получил тепловой удар. Но это тоже было смешно: вспоминать закатившиеся глаза и крупные капли пота, текущие из-под шапки на лоб.
Они ехали по дороге, смеялись, Боря иногда подталкивал мать локтем в бок. Он чувствовал удивительную свободу: по телевизору сказали, что он не виноват, и он уже сам в это верил. Все, что он сделал, — уходило в прошлое, скрывалось в белом шуме телевизионного экрана. Будто не было ни удара, от которого невесомый бомж улетел на несколько метров вперед, ни скрежета металла, когда чужая машина вмялась в Борин кузов, ни тяжести мертвого ребенка на руках.
Он был чист, как после отпущения грехов. Можно было все начинать сначала.
Мать видела, как полегчало на душе у сына. Он снова смеялся, глядя ей в глаза, снова разговаривал с ней — именно разговаривал, а не отвечал короткими отрывистыми фразами. Он опять был ее маленьким веселым мальчиком, каким не был, наверное, лет с пяти. А как и почему он превратился в мрачного, подозрительного и грубого человека, она не знала и не могла понять.
Но теперь она что-то исправила и вернула себе счастье.
Она готова была молиться на Бореньку.
Обстановка была нервной. Люди избегали смотреть друг другу в глаза и инстинктивно сторонились Насти. После обнаружения трупа она была мрачна и требовательна, но дело было не в этом. Людей пугало то, как сильно труп был похож на нее.
Мельник держался особняком — впрочем, как и всегда. Айсылу подошла к нему и тут же отошла, сокрушенно качая головой: он не реагировал на ее слова. Сидел в автобусе, прислонившись головой к нагретому солнцем стеклу, и чувствовал, как в виске пульсирует тупая боль. Ему было холодно, жужжали голоса — теперь это был неизменный фон его существования. Мельник подозревал, что сам открыл ящик Пандоры, откуда вылетел навязчивый, гулкий и опасный, словно осы, шум. Он никогда раньше не читал человеческих мыслей, если на то не было крайней необходимости. Теперь же, на шоу, в головах приходилось копаться долго, выискивать нужное, вслушиваться и выбирать. Голоса сорвали крышку с петель и поселились в его голове.
Ему было плохо. Но, чтобы не волновать Айсылу, он делал вид, что просто дремлет, разморенный солнцем. В ушах его были наушники, и он мог притвориться, что не слышит, как Айсылу справляется о здоровье. Агрессивная музыка упорядочивала звуки, поселившиеся у Мельника в голове. Электрогитары, словно острые шпаги, нанизывали голоса на высокие дрожащие ноты. Ритм-секция била по ним, заставляя вливаться в общий хор. Теперь в плеере у Мельника было больше двух альбомов. Бестиарий рос, потому что скорпионы и глухие леопарды уже не справлялись.
Его позвали на испытание одним из последних. Мельник вошел в маленькую квартиру. В комнате стояла старая мебель: диван, советская стенка, телевизор на маленькой тумбочке, в углу — гигантский фикус, какие чаще всего бывают в официальных учреждениях. На диване сидела бледная, худая женщина. В руках она зажала измятый носовой платок, глаза ее были испуганы. Тонкие, едва заметные губы она искусала до синевы.
Мельник вынул наушники из ушей, затолкал тонкий провод в карман. Голоса держались поодаль, точно лисы, ждущие, пока хозяева фермы улягутся спать. Мельник выдохнул, готовясь к неизбежному. Голоса не набросились сразу, они ждали, пока Мельник начнет.
В воздухе все еще витали слова, сказанные девятью другими медиумами, — их помнили, их обдумывали члены съемочной группы и сидящая перед Мельником женщина. Это мешало ему, но и помогало тоже: по крайней мере было понятно, что произошло. Мельник перевел взгляд на тускло блестящую перекладину турника, закрепленную в дверном проеме. Услышал мягкий мужской голос — его женщина помнила лучше прочих. Соколов в ее голове продолжал повторять: «Мама ваша покончила самоубийством… Никто не виноват… Опухоль мозга, совсем небольшая, не обнаружили при вскрытии… Помутнение сознания… Это болезнь, вы не виноваты…» Она хотела услышать эти слова, именно ради них решилась на участие шоу. Или тогда уже ради того, чтобы выслушать приговор и уйти вслед за матерью тем же путем.
Однако слова Соколова не были правдой, причина самоубийства была не в опухоли. Отмахнувшись от его убедительного голоса, Мельник стал искать настоящую причину. Он увидел мать и дочь, похожих друг на друга, требовательных, серьезных, скупых на проявление эмоций, неулыбчивых. Они жили в маленькой квартире вдвоем и, хотя много разговаривали по вечерам после работы, все равно остро чувствовали одиночество. Из одиночества вырастала злость, из злости — короткие и яростные ссоры.
Пока мать была жива, можно было ее обвинять.
— Если бы не ты, я бы себе давно кого-нибудь нашла! Куда я приведу мужчину? На соседний диван? — кричала дочь.
Мать обижалась.
Их трагедия заключалась в том, что они сильно и искренне любили друг друга, но не умели об этом говорить.
Однажды утром мать проснулась и долго смотрела в потолок. Она думала о том, что ей шестьдесят пять, а дочери — тридцать восемь. Она могла бы прожить еще лет пятнадцать, тогда дочери будет… тридцать восемь плюс пятнадцать… арифметика долго не давалась ей, но в конце концов цифры сложились: пятьдесят три. Цифра показалась ей огромной. В пятьдесят три нельзя найти себе мужчину. А в тридцать восемь не все еще потеряно, и можно выйти замуж, завести ребенка. А в пятьдесят три? Уйдет мать, и наступит полное одиночество.
В голове ее разогналась шумная, пестрая карусель. Мысли вертелись по кругу, а руки прилаживали веревку. Старый деревянный табурет встал в дверном проеме, поскрипывая и покачиваясь, — давно пора было его выбросить, но они всегда жалели. Мать подумала: вот будет еще один плюс — теперь дочь наверняка его выкинет.
Колени слегка согнулись, ноги приготовились оттолкнуть опору, и, когда веревка начала впиваться в горло, мать вдруг поняла, что делает.
Каково будет дочери вернуться домой и найти ее тело?
Каково будет всю жизнь вспоминать грубые слова, сказанные матери?
Но было поздно. Край сиденья ударил о доски пола. Натянулась веревка. Слегка прогнулся старый турник.
Мельник мог все это рассказать — и каждое слово было бы правдой. Но на него смотрели глаза — напряженные, полные страха, ожидающие приговора. Женщина позвала их, чтобы получить отпущение грехов. Ей было необходимо, чтобы кто-то подтвердил ее невиновность. Год прошел, а боль не стала меньше. Квартира принадлежала ей одной, мужчина не появился, мамы Рядом больше не было. Мельник не мог нанести ей последний удар. Он вспомнил отголоски чужих слов и подумал: пусть она лучше считает, что для самоубийства были другие, более серьезные причины.
Правильные слова не шли. Мельник сказал:
— В этой квартире повесилась ваша мама. На турнике. Около года назад. Последнее, о чем она подумала: как сильно она вас любит. Я соболезную.
Он сел рядом и взял ее за руку. Прикосновение далось ему удивительно легко. Он не знал, утешал ли ее или сам получал утешение.
Мельник вышел из подъезда, поднял воротник и посмотрел на небо в легких облаках, скрывающих солнце. Он достал из кармана наушники, и голоса в его голове плавно влились в поток гитарных риффов. Память его была полна воспоминаниями о чужой боли, и от этого он мерз сильнее, чем раньше. Мельник поднял воротник и пошел через двор, мимо автобуса съемочной группы. Настю в припаркованной возле одного из подъездов иномарке он не видел. Ее тонкая рука нервно сбила пепел с сигареты и снова скрылась в темном салоне машины.
Мельник долго кружил по спальному району в попытке выйти к метро и даже согрелся от ходьбы. Он шел интуитивно — ему не хотелось разговаривать с людьми, чтобы узнать дорогу. Во время этих кружений Настя потеряла его из вида. Она досадовала на себя из-за того, что не пригласила его в машину сразу. С каждой съемкой Мельник все больше и больше ее волновал. Теперь нужно было ехать к его дому и ждать его там.
Тем временем Мельник вывернул к большому ресторану, выходившему окнами на оживленную улицу. Мельник смотрел на его вывеску секунду или две, пока не осознал, что голоден и хочет в «Мельницу». Он развернулся и сделал несколько шагов к метро, но вдруг остановился. На другой стороне дороги был припаркован черный «Porsche», в котором сидел знакомый Мельнику человек. Он прищурился, глядя на Мельника, потом спохватился и опустил голову, пряча лицо.
Мельник задумчиво посмотрел на витрину ресторана. Темное стекло, обрамленное тяжелыми драпировками, не давало рассмотреть сидящих за столиками людей, но он был уверен, что человек, приехавший на «Porsche», находится там. Возможно, именно он черной тенью промелькнул в голове у Насти, возможно, именно он создал белую завесу тумана.
Подходя к дороге и вытаскивая наушники из ушей, Мельник не сводил глаз с молодого человека, сидящего в «Porsche». Еще десять дней назад этот странный худощавый парень с водянистыми глазами и выступающим кадыком переминался с ноги на ногу возле огромного грузовика по имени Фред, и его испуганная мать боялась, что мальчика уволят. А теперь он сидел за рулем роскошной машины.
Машины проносились мимо одна за другой, и Мельник был вынужден ждать на тротуаре. Парень в «Porsche» заволновался. Казалось, сейчас он уедет, и Мельник, боясь упустить его, заторопился.
Поток машин прервался. Мельник поставил ногу на мостовую. Парень поднял голову и осмотрелся в надежде, что за ним никто больше не наблюдает. Мельник встретил его взгляд, коснулся его мыслей и понял, что это — ловушка. Черная тень занимала глупую голову водителя. Едва Мельник заметил ее, голоса навалились, вгрызлись в тело тысячей высоких звуков, ударили по голове тяжелыми басами. Мельник схватился за голову, плеер, все еще зажатый в ладони, взлетел в воздух и с легким стуком приземлился на мостовую. Надвинулась серая от пыли громада маршрутки. Наверное, завизжали тормоза. Наверное, кто-то закричал, но Мельник не мог этого слышать: наступило безмолвие, весь мир покрылся льдом.
В это же время Настя припарковалась у его подъезда. Она так волновалась, что даже не могла курить. Не доставая из сумочки зажигалку, она все крутила и крутила между пальцами незажженную сигарету. Крупинки табака, изжелта-коричневые, как опавшие листья берез, сыпались ей на колени.
Потом он появился. Настя смотрела на деревья за его широкими плечами: в их зеленых локонах мелькали желтые пряди. Начиналась осень, и черное драповое пальто уже не выглядело так вызывающе. Мельник медленно шел к подъезду. Правой рукой он обнимал за плечи Иринку и шептал ей что-то на ухо. Она улыбалась и время от времени поднимала на него темные глаза в густых черных ресницах.
— Уволю, к хреновой тебя матери, — четко проговорила Настя и прибавила еще несколько отчетливых ругательств. Ей было все равно, слышит ее кто-нибудь или нет.
Резким движением Настя отложила раскрошенную сигарету на соседнее сиденье, словно собиралась закурить ее потом, и достала из пачки новую. Сигарету Настя плотно обхватила губами и начала чиркать зажигалкой. Пламя не хотело появляться. Настя чиркала, пока палец не начало саднить — зажигалка была дешевая, купленная на кассе супермаркета. Любимый Настин «Дюпон» куда-то пропал.
Огонек наконец вспыхнул. Занялась, слегка потрескивая, сигарета. Настя привычно втянула дым, и ее едва не вывернуло наизнанку. Рот наполнился горькой слюной, болезненно свело желудок. Рука инстинктивно отвела сигарету подальше. Настя подумала, что больше никогда в жизни не закурит. Ей казалось, что отныне тонкая трубочка сигареты между пальцами, запах дыма и легкие крошки табака, падающие на колени, будут всегда напоминать о Мельнике, который обнимал за плечи некрасивую девушку.
Мельник и Иринка скрылись в подъезде. Жесткий, высохший березовый лист слетел с березы и ударил острым ребром по лобовому стеклу. От стука Настя вздрогнула: она выпала из реальности, представляя себе поцелуи и огромную кровать со скомканным, сползающим на пол одеялом.
— Отпусти, я пойду сам, — вот что Мельник говорил Иринке на самом деле. Ему стало лучше, и последнее, чего он хотел, — висеть на женских плечах.
Она вскинула голову и долго смотрела на него снизу вверх. Мельник поразился, какая она маленькая: ниже ста шестидесяти. В нем было почти на тридцать сантиметров больше.
— Я тебя доведу, — ответила она, глаза ее смеялись, — Мне не трудно.
— Я ничего не помню, — сказал он, смиряясь, но стараясь идти так, чтобы она не чувствовала его веса, — Как я попал в метро?
— Ты спрашивал уже два раза, — Иринка вздохнула, — Но я скажу еще раз. Мне позвонила Айсылу. Сказала, ей еще на съемках не понравилось, как ты выглядишь, и она за тобой пошла. Ты стал переходить дорогу и чуть не свалился: она дернула тебя сзади за пальто, чтобы ты не упал под колеса. Я ноут ребятам отдала, прибежала, ты на лавочке сидишь, серый, глаза больные. Я сказала, надо скорую вызвать, Айсылу не разрешила. Сказала, лучше домой.
— А где она?
— Сейчас придет. В магазин побежала. Велела, чтобы я тебя уложила спать.
— Я сам.
Иринка бросила на него насмешливый взгляд, и он понял, что должен принять ее помощь. Она делала то, что была должна и умела делать, и это нисколько не затрудняло и не оскорбляло ее.
В квартире он послушно сел в кресло, стоявшее в углу спальни, и смотрел, как Иринка открывает окно, сквозь которое тут же ворвался свежий, с горчинкой, запах ранней осени. Застелив постель, Иринка подошла к Мельнику и взяла за рукав его пальто, помогая раздеться. Мельник хотел возразить, но в том, как пальто соскользнуло с его плеч, было что-то невыразимо приятное, и он промолчал. Раздевшись, он нырнул под одеяло, к прохладе простыни, и вдруг понял, что ему не холодно. Засыпая, Мельник видел брошенное на кресло пальто как расплывчатую черную кляксу. Во сне он чувствовал вкусные запахи, а когда открыл глаза, услышал, как что-то шипит и постукивает на кухне. Звуки были домашние, уютные, и Мельник провалился в дрему снова. Он вынырнул на поверхность, когда теплая рука коснулась его плеча и негромкий голос произнес:
— Слава, проснись, покушай. Я приготовила.