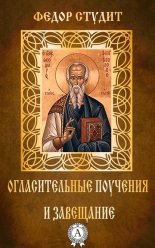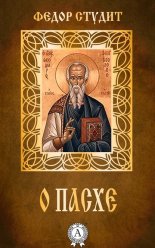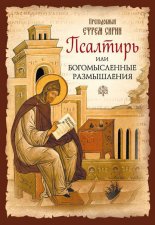Выживший: роман о мести Панке Майкл

© Майгурова И., перевод на русский язык, 2015
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
* * *
Моим родителям
Мэрилин и Бутчу Панке
Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божию],
Ибо написано: «Мне отмщение, Аз воздам, глаголет Господь».
Рим. 12:19
1 сентября 1823 года
Его бросают на произвол судьбы – раненый понял это по взгляду парнишки, который упорно смотрел в землю и по сторонам, не в силах встретиться с ним глазами.
Тому, второму, парнишка прекословил который день. (Неужто пролетели целые дни?) Все это время раненого одолевали лихорадка и боль; он толком не понимал, что из слышанных разговоров явь, а что горячечный бред.
Он глянул на громаду скалы, нависшей над поляной. С краю склона торчала корявая сосна, умудрившаяся вырасти на голом камне, и, хотя раненый видел ее не впервые, до него только сейчас дошло, что ствол и ветви образуют крест. Что ж, видимо, ему судьба умереть здесь, на поляне рядом с ручьем.
Странно, что обстановка его так мало волнует. Интересно, что он решил бы на месте тех двоих? Если они останутся, а снизу по ручью нагрянут враги – погибнут все трое. Пошел бы он на смерть ради них… если им все равно умирать?
– А точно сюда идут? – Парень явно не владел собой: привычный тенорок на последних словах вдруг сорвался в мальчишеский фальцет.
Тот, второй, в шапке из волчьей шкуры, метнулся к решетке у костра и принялся запихивать в кожаный мешок полоски вяленой оленины.
– Хочешь остаться и проверить? – рявкнул он.
Раненый хотел было заговорить, но горло привычно ожгло болью, и, как ни пытался он произнести единственное вожделенное слово, изо рта вырывался хрип.
Обладатель волчьей шапки, спешно собирая немногие пожитки, даже не повернул головы, оглянулся только парнишка.
– Он что-то хочет сказать!
Парень опустился на колено рядом с раненым – тот, не в силах говорить, повел в сторону здоровой рукой.
– Винтовку! Просит свою винтовку!
Второй в несколько уверенных шагов пересек поляну и грубо огрел парнишку по спине.
– Займись делом, прах тебя побери!
Подступив к раненому, человек в волчьей шапке оглядел его вещи: охотничью сумку, нож в украшенных бусинами ножнах, топорик, винтовку и рожок для пороха. Раненый, не в силах двинуться, беспомощно следил, как человек вытащил из охотничьей сумки огниво и переложил его в карман кожаной куртки; рожок с порохом он повесил на плечо, а топорик засунул за широкий кожаный пояс.
– Что ты делаешь? – воскликнул парнишка.
Тот, в шапке, нагнулся за ножом и перебросил его парню.
– Держи.
Парень поймал оружие на лету и с ужасом воззрился на ножны.
Оставалась винтовка.
Обладатель волчьей шапки взял ее в руки и проверил заряд.
– Не обижайся, старина Гласс. Тебе она без надобности.
Парень застыл на месте.
– Бросить? Безоружного?
Мужчина в волчьей шапке лишь смерил его взглядом и, шагнув прочь, скрылся среди деревьев.
Лежащий неотступно смотрел на парнишку, замершего с ножом в руках. С его ножом… Парень поднял глаза, будто хотел заговорить, потом резко повернулся и исчез за соснами.
Раненый напряженно вглядывался в просвет между стволами, где скрылись бывшие приятели. Клокочущая в груди ярость охватила его целиком – как пламя сосновую ветку. Хотелось одного: задушить их на месте.
Зреющий в груди крик рванулся было наружу, однако горло лишь полыхнуло болью, не выдав ни звука. Раненый приподнялся на левом локте – правая рука хоть и могла сгибаться, но опоры не давала. Шею и спину немедленно пронзило болью, натянулась кожа на грубых швах. Он глянул на ногу, туго обмотанную кровавыми лоскутами от старой рубахи: согнуть бедро не выйдет, ногой не двинешь.
Собрав остаток сил, он с трудом перекатился на живот. С треском лопнул шов на свежей ране, спину залило теплой кровью, однако боли он почти не чувствовал – все затопила ярость.
Хью Гласс пополз вперед.
Часть I
Глава 1
21 августа 1823 года
– Моя лодка придет из Сент-Луиса со дня на день, мсье Эшли, – терпеливо, но настойчиво повторил француз. – Я охотно продам пушной компании Скалистых гор все ее содержимое, но не могу распоряжаться тем, чего у меня нет.
Уильям Генри Эшли грохнул жестяной кружкой о грубый дощатый стол. Хотя под аккуратно подстриженной седой бородкой играли желваки, они вряд ли сулили очередную вспышку: Эшли понимал, что сейчас ему противостоит самый презренный из врагов – ожидание.
Француз с невероятным именем Кайова Бразо не сводил глаз с собеседника и тревожился все больше. Визит Эшли в факторию – редкостная удача: надежное знакомство с такой фигурой обеспечило бы его предприятию длительный успех. Эшли знали в Сент-Луисе как крупного дельца и политика, который мечтал расширить торговлю на запад и имел для этого средства. Как называл их Эшли – «чужие деньги». Шальные деньги. Способные пригодиться не в этой, так другой рисковой затее.
Кайова сощурил глаза за толстыми линзами; даже при слабом зрении он великолепно разбирался в человеческих лицах.
– Если позволите, мсье Эшли. Пока вы ждете мою лодку, могу предложить небольшое утешение.
Эшли ничем не выказал заинтересованности, однако продолжать тираду тоже не спешил.
– Мне нужно выписать провиант из Сент-Луиса. Завтра мой курьер отправляется вниз по реке на каноэ. Он может передать весточку вашим партнерам – ободрить их, прежде чем расползется слух о неудаче полковника Ливенворта.
Эшли перевел дух и обреченно отхлебнул кисловатого эля. Выбора нет, от ожидания все равно не уйти. А совет француза не лишен мудрости: инвесторов и вправду лучше успокоить прежде, чем молва о битве хлынет на улицы Сент-Луиса.
Кайова, почуяв готовность собеседника, немедленно выложил перед Эшли перо с чернильницей и бумагу и вновь наполнил элем кружку. Он явно рад был откланяться.
– Не буду вас отвлекать, мсье.
Тусклый огонек сальной свечи горел в комнате Эшли глубоко за полночь. Вице-губернатор писал письмо.
Форт Бразо на реке Миссури,
21 августа 1823 года
Джеймсу Д. Пиркенсу, эсквайру,
фирма «Пиркенс и сыновья».
Сент-Луис
Уважаемый мистер Пиркенс!
К сожалению, я вынужден исполнить неприятную обязанность и изложить вам события последних двух недель – события, способные круто поменять (хотя и не нарушить) наши планы, связанные с Верхней Миссури.
Как вам, вероятно, известно к этому часу, отряд нашей пушной компании был атакован индейцами племени арикара после благополучной закупки у них шестидесяти лошадей. Арикара напали без малейшего повода с нашей стороны, убили шестнадцать человек, ранили около дюжины и угнали обратно коней, «проданных» нам накануне.
Нападение принудило меня отступить вниз по реке и безотлагательно обратиться за помощью к полковнику Ливенворту и регулярной армии, поскольку арикара своим нападением открыто попрали законное право граждан Соединенных Штатов беспрепятственно пересекать реку Миссури. Я также попросил о содействии наш собственный отряд (под командованием капитана Эндрю Генри), который подошел к нам из форта Юнион, подвергаясь немалому риску.
К девятому августа мы имели против арикара сводное войско из семисот человек, включавшее двести солдат Ливенворта (с двумя гаубицами) и сорок наемников пушной компании Скалистых гор. Мы также нашли союзников, пусть и временных, в лице четырехсот воинов племени сиу, чья вражда с арикара уходит корнями в исторические разногласия, природа которых мне неизвестна.
Объединенных сил нам с лихвой хватило бы, чтобы выдержать бой, отомстить арикара за предательство и вновь открыть Миссури для нашего дела. Крушением планов мы обязаны исключительно нерешительности полковника Ливенворта.
Обстоятельства этого бесславного похода я сообщу по возвращении в Сент-Луис, сейчас достаточно сказать, что неоднократные отказы полковника атаковать малочисленного врага позволили всему племени арикара уйти из наших рук. В результате Миссури перекрыта: между фортом Бразо и поселениями племени манданов укрепились три сотни арикарских воинов, намеренных пресекать любые наши попытки выйти к верховьям Миссури.
Полковник Ливенворт вернулся в гарнизон форта Аткинсон, где, несомненно, проведет зиму перед уютным камином, тщательно взвешивая возможности. Я не намерен его ждать. Наше предприятие, как вам известно, не может терпеть задержку в восемь месяцев.
Эшли перечитал написанное. Тон вышел слишком жестким: письмо дышало гневом, однако не передавало главного – бодрого настроя, нерушимой веры Эшли в собственные силы, в способность добиться успеха. Бог привел его в сад неиссякаемых щедрот, в благословенный край, где счастье ждет любого, кому хватит мужества его добиться. Собственных недостатков Эшли не скрывал – он воспринимал их как помеху, которую надлежало одолевать умелым сочетанием достоинств. Он знал, что неудачи неминуемы, но не собирался мириться с поражением.
Нынешний удар судьбы нужно обратить себе на пользу: пока конкуренты дремлют – мы должны действовать. Поскольку Миссури перекрыта, я решил послать на запад две группы другим путем. Капитана Генри я отправил по реке Гранд – подойти как можно ближе к верховьям и вернуться в форт Юнион. Вторая группа под руководством Джедидайи Смита двинется вверх по реке Платте и выйдет к водам Большого Бассейна.
Вы, несомненно, не меньше моего огорчены задержкой. Мы потеряли время – тем решительнее предстоит действовать. Я велел Генри и Смиту не возвращаться весной в Сент-Луис: мы выйдем к ним сами, в условленном месте заберем добытую пушнину и пополним их припасы. Таким образом мы сэкономим четыре месяца и хотя бы частично наверстаем время. Покамест же я предлагаю набрать в Сент-Луисе новый отряд трапперов и весной отправить его за добычей. Командовать буду я сам.
Свечной огарок зашипел, рассыпав кругом клочья черного дыма. Эшли, очнувшись, поднял голову – час поздний, усталость давала себя знать. Окунув перо в чернила, он решительно и спешно застрочил по бумаге, заканчивая письмо.
Прошу как можно скорее передать нашим партнерам – в самых решительных выражениях, – что я совершенно уверен в успехе задуманного. Провидение открыло нам путь к неисчислимым богатствам, нам остается лишь явить все свое мужество и взять то, что нам причитается.
Ваш преданный слуга,Уильям Г. Эшли
Двумя днями позже, 16 августа 1823 года, из Сент-Луиса прибыла лодка Кайовы Бразо. В тот же день Уильям Эшли, снабдив людей необходимыми припасами, отправил свой отряд на запад. Ближайшую встречу назначили на лето 1824 года, место договорились определить через курьеров.
Уильям Генри Эшли вряд ли понимал, что изобрел схему, которая станет символом целой эпохи.
Глава 2
23 августа 1823 года
Одиннадцать человек сгрудились в лагере, не зажигая костра. Крутой берег реки Гранд давал сносное прибежище, зато дальше простиралась равнина, не сулящая никакой защиты: разведи огонь – и тебя увидят за много миль. А для трапперов, не желающих нарваться на очередную вылазку индейцев, скрытность была главнее всего.
До темноты оставался час, охотники занимались кто чем: чистили винтовки, латали мокасины, ужинали. Парнишка, рухнувший на землю в первую же минуту привала, спал в потрепанной одежде в стороне, раскинув длинные руки и ноги.
Охотники, разделившись на кучки по трое-четверо, сидели на корточках под кромкой берегового обрыва, жались спинами к камням или кустам в поисках призрачной защиты.
Обычный для лагеря гомон успел слегка притихнуть после боя на Миссури, а потом и вовсе умолк после второго налета индейцев три ночи назад. Переговаривались редко и безрадостно, приглушенными голосами – памятуя о погибших товарищах, чьи тела остались позади, и о таящихся впереди опасностях.
– Как думаешь, Хью, сильно он мучился? Три дня из головы не идет. Неужели мучился?
Хью Гласс глянул на говорившего – Уильяма Андерсона и, помолчав, ответил:
– Да нет, вряд ли.
– Он ведь старший. Из всех братьев старший. Уезжаем мы из Кентукки – а наши-то ему твердят, чтоб за мной приглядывал. Чтоб он, понимаешь, за мной. А мне ни слова не сказали. Никому и в голову не пришло.
– Уилл, ты для брата сделал что мог. Горько, но правда: когда в него угодило ядро – он уже не дышал.
– Надо было тогда и схоронить, – раздался из прибрежной тени новый голос. – А не таскать за собой лишних два дня.
Говоривший привстал на корточках, в густеющей тьме лица было не разглядеть – лишь темная борода да белый шрам в форме рыболовного крючка, выгнутый книзу от угла губ. Шрам не зарастал щетиной, и оттого лицо казалось застывшим в вечной ухмылке. Бородач водил ножом по точильному камню, медленный скрежет вторил словам.
– Заткнись, Фицджеральд! Иначе вырву тебе язык, клянусь могилой брата!
– Могилой? Там есть что назвать могилой?
Сидящие поблизости встрепенулись – таких издевок никто не ожидал, даже от Фицджеральда.
Бородач почуял внимание публики и приободрился.
– Груда камешков, всего-то навсего! Думаешь, он там лежит и гниет? Лично я сильно сомневаюсь. – Фицджеральд на миг умолк, взвешивая слова. В воздухе разносился только скрежет ножа по бруску. – Может, конечно, камни кого и отпугнут. Да только я скажу – койоты уже тащат куски его тела по всей…
Андерсон бросился на Фицджеральда – тот, вскакивая, занес ногу и встретил противника ударом в пах.
Андерсона согнуло вдвое, будто кто-то дернул за невидимую веревку и притянул голову к ногам. Бородач двинул его коленом в лицо – и тот беспомощно рухнул спиной на землю.
Фицджеральд, двигаясь на удивление легко для своего роста, метнулся вперед, надавил коленом на грудь задыхающегося, окровавленного противника и приставил наточенный нож к его горлу.
– Хочешь к братцу?
Нож впился в кожу, по шее поползла тонкая струйка крови.
– Фицджеральд! – окликнул его Гласс ровным, властным голосом. – Прекрати.
Бородач, готовый ответить Глассу вызовом, поднял взгляд – и с удовольствием увидел, что их обступила вся компания: свидетели унижения Андерсона. Значит, лучше не портить дело и оставить нынешнюю победу за собой. А с Глассом можно разобраться и позже.
Фицджеральд отвел лезвие и сунул клинок в поясные ножны с бусинами.
– Не начинай дел, которые неспособен закончить, Андерсон. В следующий раз я их закончу за тебя.
Капитан Эндрю Генри, протолкавшись сквозь круг зрителей, схватил Фицджеральда за шиворот и с размаху откинул назад, шлепнув спиной о береговые камни.
– Еще одна драка, Фицджеральд, и ты идешь на все четыре стороны. – Генри кивнул за лагерь, на дальний горизонт. – Если некуда девать силы – можешь охотиться в одиночку.
Капитан оглядел остальных.
– Завтра переход в сорок миль, – напомнил он. – Не спать сейчас – только терять драгоценное время. Кто сторожит первым?
Никто не вызвался. Генри глянул на спящего парня – того не разбудила даже драка. Капитан решительно шагнул к простертому на земле телу.
– Вставай, Бриджер, – велел он.
Парнишка вскочил, очумелый спросонья, и тут же схватился за ружье – старое и ржавое, выданное ему в счет будущего заработка вместе с пожелтелым рогом для пороха и горстью кремней.
– Станешь в сотне ярдов ниже по течению, где-нибудь на пригорке. Хряк, то же самое вверх по реке. Фицджеральд, Андерсон – пойдете во вторую вахту.
Фицджеральд, стоявший в карауле прошлой ночью, чуть было не полез возражать, однако передумал и отошел к краю лагеря. Парень, все еще одурелый со сна, неуверенно зашагал по прибрежным камням и вскоре исчез в иссиня-черной тьме, спустившейся на лагерь.
Хряком в отряде звали Финеуса Гилмора – вечно грязного верзилу, выросшего на нищей ферме в Кентукки. Прозвище говорило само за себя. Воняло от Хряка немыслимо: рядом с ним любой начинал озираться в поисках источника смрада – настолько нечеловеческой казалась вонь. Даже трапперы, сами не очень-то пристрастные к чистоте, старались держать Хряка с подветренной стороны.
Хряк тяжело поднялся на ноги, перекинул через плечо винтовку и побрел вверх по реке.
Не прошло и часа, как угасли последние отблески дневного света. При виде озабоченного капитана Генри, пробирающегося между телами после обхода часовых, до Гласса вдруг дошло, что во всем лагере только они двое и не спят. Капитан, опершись на винтовку, опустился на землю рядом с Глассом – дать отдых если не тревожной душе, то хотя бы усталым ногам.
– Завтра отправлю тебя на разведку с Черным Харрисом.
Гласс, начавший было засыпать, вскинул глаза на капитана.
– Ближе к вечеру, – пояснил тот. – Надо бы найти какую-никакую дичь, рискнем развести огонь. Изрядно мы отстали, Хью, – добавил он тише.
Капитан Генри явно был настроен поговорить, и Гласс потянулся за винтовкой. Поспать не удастся – значит, самое время заняться оружием: при сегодняшней переправе винтовку зацепило волной, он как раз ждал случая смазать замок.
– К началу декабря совсем похолодает, – продолжал капитан. – Неделю-другую придется заготавливать мясо. Если к октябрю не дойдем до Йеллоустоуна, на осеннюю охоту нечего и надеяться.
Как ни угнетали капитана скрытые сомнения, осанка его оставалась по-прежнему уверенной. Кожаная бахрома куртки подчеркивала широко развернутые плечи и мощную грудь – наследие прежней профессии (некогда Генри был шахтером в Сент-Дженевьевском округе штата Миссури). Узкие бедра перехватывал толстый ремень с парой пистолетов и большим ножом. Штаны – до колена кожаные, ниже колена шерстяные – выдавали в нем опытного лесного охотника: кожа служила отличной защитой, но при переправе намокала и становилась тяжелой, шерсть же быстро сохла и даже влажная хранила тепло.
Отряд ему достался пестрый, зато хотя бы льстило обращение «капитан». Звание, конечно, было не настоящим: отряд трапперов – не военная единица, чинов здесь не водилось. И все же Генри единственный из всех исходил вдоль и поперек Тройную Развилку, а в здешних местах опыт ценили превыше всего.
Капитан помолчал, дожидаясь ответа Гласса. Тот поднял глаза от винтовки – всего на миг: он как раз отвинтил гнутую защитную пластину над парой спусковых крючков и, прежде чем взглянуть на Генри, покрепче зажал в ладони оба винта, чтобы не уронить в темноте.
Взгляда оказалось достаточно, и Генри продолжил.
– Я тебе рассказывал о Друйяре?
– Нет, капитан.
– Знаешь, кто это?
– Жорж Друйяр из той самой экспедиции?
Генри кивнул.
– Да, он ходил с Льюисом и Кларком. Одни из лучших во всем отряде. Разведчик, охотник. В 1809-м пришел в группу, которую я вел – то есть он-то сам и вел: из сотенного отряда бывали у Тройной Развилки только он да Колтер. Бобры там кишат – что твои москиты, даже силки не нужны: лупишь палкой – и готово. Да только с черноногими не задалось: пары недель не прошло, как пятерых наших убили. Тут уж не до вылазок, пришлось укрепиться лагерем. Друйяр с нами неделю помыкался и говорит: хватит, мол. Назавтра ушел. А через неделю вернулся с двумя десятками шкур.
Гласс внимал не отрываясь. В Сент-Луисе про Друйяра знали все, но историю из первых уст Гласс слышал впервые.
– И второй раз то же: уходит – и возвращается с мешком шкур. А как в третий раз собрался, тут и говорит: третья попытка, мол, счастливая. Уехал, а через полчаса – два выстрела: его винтовка и его же пистолет. Второй пулей, видно, убил лошадь, чтоб позади нее залечь. Так мы его и нашли – рядом с лошадью, а между ними два десятка стрел. Черноногие такой знак оставили, чтоб мы знали. И голову ему отрезали, не церемонились.
Капитан вновь примолк, не сводя глаз с палки, которой водил по земле.
– Забыть его не могу, – добавил он.
Гласс собрался было сказать что-нибудь утешительное, но капитан опередил.
– Как думаешь, долго еще эта река течет к западу?
Гласс напряженно вгляделся в темноту, пытаясь поймать взгляд Генри.
– Наверстаем, капитан. Пока двинемся вдоль Гранд. Все же знают, что Йеллоустоун на северо-западе.
На деле Гласс уже давно засомневался в капитане – неудачи льнули к тому и пропитывали насквозь, как запах походных костров.
– Ты прав, – кивнул капитан и повторил, будто убеждая сам себя: – Конечно, прав.
Как ни беспорядочен был опыт капитана Генри, Скалистые горы он знал лучше любого из смертных. Гласс же, исходивший немало равнин, в верховья Миссури еще не поднимался. Однако уверенный голос Гласса придавал капитану изрядно сил. Говорили, будто Гласс в юности служил матросом, даже побывал в пиратском плену у Жана Лафита и много лет странствовал по морям – может, из-за той привычки к простору так манили его теперь бескрайние равнины между Сент-Луисом и Скалистыми горами.
– Счастье, если черноногие не вырезали весь форт Юнион. Я там оставил не самых лучших…
Генри привычно пустился обсуждать текущие заботы – одну за другой в ночной тишине. Гласс знал, что капитану нужен лишь внимательный слушатель: редкого взгляда или кивка будет достаточно, можно заняться оружием.
На винтовку Гласс в свое время денег не пожалел (хотя прочих дорогих вещей у него не водилось), и сейчас, под речи капитана, смазывал спусковой механизм с той же нежностью, какую другие приберегают для жены или детей. Винтовка Анштадта – так называемая кентуккская кремневая – была сделана, как и любое хорошее оружие того времени, немецкими оружейниками в Пенсильвании; у основания восьмигранного ствола красовалось имя производителя и место изготовления: Якоб Анштадт – Кутцтаун, Пенсильвания. В отличие от традиционных кентуккских винтовок с длинными, вплоть до пятидесятидюймовых, стволами у этой ствол был всего тридцать шесть дюймов. Гласс такую выбирал специально: чем короче – тем легче, да и в седле с ней управляться удобнее. А мастерски сделанная винтовая нарезка и курок, срабатывающий от слабого нажатия, делали выстрел убийственно точным даже при недлинном стволе. С полным зарядом в двести гран дымного пороха пуля калибра.53 летела из такой винтовки чуть не на двести ярдов.
За годы странствий по западным равнинам Гласс не раз убеждался, что хорошая винтовка часто решает выбор между жизнью и смертью, и надежное оружие было у трапперов не в диковину. От ружей товарищей его винтовку отличала не столько добротность, сколько изысканная красота – из-за которой другие частенько просили подержать винтовку в руках.
Твердое ореховое ложе, несмотря на тонкий изящный изгиб у шейки, надежно сглаживало отдачу от выстрела. Приклад (с одной стороны выдвижная панель, с другой – резная пластина) был плавно выточен по форме плеча, из-за чего ружье легко ложилось в руки и казалось продолжением тела. Под темно-коричневой, почти черной тонировкой фактура дерева была почти незаметна, и только вблизи внимательному глазу открывались тонкие нити волокон там, где лак истончился от частых прикосновений.
В довершение эффекта все металлические части, обычно медные, здесь были серебряными: обивка приклада, отделка выдвижной панели, защитный обод вокруг спусковых крючков и сами крючки. И никаких бесполезных заклепок на ложе, сделанных ради пустого украшения: Гласс никогда не понимал, какую красоту находят в них другие, и не стал бы портить ими собственное оружие.
Дочистив винтовку и удовлетворенно кивнув, Гласс вернул на место пластину, ограждающую спусковые крючки, и закрепил ее винтами. Потом насыпал свежего пороха на полку – теперь оружие готово к выстрелу.
Гласс вдруг заметил, что вокруг стоит тишина: капитан давно смолк и теперь спал, распростершись на земле в середине лагеря, тело его чуть подрагивало во сне. По другую сторону от Гласса, ближе к краю огороженного пространства, лежал Андерсон, привалившийся спиной к принесенному рекой пню. Кроме успокаивающего плеска волн, вокруг не слышалось ни звука.
Выстрел грянул внезапно – кремневое ружье громыхнуло ниже по течению, где стоял на часах тот юнец, Джим Бриджер. Сонные охотники в тревоге вскочили, беспорядочно пытаясь со сна найти кто оружие, кто укрытие. От реки к лагерю приближалась темная фигура. Андерсон, стоя рядом с Глассом, одним движением взвел курок и поднял ружье к плечу, Гласс вскинул свою кентуккскую винтовку. Стремительная фигура обозначилась четче – всего в полусотне ярдов от лагеря. Андерсон, прицелившись, на миг замер, и в ту же секунду Гласс толкнул его под руку винтовкой. Выстрел пришелся в небо.
При звуке выстрела фигура остановилась, и трапперы разглядели широко раскрытые глаза и вздымающуюся грудь Бриджера.
– Я… мне… я… – только и выговорил он, заикаясь от страха.
– Что стряслось, Бриджер? – крикнул капитан, вглядываясь в темноту за спиной парня. Трапперы уже выстроились в защитный полукруг спиной к крутому берегу: курки взведены, колено уперто в землю для надежности выстрела.
– Виноват, капитан! Я не хотел стрелять! В кустах зашелестело, я вскочил… Наверное, курок соскользнул… Оно само выстрелило…
– Заснул, не иначе. – Фицджеральд вернул курок в прежнее положение и поднялся с колена. – Теперь все индейцы на пять миль вокруг знают, где нас искать.
Бриджер дернулся было заговорить, но от стыда и раскаяния слова застряли в горле – он так и замер с открытым ртом, в ужасе глядя на окруживших его охотников.
Гласс шагнул вперед и потянул гладкоствол из рук Бриджера. Взведя курок, он нажал на спуск и большим пальцем перехватил кремень раньше, чем тот успел ударить по кресалу. Повторив трюк еще раз, он обернулся к Генри.
– Это не оружие, капитан. Дай ему нормальную винтовку, меньше будет случайностей в карауле.
Кое-кто из трапперов согласно кивнул. Капитан перевел взгляд с Гласса на Бриджера и распорядился:
– Андерсон, Фицджеральд, ваша очередь.
Те повиновались и, как велено, стали один выше по течению над лагерем, другой ниже.
Правда, стражу можно было и не выставлять: в считаные часы, оставшиеся до рассвета, никто в отряде не сомкнул глаз.
Глава 3
24 августа 1823 года
Хью Гласс смотрел на мягкую землю, по которой ветвились глубокие расходящиеся следы – четкие, как буквы на белой бумаге. Следы двумя дорожками тянулись от реки, где олень пил воду, к прибрежному ивняку. Бобры когда-то прогрызли здесь тропу, и теперь все окрестное зверье ходило по ней на водопой, оставляя рядом со следами кучки помета. Гласс наклонился и тронул катышки величиной с горошину, еще теплые.
Он взглянул на запад, где солнце еще висело высоко над плато, ограничивающим здешний горизонт. Закат еще не скоро, но капитану с отрядом идти сюда добрый час, а место для лагеря отличное: река слегка изгибается вдоль длинного каменистого берега, тополя за ивняком дадут хворост для костра и заодно скроют огонь от чужих взглядов. Ивовые прутья пойдут на решетки для копчения, а уж торчащие среди ивняка сливовые деревья придутся как нельзя кстати: сливы и часть мяса можно пустить на пеммикан. Гласс окинул взглядом реку: куда, интересно, подевался Черный Харрис?..
Среди привычных тягот, составляющих ежедневный быт трапперов, добывание еды было первостепенной и нескончаемой заботой – в этом состояли разом и достоинства, и недостатки трапперской жизни. С тех пор как отряд высадился из лодок на берегу Миссури и двинулся пешком вверх по Гранд, запасы еды на себе не таскали. Кое у кого имелся чай или сахар, большинство же обходилось мешочком соли для заготовки мяса. Дичь здесь водилась в изобилии – питайся свежениной хоть каждый день. Однако охоты без стрельбы не бывает, а звук выстрела разносился на много миль: трапперов легко выследит любой, кто окажется в пределах слышимости.
С тех самых пор, как отряд свернул прочь от Миссури, трапперы держались одного пути – вдоль Гранд. Сложился даже привычный распорядок: каждый день двое отправлялись в разведку впереди остальных – убедиться, что поблизости нет индейцев, найти место для лагеря и добыть еды. Каждые несколько дней подстреливали оленя или детеныша бизона, потом готовили лагерь к ночному привалу – выпускали кровь из добытой туши, собирали дрова и разжигали два-три небольших костра в узких прямоугольных ямах. Меньше костер – меньше дыма, зато больше места для копчения, да и согреться проще. А возможный враг, увидев ночью несколько костров вместо одного, сочтет отряд крупным и поостережется нападать.
Затеплив костры, разведчики освежуют дичь. Отборные куски оставят для еды, остальное порежут на тонкие полоски, натрут солью и развесят над огнем на грубых решетках, сооруженных из ивовых ветвей. Вяленое мясо, конечно, выйдет не таким, как в постоянном лагере, – то могло бы храниться и месяцами. Но и здешних, наспех заготовленных припасов хватит на несколько дней, до следующей добычи.
Гласс шагнул из ивняка на поляну, высматривая оленя – тот не мог уйти далеко.
На медвежат он наткнулся раньше, чем успел заметить медведицу. Два пушистых комка ковыляли в его сторону – пятимесячные, весеннего помета, весом в сотню фунтов каждый. Покусывая друг друга и взлаивая, как щенки за игрой, они комично катились прямо к нему, и Гласс, от неожиданности застыв на месте, не подумал глянуть в дальний конец поляны – не успел даже сообразить, что медвежата не бывают без присмотра.
И вдруг до него дошло. Желудок куда-то ухнул мигом раньше, чем от края поляны донесся первый раскатистый рык. Медвежата тут же замерли в пяти шагах от Гласса, однако тому было не до них: он не сводил глаз с кустов за поляной.
Даже по звукам было ясно, что медведица огромна: трещали кусты, которые она сметала с пути, как траву, да и сам рык – густой и низкий, как громовой раскат или гул от падающего дерева, – мог исходить только от массивной туши.
Рык грянул громче: медведица выбралась на поляну, черные глаза уставились на Гласса. Стоя на четвереньках и склонив голову, она принюхалась к чужому запаху. Гласс разглядел и сильное тело, сжатое, как пружина, и готовое к броску, и мускулистые передние лапы, переходящие в мощные плечи, и серебристый загривок.
Гризли.
Гласс лихорадочно пытался сообразить, что делать. Инстинкт толкал бежать назад через ивняк и дальше к реке: если нырнуть поглубже, течение вынесет в безопасное место. Однако медведица слишком близко, едва ли в сотне футов. Взобраться на дерево и застрелить зверя с высоты? Взгляд Гласса заметался по поляне. Ничего подходящего, деревья только за спиной у зверя, а ивняк не спасет. Выход один – стрелять с места. Остановить гризли пулей из кентуккской винтовки.
Медведица бросилась вперед, яростно рыча на чужака, посмевшего приблизиться к детенышам. Гласс вновь чуть не дернулся бежать, хотя и понимал тщетность попытки: медведица уже стремительно летела через поляну. Он взвел курок и прицелился, невольно дивясь гибкости движений необъятной туши. Очередной инстинкт толкал его стрелять немедленно – однако Гласс уже знал, что медведям бывали нипочем даже полдесятка пуль. А выстрел у него только один.
Медведица неслась прыжками – в голову не прицелишься. За десять шагов от врага она поднялась на задние лапы и теперь, с высоты в полтора человеческих роста, широко замахнулась, готовая разорвать врага ударом когтей. Гласс прицелился прямо в сердце и спустил курок.
Огниво выбило искру, вспыхнул порох, воздух заволокло едким дымом. Пуля ударила в грудь, однако зверь словно не заметил. Гласс бросил винтовку, теперь уже бесполезную, и вытянул нож из поясных ножен, однако медведица занесла мощную лапу – и грозные шестидюймовые когти пропороли ему руку, плечо и шею. Удар опрокинул Гласса навзничь, нож выскользнул из руки. Гласс, в отчаянии скребя ногами по земле, пытался хотя бы отползти к ивняку, однако зверь уже опустился на все четыре лапы и навис сверху.
Гласс согнулся, пытаясь защитить лицо и грудь. Медведица схватила его зубами сзади за шею, подняла в воздух и встряхнула так, что едва выдержал позвоночник. Затрещала лопатка, по спине и затылку проехались когти. Гласс взвыл от боли. Медведица, отпустив его шею, тут же впилась зубами в бедро, встряхнула жертву, вновь подняла в воздух и швырнула наземь так резко, что Гласс, неспособный шевельнуться, остался лежать – в сознании, но совершенно обессиленный.
Лежа на спине, он смотрел вверх на медведицу, стоящую над ним на задних лапах. Страх и боль отступили, нахлынуло жутковатое восхищение мощной животной силой. Медведица издала рык, который отозвался в ушах Гласса далеким эхом. Гласса придавило к земле, влажный запах шкуры перекрыл все чувства. Мысли заметались, в памяти почему-то всплыл желтый пес, облизывающий лицо мальчика на деревянном крыльце.
Залитое солнцем небо почернело, свет померк.
* * *
Черный Харрис услыхал выстрел из-за речной излучины. Понадеявшись, что Глассу удалось добыть оленя, он двинулся вперед скорым, но неслышным шагом: ружейный выстрел мог значить что угодно. При звуке медвежьего рева Харрис перешел на бег, и тут раздался крик Гласса.
У ивняка Харрис увидел следы – и Гласса, и оленя. Склонившись к прогрызенной бобрами тропе, он прислушался, однако уловил только дальний плеск реки. Харрис перехватил у бедра винтовку – большой палец рядом с курком, указательный у спускового крючка – и глянул на пояс, проверяя готовность пистолета. Затем, осторожно ступая мокасинами по тропе, он шагнул в ивняк. Среди тишины раздалось рычание медвежат.
На краю поляны Черный Харрис замер, пытаясь понять открывшуюся картину. Огромная медведица-гризли распростерта на земле животом вниз; глаза открыты, но жизни в них нет. Один медвежонок, поднявшись на задние лапы, тычется в нее носом, безуспешно пытаясь расшевелить. Другой что-то грызет… Человеческую руку!..
Гласс!
Харрис, вскинув винтовку, выстрелил в ближнего детеныша, тот упал безвольным комком. Второй медвежонок заковылял прочь. Харрис, прежде чем шагнуть вперед, принялся перезаряжать ружье.
Капитан Генри при звуке второго выстрела поспешил вверх по реке вместе с отрядом. Первому выстрелу он не удивился: Гласс с Харрисом накануне говорили, что пора бы добыть мяса, и выстрел мог означать, что охота оказалось удачной. Два выстрела подряд тоже капитана не удивили бы: может, на охотников выбежали сразу два зверя, а может, первый из стрелков промахнулся. Однако два выстрела с разницей в несколько минут могли означать что угодно. Капитан надеялся, что охотники просто далеко разошлись. Или, может, первый загонял добычу в сторону второго. Или им повезло наткнуться на стадо бизонов: те порой не разбегались от выстрела, так что охотник успевал перезарядить винтовку и убить второе животное.
– Держись ближе, ребята, – скомандовал капитан. – И проверить оружие.
За последние сто шагов Бриджер уже в третий раз оглядывал новую винтовку, выданную ему Уиллом Андерсоном.
– Брату она уже без надобности, – только и сказал тогда бывалый траппер.
Стоя на поляне, Черный Харрис глянул на медведицу, из-под которой виднелась только рука Гласса, огляделся, отложил ружье и изо всех сил потянул гризли за переднюю лапу, пытаясь сдвинуть тушу. Мало-помалу открылась голова Гласса – окровавленный ком волос и плоти. Ужаснувшись, Харрис принялся освобождать тело дальше, почти не надеясь на благополучный исход.
Подступив к медведице с другой стороны, он взобрался на нее сверху, схватил переднюю лапу и принялся тянуть на себя, упираясь коленями в тушу. Одна попытка, другая – и наконец верхнюю половину туши удалось откинуть в сторону: медведица теперь лежала брюхом вниз, но грудью вверх. Оставалось перевернуть нижнюю часть, и Харрис, схватившись за заднюю лапу, вновь потянул гризли в сторону. Наконец туша откинулась назад. На груди медведицы темнело пятно – кровь из раны, оставленной пулей Гласса.
Черный Харрис склонился над товарищем, толком не зная, что предпринять. Раны были ему не в диковину: из троих соратников он когда-то вытаскивал стрелы и пули, дважды получал пулю сам. Однако таких катастрофических увечий, тем более свежих, он еще не видел. Тело Гласса было разодрано с головы до ног. Кожа с темени оторвана почти целиком, как скальп, и болтается сбоку, лицо разодрано в клочья. Хуже всего пришлось горлу: медвежьи когти тремя глубокими порезами проехались от плеча через всю шею, содрав кожу и мышцы с глотки и перерезав трахею. Еще дюйм – и Глассу рассекло бы шейную вену. Среди крови, сочащейся из раны, вздулся пузырь воздуха – первый увиденный Харрисом знак того, что Гласс еще жив.
Харрис осторожно перевернул товарища на бок и оглядел спину. От хлопковой рубахи ничего не осталось, на шее и плече зияли кровавые раны, правая рука неестественно висела, штаны на задней части бедра пропитались кровью. От лопаток до пояса шли глубокие параллельные борозды, напомнившие Харрису о следах когтей на стволах деревьев, – так медведи метят территорию. Только в этот раз борозды шли не по дереву, а по человеческому телу.
Харрис даже не знал, с чего начать, и едва не радовался тому, что рана на горле явно смертельна. Он оттащил Гласса в тень и уложил спиной на траву. Не обращая внимания на кровавую пену у горла, он сосредоточился на содранном с головы лоскуте: негоже оставлять Гласса без скальпа. Водой из фляги Харрис попытался смыть грязь и принялся укладывать кожу на место: лоскут почти оторвался от черепа, приставить его – что надеть шляпу на лысого. Харрис натянул кожу на кость, прижал посильнее ко лбу и заправил за ухо. Пришить можно позже – если Гласс доживет.
Затрещали кусты, и Харрис выхватил пистолет. На поляну вышел капитан Генри, за ним показались остальные трапперы, хмуро переводящие глаза с Гласса на гризли и с Харриса на убитого медвежонка.
Капитан оглядел поляну, словно сверяя увиденное с опытом прежней жизни, и тряхнул головой, пытаясь сфокусировать внезапно помутившийся взгляд.
– Умер?
– Пока жив. Тело – в клочья, трахея разодрана.
– Медведицу кто убил – он?
Харрис кивнул.