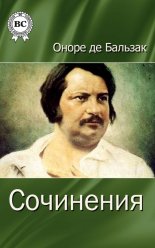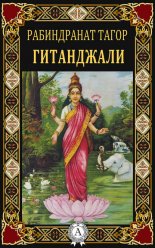Крест мертвых богов Лесина Екатерина
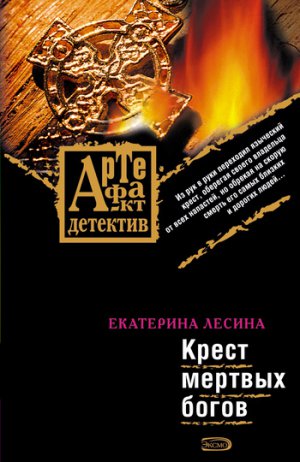
И скрипка неповторимой Ванессы заиграла иначе, тише, резче, будто обиженно.
Кажется. Всего лишь кажется. И слезы на глазах выступили, и дорога впереди утратила четкость не потому, что я вот-вот заплачу, а из-за очков. Стекла слишком темные, завтра же поменяю.
А плакать нельзя.
Слушать музыку, ловить звуки, пока я не потеряла способность различать их, и не поддаваться на провокацию незнакомого и неприятного мальчишки, который называется моим племянником. Предполагаемое родство оказалось пресным и невыразительным, равно как и моя любовь. Один взгляд, одно слово, и все вернулось на круги своя – Данила чужой и далекий. Он не будет разговаривать со мной, – ни вежливости ради – как я заметила, вежливость совершенно ему не свойственна, ни из родственных чувств, ни просто так, чтобы поболтать.
Музыка ему отстой.
Сам он отстой! Провинциальный подросток, изо всех сил пытающийся казаться круче, чем есть на самом деле.
– Не, а тебе и вправду в кайф это слушать? – Данила все-таки соизволил повернуться ко мне. – Уши режет.
Скрипичное барокко сменилось готикой «Эры»… Племянник, скривившись – надо же, и «Ameno» ему не по вкусу, – потянулся к магнитоле и получил по руке. Я никому не разрешаю трогать мои вещи.
Я никому не разрешаю вмешиваться в мою жизнь.
Даже в таких пустяках, как музыка.
– Дура, – пробормотал Данила.
А ведь он нервничает, как я сразу не заметила: нарочито-небрежная поза диссонирует с напряженным взглядом, а глаза, как у Ташки или у меня, – синие, на редкость чистого оттенка, без толики серого цвета.
– Че уставилась?
Ничего. Просто смотрю, вернее, присматриваюсь.
В квартиру Данила зашел с гордо поднятой головой, настолько гордо, что споткнулся о порог и едва не упал. Я сделала вид, будто не заметила ни этого, ни того, что он прошел в обуви, оставляя грязные следы на блестящем паркете. И рюкзак свой невообразимый швырнул на белый диван, и сам плюхнулся.
Невоспитанный мальчишка. Нахальный.
Смешной.
– Ништяк, – сказал Данила. – У тебя бабла до фига?
– Мне хватает, – интересно, сказать ему, чтобы изъяснялся нормально, или не стоит?
– А поделиться впадлу? – он дотянулся до стола, взял из вазы яблоко и, вытерев о брюки, откусил. – Не, ну в натуре, на кой тебе столько? Нам бы помогла.
– А вам надо?
Он так аппетитно жевал это чертово яблоко, чавкал – как понимаю, нарочно, чтобы позлить меня, – что мне тоже захотелось.
У яблока был вкус картона.
Данила
Яблоко было кислым и твердым, а толстая зеленая кожура застряла между зубов. Выковыривать пальцами Данила постеснялся. А вообще хата крутая, комнат в пять, а то и больше, смешно, что мамаша их трехкомнатной гордится, обои новые, ламинат, стеклопакеты… вот у тетки – это да, это евролюкс, такой Данила только в журналах и видел.
Интересно, джакузи тут есть? Жутко хотелось спросить или лучше полежать. Ярик ездил в аквапарк и рассказывал, что джакузи – это супер.
Яблоко не доедалось, стало поперек горла, обожгло кислотой, а оставалась еще половина. Выкинуть? Жалко. Тут, правда, полная ваза таких, да и невкусное попалось, но все равно жалко. И что дальше делать – непонятно.
Тетка смотрит в упор и молчит. Странная какая-то. Данила ждал, что, увидев его, она разорется или мораль читать начнет, а она равнодушно так глянула и велела в машину садиться. И всю дорогу молчала, даже когда он нарочно про музыку гнать стал, типа туфта.
Не, ну туфта, конечно, но не конченая, потом даже по приколу стало слушать.
– Так надо вам помогать? – повторила вопрос тетка, усаживаясь в кресло. И ведь тоже не разулась, туфли на ногах стильные, какие-то такие, что вроде и просто все, а видно, что стоят бешеных бабок. Тут все стоит бешеных бабок, и Данила не без внутреннего удовлетворения положил обгрызенное яблоко на белую кожу дивана.
– А че, впадлу? Подкинула б деньжат… или вообще в Москву забрала, – сказал и замер. Сейчас точно разорется. А она улыбнулась.
– Впадлу? Нет. Не впадлу. Я предлагала.
А мамаша, значит, отказалась. Ну да, мамаша гордая, она денег не возьмет. Отправляя его сюда, все мозги проела, чтоб тетку не напрягал. А он и не напрягает, он вообще в любой момент может уйти. Только непонятно, с чего мамаша круглыми сутками бьется со своим магазином, который – каждому ясно – еле-еле жив и в любой день сдохнет, потому как магазинов вокруг полно, а ту хренотень, которую мать выставляет, на каждом углу продают, и дешевле. А она, дура, все мечтает бизнес развернуть.
– А у вас проблемы с деньгами? Сколько надо? Извини, наверное, я плохая родственница, если сама никогда не…
– Да не, ништяк. – Все-таки с теткой лучше пока не ссориться. Да и прикольная она.
Мать говорит, что нет такого слова – «прикольная». Слова нет, а тетка есть.
– Хочешь, завтра по магазинам прошвырнемся? – предложила она. – Мобильный, плеер? Одежда?
Ее тон, слова, взгляд, который пробивался даже сквозь туманное стекло очков… да она что, думает, он – нищий? Приехал тут за ее счет жить? Да если б не Ратмир, Даниловой ноги в Москве б не было. И пусть подавится своими шмотками, ни черта ему не надо.
– Иди ты… без тебя обойдусь.
Вот без чего пришлось обойтись, так это без завтрака. Данила проснулся поздно. Квартира встретила пустотой и тишиной. Черно-белые стены, холодный паркет, холодная и неуютная мебель. Дома иначе, дома ковер на полу и еще один на стене, и просыпаться тепло, привычно. И завтрак мамка оставляет, так, чтобы в микроволновку сунуть да разогреть. А тут пусто. Холодильник работает, но зачем, когда на полках, кроме сока, ничего.
Холодный сок был горьким, а окружающая обстановка действовала на нервы. Чересчур уж много пространства, и света тоже много, и зеркало это на всю стену. Жуть.
Зато тетка оставила ключи и деньги. Это круто. Это значит, что до нужного места можно будет добраться на такси. Ратмир не запрещал.
Руслан
– Да запрещала я ему, запрещала! – женщина вытерла глаза платком. – А он все равно… вот чего надо-то? Всегда все было, всегда ему… лишь бы хорошо, лишь бы порадовать, а он…
Красные глаза, опухшие веки с мелкой сеткой морщин, слипшиеся ресницы и бледные крылья носа. Некрасива, беспомощна в своем горе, прикрытом чернотой траура.
– И ведь с девки этой все началось, других будто мало, а он на нее… школу бросил. Я за ремень, а он в ответ, будто и не мать ему… а у меня дед воевал… а сын, выходит, что…
Она зарыдала во весь голос, подвывая и захлебываясь. Руслан плеснул в стакан воды и сунул в дрожащую руку. Женщина пила мелкими глотками, долго, будто боялась расстаться со спасительным стаканом. Ох и не любил Рус подобные беседы, было в них нечто утонченно-инквизиторское, выворачивающее наизнанку чужую душу. Потом приходилось отмываться, отбиваться, убеждать себя, что все это было нужно и важно…
– Он спортом увлекался, но тоже бросил. Тренер ходил, ходил, уговаривал вернуться, а Сережка ни в какую, говорит, тренер – еврей. А я не знаю, может, и еврей, так какая разница-то? Ведь нормально ж было, а тут… – она вздохнула. – Будто и не мой сын. Говорит, нерусские все заполонили, дышать нечем… а потом у меня еще кошелек украли. Рублей триста внутри было-то, но все равно обидно. А Сережка как разорался, на всю ночь из дома ушел. Позвонили из милиции, дескать, громили они что-то…
Ларьки громили, это Руслан мог сказать, исходя из материалов дела. Последняя жертва, клейменная крестом, была личностью активной. Сергей Изовский привлекался трижды, но всякий раз его отпускали за недоказанностью.
– Я думала, все, сядет теперь, а он вернулся, поцеловал и говорит, дескать, скоро все иначе станет, нерусских из города выбьют. Я ему – Сереженька, как же выгонят, как можно так, а он мне – мол, глупая, не понимаешь своего счастья… и тварь эту притащил.
– Какую тварь, Елизавета Антоновна?
– Эту, собаку… здоровая такая, сверху черная, а брюхо рыжее. Я породу забыла, он говорил, а я забыла… я ее боялась, – женщина перестала плакать. – Я просила убрать, а он только смеялся. Он на ней деньги зарабатывал… мясом сырым кормил… Чтоб злее была. А куда злее, когда я и так из комнаты выйти боялась? Рычала она и один раз укусила, до крови. Швы накладывали, вот.
Елизавета Антоновна задрала подол длинной черной юбки и вытянула ногу. Нога была белой, отекшей, с россыпью сине-зеленых застарелых синяков и старым шрамом.
– Это она меня порвала, Церка, а Сереженька и сказал, что сама виновата… полезла. А я не лезла, я в туалет пройти хотела, а эта зверюга поперек порога разлеглась…
Руслан кивал, Руслан устал от этого чужого горя, от рассказа, Руслан хотел домой, а нужно было слушать. И искать психа, пока где-нибудь не всплыл пятый труп.
– А той ночью она выла. Никогда не выла, а тут села у двери и давай выводить, – продолжила Елизавета Антоновна. – Аккурат когда Сереженьку убили. Почуяла. До утра. Соседи и по батарее стучали, и в дверь, я ей – Церка, место, замолчи, а она рявкнет и снова выть.
– И что теперь с собакой?
– Собакой? – заплаканные глаза глядели непонимающе. – При чем тут собака? Вы убийцу ищите, Сереженька, он ведь хорошим мальчиком был… он мне всегда помогал… и соседям тоже… это девка его с ума свела. Да и собаку забрала… та послушалась, меня не слушалась, а эту сразу, с полуслова… чтоб две суки и не договорились?
Одну суку звали Церерой, вторую – Эльзой. Они и вправду понимали друг друга с полуслова.
– Гуляй, – велела Эльза, спуская доберманиху с поводка, та радостно унеслась вперед, вернулась, глянула на Руслана кофейным глазом и рявкнула. Так, на всякий случай.
– Из милиции, значит… вы и вправду думаете, будто я его убила? – У Эльзы серые глаза, ясные, чистые, кукольные. И волосы кукольные – белые, уложенные ровными локонами. Да и вся она какая-то… фарфоровая, что ли. – Мамаша у него психованная. Впрочем, Серега и сам был не подарком. А отношения у нас с ним сугубо деловые. У меня своя ветеринарная клиника. Ну и… наверное, все равно узнаете… занимаюсь собачьими боями. Площадки организую, пары составляю, веду рейтинг. Ставки опять же…
– Незаконно.
– Откровенно, – возразила Эльза. Идет ей имя, и ведь настоящее же, Руслан паспорт проверил – Эльза Петровна Тукшина. – Не настолько незаконно, как убийство. Серега не из наших, он новичок, пришелец, желающий самоутвердиться, и собаку искал такую, чтобы разом в дамки.
Церера носилась по площадке, время от времени останавливаясь, проверяя, как там дела у подруги, не обижают ли.
– И вы сосватали…
– Сосватала. Продала, если быть точнее. Церу года полтора назад сильно порвали, бой из черных, я такими не занимаюсь, стараюсь, чтобы соперники были примерно равны, интереснее ведь. А тут выставили… не знаю даже, против кого, но привезли ее ко мне в ужасном состоянии, попросили усыпить.
– А вы вылечили?
– Вылечила. Опять же, ничего личного и благородного, бизнес. Церера – из перспективных, если не бои, то с ее родословной на щенках заработать можно, был клиент на разведение взять, но Серега дал больше.
– И как, окупилось?
– Без понятия. Если где и участвовал, то не через меня, хотя пара свежих шрамов на шкуре есть. Но вы не там ищете, из-за собаки никто не станет убивать… да и из-за боев тоже. – Эльза похлопала поводком по бедру, и псина моментально оказалась рядом, села на землю, уставилась прямо в глаза, улыбнулась, вывалив на подбородок розовый язык.
– А ставки серьезные? – в присутствии Цереры Руслан ощущал себя крайне неуютно. Не то чтобы боялся, скорее не нравились ему вот такие хищные да поджарые – ни женщины, ни собаки.
А еще Эльза с ее кукольно-фарфоровой красотой. Уж очень спокойна, прямо-таки неестественно.
– Ставки? Когда как, но в любом случае всегда проще убрать собаку, чем человека, правда?
Она объявилась с самого утра. Перетянутый веревкой чемодан, грязный узел, в котором то ли приданое, то ли добро награбленное. И запах кислой капусты. Не знаю, за что больше я возненавидел ее – за грязь или за эту вонь, что становилась неотъемлемой частью нового мира.
Капусту жарили, капусту тушили, капустой закусывали самогон, капуста гнила в фарфоровых тарелках матушкиного сервиза на двадцать четыре персоны… капустный дух преследовал меня повсюду, стоило выйти за дверь. И вот теперь он поселится здесь, вместе с этой девицей, которая мнется на пороге, пыхтит под тяжестью овчинного тулупа и разглядывает меня с каким-то детским любопытством.
– Эта… Аксана я… Ксана. – Она вытерла пот со лба. – Дядько казав, что тута жить буду.
Дядька? Теперь понятно, до того понятно, что даже злости нет.
Ничего нет. Я ушел, оставив Оксану наедине с ее пожитками. Все, больше отступать некуда, в оставшейся, вернее, милосердно оставленной победившей чернью комнате одно окно, под самым потолком. Стекло серое, пыльное, и свет, проникающий сквозь него, режет глаза белизной. Лечь на кровать, зажмуриться, вспомнить о том, как все было раньше… а еще лучше – забыть.
Воспоминания причиняют боль.
А я трус, не смог, не сумел… куражу не хватило, чтобы совсем без шансов. Снова один патрон, холод дула у виска, легкая дрожь в руке…
Стук в дверь почти как выстрел, ударил по нервам, выбивая из колеи размышлений.
Оксана вошла, не дожидаясь разрешения, застыла на пороге и с любопытством огляделась.
– Чего надо? – я и не пытался быть дружелюбным, я страстно желал остаться в одиночестве, среди гнусных беспомощных мыслей и еще более гнусных – действий, на которые я оказался не способен.
– Так… снедать. Уважьте, Сергей Аполлоныч. – И, густо покраснев, Оксана добавила: – Дядько казав за вами приглядывать.
Я не знаю, почему принял ее предложение. Девушка по-прежнему была неприятна своей нарочитой, почти навязчивой простотой. Толстые косы, перевязанные какими-то серыми шнурками, латаная застиранная до серости блуза, длинная, в пол, юбка и синие-синие глаза. Вот, пожалуй, единственное, что несколько примиряло меня с существованием Оксаны – ее глаза, совершенно необыкновенного глубокого цвета и яркости.
– Вы кушайте, кушайте, – она спрятала руки под столом. – Вы болеете, да? А чем?
Тоской. Нежеланием жить и неспособностью умереть. Разочарованием. Презрением к миру и самому себе, вот только поймет ли Оксана?
Но я рассказал, я пытался рассказать, я путался в словах и собственных мыслях, стыдясь подобной откровенности и вместе с тем опасаясь, что Оксана отвернется и благодатная, потерянная синева ее глаз исчезнет.
А она слушала, подперев щеку рукой – ноготки придавили кожу, коса, соскользнув с плеча, темной змеей легла на грудь, и до жути вдруг захотелось прикоснуться.
– Ох и странно вы говорите, и вроде правильно все, а неправильно. Вы лучше кушайте, вот хлеба, и творожок домашний, сама делала… а вы воевали, значит? А супротив кого?
Ее наивность удивляла, ее наивность задавала такие вопросы, на которые у меня не было ответа. Против кого я воевал? Не знаю, я стоял под знаменами Великой Империи, я дал присягу, я был ей верен… потом оказалось, что верность моя не имеет значения, не дает шанса выжить.
Ничего, выжил как-то, вернулся, понял, что лучше бы сдох где-нибудь в окопе, или в лазарете, или когда город переходил из рук в руки, горел, гремел выстрелами, тонул в крови и экспроприации, которой прикрывали обычные грабежи… и кажется, была еще одна война, Гражданская, безумная, прокатившаяся по стране и чудесным образом минувшая меня.
Большевики, меньшевики, денисовцы, колчаковцы… имена вспыхивали, имена исчезали, а я продолжал существовать. Советский Союз, страна для народа… власть пролетариата, рабочие и крестьяне вместе, а я снова где-то вовне.
Экспроприация, уплотнение, две комнаты… уже одна… и денег почти не осталось, за портсигар копейки выручил.
– Ох и бедовый вы человек, – сказала Оксана. – Видать, крепко вас Бог любит, ежели от всего уберег.
Бог? Любит? Меня?
Бога больше нет, умер Бог вместе с разрушенными церквями, вместе со сброшенными наземь крестами, вместе с моей верой, и крест на груди – не более чем символ. И то не христианский.
– Конешне, любит, – заявила Оксана, – иначе, пошто ему вас хранить-то?
Позже, сидя у окна, наблюдая, как медленно гаснет солнечный свет, я думал о том, что, возможно, эта девочка права. Она необразованна, диковата, глуповата, но не может ли оказаться так, что именно эта полуживотная близость к природе позволяет ей ощущать нечто, недоступное мне?
Сумерки наползали медленно, степенно, синевато-сиреневые, прозрачные, летние. И в открытое окно проникала не ставшая уже привычной вонь, а чистый запах цветущего жасмина. Лето… уже лето… а весну я пропустил.
Сегодняшним вечером револьвер остался в ящике стола. Редкий день, когда хотелось жить.
Яна
– Ой, да не правда это! Чтоб у нашей мымры родственники были? Таких в лабораториях выращивают! – Сонечкин голос проникал сквозь приоткрытую дверь. И я замерла.
Никогда прежде не подслушивала, а тут…
– И вдруг к ней племянник приезжает! – Театральная пауза, скрип отодвигаемого стула, цокот каблучков по полу. Как гвозди в голову… нужно будет заказать ковролин. И звукоизоляцию. Но потом, сначала стоит дослушать.
– Вот увидите, девочки, никакой он ей не племянник…
– А кто? – поинтересовалась Ольга, у нее хоть голос приятный, мягкий, не то что Сонечкино повизгивание.
– Ой, Оль, ну ты наивная… когда такая мадама после трехнедельного отсутствия заявляется на работу и первым делом поручает накупить мужской одежды… – Снова каблучки зацокали, заработал принтер, будто желая заглушить Сонечкины откровения, но тонкий голосок настырно пробивался сквозь помехи: – Любовника завела, подцепила в «Кошечке» или еще где… рост метр семьдесят восемь… будьте добры подобрать что-нибудь на свой вкус.
Меня она передразнила не слишком удачно. Минус ей за это. И себе тоже, теперь понятно, что нужно было самой заехать в магазин и купить все, что надо, а не поручать секретаршам. Да еще про племянника сказала. Тогда вроде как к слову пришлось, теперь выходит, будто я таким нехитрым способом любовника легализовала.
Данила – мой любовник… привести, что ли, пускай поглядят, успокоятся.
Или, наоборот, получат новую информацию для сплетен. Посплетничать здесь любят, особенно в рабочее время, особенно обо мне… дверь, чуть скрипнув, открылась.
– Ой, Яна Антоновна? А вы тут? – по Сонечкиной мордашке расплывался румянец. – С… с выздоровлением вас.
– А я не болела. Я отдыхала, – оттеснив Сонечку, я зашла в кабинет. Так и есть, кружки с кофе, тортик, печеньице…
– Мы вот тут… – Ольга беспомощно развела руками. – М-может, чаю?
– Лучше кофе. Без сахара.
К чему мне кофе? И чем он лучше чая? И без сахара попросила скорее по привычке, вкуса ведь не почувствую.
Дистиллированная вода, горячая и лишенная привычного аромата… когда-то я любила свежесваренный кофе именно за этот дурманящий аромат. И вкус с легким шоколадным оттенком, который долго держится во рту.
Девушки молчат. Удивлены. Почти шокированы. Наверняка пойдут слухи, что молодой любовник благотворно повлиял на мой характер, а кто-нибудь непременно добавит, что, дескать, вся стервозность – от неудовлетворенности.
Думать неприятно. Молчать тоже неприятно. Кофе стремительно остывает, и нужно что-то сказать.
– Данила – действительно мой племянник. Ему пятнадцать лет. И он нацист.
Нацист. Бритоголовый. Скин. Слов много, а суть одна. Милый мальчик Данила на поверку оказался не таким уж милым, да и слово «мальчик», пожалуй, к нему не подходило.
К нему вообще сложно подобрать подходящие слова: колючий, раздражающе-непонятный. Вот, пожалуй, и все. Поэтому вместо слов я решила найти одежду, что-нибудь приличное вместо застиранно-зеленого убожества, в котором он приехал. Но, заехав в магазин, поняла, что не имею ни малейшего понятия о том, что носят подростки.
Я, в принципе, имею слабое понятие о подростках. Я даже сама не догадалась бы, что Данила – нацист, точнее, со временем, конечно, догадалась бы, но Ташка успела раньше.
Ташка объяснила. Ташка извинилась. Ташка рассказала правду… Ташка испугалась, что, узнай я раньше о Даниловых проблемах, отказалась бы принять его. Она сказала – «откажешь в доме», старомодно, вежливо и противно. Да и сама беседа вышла какой-то скомканной, приправленной оправданиями, Ташкиным лепетом и собственным чувством вины.
– Это возраст переходный… – Ташка раз в десятый повторяла и про возраст, и про компанию, и про то, что на самом деле Данила совсем не такой, добрый.
Не знаю, как насчет доброты, но проблемы с милицией у племянника наличествовали: разбойное нападение, нанесение тяжких телесных повреждений и обещание родственников пострадавшего «разобраться».
Не знаю, на что надеялась Ташка, отсылая ко мне Данилу, что он в Москве поумнеет, позабудет про своих бритоголовых друзей-приятелей. А тем временем родственники избитого успокоятся?.. Факт остается фактом. В моей квартире поселился агрессивный подросток с весьма радикальными взглядами на мироустройство и активным, как я понимаю, желанием это мироустройство поправить.
На мироустройство мне глубоко плевать, лишь бы квартиру не разрушил.
Пакеты с одеждой занимали поразительно много места, а я, вместо того чтобы принять изрядно подзапущенные дела, думала о том, обрадуется он или нет.
Не обрадовался. Точнее, его вообще не было в квартире.
На часах половина седьмого, а его нет. Господи, какая же я дура! Денег оставила, ключи… сбежал? Не удивлюсь, если сбежал… а Ташке что теперь сказать?
И что делать?
Данила
Что делать, Данила не представлял. Нет, поначалу все было клево и круто: вызвать такси и, съехав вниз по перилам – а че, прикольно, здоровые и каменные, по таким кататься почти что как с горки, – кивнуть тетке, сидевшей в прозрачной стеклянной будке. Лицо у той вытянулось, видать, не привыкла к таким вот жильцам, но сказать ему ничего не сказала.
Во дворе вовсю светило солнце.
И жарило, особенно в машине, тачка попалась без кондишена, а еще в пробке застряли, вроде и не сказать, чтоб надолго, но Данила едва не задохнулся в горячем, воняющем бензином салоне. Из машины он почти вывалился и потом еще минут десять стоял, прислонившись спиной к здоровому тополю, пытаясь отдышаться и остыть. С дерева облетал пух, от которого моментально засвербило в носу.
Не, не его сегодня день, стопудово. Даже мелькнула трусливая мысль вернуться – обратно, в покой и прохладу, но поворачивать назад, когда до цели оставалось всего два шага, Данила не собирался.
Вот и нужный подъезд, во всяком случае, если там и вправду квартиры со сто тридцатой по двести какую-то там. Дверь железная, тяжелая, кодовый замок выломан, внутри темно и здорово воняет, а лифт испорчен. Пришлось подыматься аж на седьмой этаж и долго давить на кнопку звонка.
Дверь открыла тетка, толстая, неопрятная, недовольная.
– А… пришел… еще один. – От тетки здорово несло перегаром и немытым телом, и Данила отступил на шаг, он бы вообще сбежал, но Ратмир велел…
– Ты заходи, заходи… – тетка вяло махнула рукой. – Раз пришел… помянем.
Заходить совершенно не хотелось, как и разговаривать с этой полувменяемой бабой, которая так нализалась с утра. Пьяных баб Данила ненавидел, потому как не только дуры, но и уродки.
– Мне бы Сергея.
– Сергеееея… всем Сергея. А нету его… никого нету… но ты заходи, фашистик, помянем.
Пришлось зайти. Данила по-прежнему не хотел, но все равно пришлось, потому что если Сергея нет, то задание выполнить невозможно, значит, придется докладывать Ратмиру о неудаче, а тот жуть как не любит неудач и неудачников, потребует объяснить, рассказать…
– Вот я и говорю, хороший был мальчик… раньше бы в пионеры приняли, в комсомол, а теперь вот в фашисты. – Тетка достала из холодильника полупустую бутылку водки, синеватый, подвысохший огурец, нарезанное сало и пучок зеленого луку.
Пить Данила не хотел. Не умел, но как сказать об этом, не знал.
– Сиди, сиди, я сама. – Она ловко разлила водку, Даниле – в крохотную стопку, себе в стакан. – Ну, чтоб земля ему пухом… Сереженьке моему.
Водка горькая, желудок сжался, а рот наполнился едкой слюной.
– Хлебом закусывай, хлебом, – велела Елизавета Антоновна. Свой стакан она выпила в два глотка и, занюхав черной коркой, крякнула. – Давай, фашистик, не стесняйся, за Сереженьку не грех выпить… а с теми грехами, что на вас, так и вообще святая обязанность.
– А что с ним случилось?
– Убили. Убивают ваших… и тебя убьют… всех убьют… а я в церкви свечку поставила, за упокой души… и за тебя, фашистик, поставлю… ты мне только имя скажи.
– Не сказал, надеюсь? – Ратмир злился, недовольство пробивалось сквозь легкий туман, который поселился в голове, и спазмы желудка, требовавшего срочно избавиться от водки.
– Н-не сказал, – язык заплетался, и Даниле подумалось, что теперь старший точно догадается о том, в каком он, Данила, состоянии.
– Убили, говоришь… и как давно? Два дня? Странно, очень странно. Ладно, ты возвращайся к тетке своей, сиди тихо и веди себя прилично, не хватает еще, чтобы тебя раньше времени из дому выперли.
Данила хотел сказать, что он и сам все понимает, и даже рот открыл, и рыгнул.
– Пьяный, что ли? – с нескрываемой брезгливостью поинтересовался Ратмир.
– Н-нет. Я д-домой… к т-тетке. Н-на т-такси.
– Потеряешь посылку, убью. И не только тебя, слышишь, мальчик?
– Я н-не п-потеряю, – пообещал Данила и на всякий случай снял рюкзак с плеча: если держать обеими руками, то надежнее выйдет. И не пьяный он, почти не пьяный… три стопки – это святое, так сказала мать убитого Сергея.
Правда, Данила не был уверен, что стопок было всего три. Но если погулять, недолго, всего пару минут, в голове прояснится…
Спустя полчаса Данила понял, что идея с прогулкой была не самой удачной. Время перевалило за полдень, город нагрелся, травил бензиновой гарью, пылью, вонью раскаленного асфальта. Хотелось пить и блевать, причем одновременно, от банки ледяной колы стало только хуже, и Данила, завернув в какой-то сквер, где редкие деревья обещали хоть какое-то подобие прохлады, упал на лавку.
Немного посидеть, передохнуть, и к тетке… а в тени хорошо, глаза закрыть… ненадолго, всего на минутку. Ну почему в Москве так жарко… а в теткиной машине климат-контроль.
– Эй ты, бритый, – тычок в плечо вывел из полудремы. – Че расселся?
– А че, нельзя? – Данила поднялся, голова еще немного кружилась, в висках пульсировала боль, но зато тошнота прошла.
– Борзый типа?
– Типа да.
Пятеро. Главный – здоровяк, почти на голову выше Данилы, да и в плечах пошире будет. Если б еще один, то Данила б справился, но остальные…
Будут бить. Надо было сразу к тетке ехать…
– Слышь ты, борзый, – качок ухмыльнулся, – а мы тут типа скинов не любим.
Данила ударил первым, кулаком в переносицу, чтобы в кровь и больно, чтобы не убить, но вывести из боя… так учил Ратмир. И второму в солнечное сплетение… и третьему ногой по голени… и все-таки день сегодня был не Данилин. Достали, сволочи… в живот, да так, что воздух весь вышел, а перед глазами кровяные круги поплыли. Больно.
А отдышаться не позволили, сшибли на землю и пинали… сжаться в комок и не дышать… не скулить… терпеть… у сильного человека дух владеет телом, а не наоборот… Данила сильный.
Но телу так больно.
И страшно.
И сил терпеть почти не осталось.
– Эй вы! Что творите! – голос долетел издалека. – Пошли отсюдова! Бегом, кому сказал…
И ведь послушались, ушли. И сознание тоже. Без сознания хорошо, боли нет.
Руслан
– Нет никаких сомнений, что с собачьими боями дело не связано, – Гурцев постучал ручкой по поверхности стола. – Искать надо в другом направлении.
Ну да, в другом, знать бы еще в каком. Но насчет боев Руслан не то чтобы не согласен… Он бы все-таки проверил остальных потерпевших, благо личности установлены – ну, кроме того, первого самого. Круг общения тоже; правда, до сего дня никто из свидетелей о собаках или собачьих боях не упоминал, но ведь никто целенаправленно и не интересовался.
– Рус, ты меня вообще слушаешь? – Гурцев набычился. Вот же мнительный тип! Чуть что, сразу с претензиями, дескать, оперативники работают плохо. – Про клеймо выяснить надо, я со спецом договорился, съездишь, потолкуешь… хороший человек, говорят, знающий, только вчера с конференции вернулся. Ну?
Руслан пожал плечами. Потолковать он потолкует, да сомневается, что «знающий человек» скажет что-либо новое. Обращались уже, не к этому, к другим, да бесполезно, все в один голос твердят, что не существует такого символа. И не существовало.
– Кто вам такое сказал? Символ креста столь же древен, как история человечества. Да почти во всех цивилизациях встречаем крест в той или иной интерпретации, – Ефим Петрович Кармовцев специальной тряпочкой протер очки. Стекла темные, а оправа, наоборот, белая, стильная, тонкая. – Конечно, учитывая специфичность рисунка… некоторая нечеткость… вот здесь хотелось бы более детализированно. А самой печати… символа, как понимаю, у вас нет?
– Нет.
– Плохо.
Плохо. Руслан и сам знал, что плохо. Печати нет, а значит, что скоро появится еще один труп с клеймом. Мертвый крест на мертвом человеке.
Ефим Петрович развернул рисунок.
– Пока могу сказать лишь, что это, строго говоря, не совсем крест, скорее свастика…
– Свастика? – Это вполне увязывалось с нацистами, но вот только Руслан совершенно четко знал, как выглядит свастика. Кармовцев, уловив сомнение собеседника, поспешил пояснить:
– Вы просто привыкли к слову. И к тому, что под свастикой подразумевается именно нацистский символ. Хотя «нацистской» является лишь разновидность, у которой лучи стоят под углом в 45°, а их концы загнуты вправо. И называть этот знак желательно «Hakenkreuz». Само же понятие «свастика» намного шире, объединяет фигуры, образующиеся за счет поворота равного элемента – угла или крюка —вокруг оси, которая расположена перпендикулярно плоскости вращения. Исходя из центральной точки, лучи свастики могут не только загибаться под любым углом, но и плавно виться, как у вашей фигуры, и даже ветвиться в зависимости от смысла, заложенного в символе. Иногда трудно провести грань между собственно свастикой и так называемыми «солярными знаками».
Руслан с трудом подавил зевок. Голос у Кармовцева был мягкий, хорошо поставленный, заметно, что человек привык выступать, пусть даже аудитория ограничена одним слушателем.
– Вообще, интересный случай, хотя, конечно, учитывая современное происхождение печати, велика вероятность того, что символы эти вообще не несут смысловой нагрузки.
– Как так?
– Обыкновенно. Выбрали то, что смотрится красиво. Бывает, – Кармовцев достал из ящика стола круглую лупу на длинной ручке. – Возьмем, к примеру, вас. Вижу на шее крестик. Вы христианин?
– В какой-то мере.
– Значит, нет. Ни один настоящий христианин не станет говорить о такой важной вещи, как вера, «в какой-то мере». Вы носите крест, потому что принято. Возможно, чей-то подарок, супруги, матери… в данном случае первоначальное значение символа креста подменяется другим, личностным, известным лишь вам. Дальше… ваша майка.
– И что с ней не так? – Руслан тихо закипал, стоило переться сюда через весь город, чтобы слушать чьи-то отстраненные размышления.
– Рисунок, – Ефим Петрович подслеповато прищурился, выходит, и вправду близорук, а поначалу Руслан решил, что очки Кармовцев носит солидности ради, уж больно молодой. – Вверху руна «тотен» – знак смерти… прямо под ней – «вольфсангель» или «волчий крюк», который защищает от происков темных сил и дает власть над оборотнями, а рядышком «опфер» – самопожертвование. Видите, набор знаков случаен, и носите вы их не потому, что заявляете о готовности жертвовать собой или ожидании грядущей смерти, а потому, что рисунок приглянулся. В современном мире с поразительной небрежностью относятся к символам и символике… Но мы, кажется, отвлеклись, итак, если допустить, что выбор не случаен, картина вырисовывается прелюбопытная.
Кармовцев склонился над рисунком, а Руслан пожалел, что не захватил фотографий, все-таки пусть даже художник и старался перенести изображение в точности, но кто знает, вдруг ненароком что-то да упустил. С другой стороны, не известно, как отреагировал бы Ефим Петрович, предъяви ему Руслан не картинку, а фотографию клейма, все ж таки ученые – народ нежный.
– Не утомляя вас подробностями, скажу лишь, что в настоящее время выделено около четырехсот свастических символов, которые достаточно грубо можно разделить на две половины, или два вида. Первый – с концами, загнутыми справа налево, это так называемая свертывающаяся или собирающая свастика. И в противоположность ей – развертывающаяся или сеющая, с которой, собственно говоря, и имеем дело мы. – Кармовцев откинулся на спинку кресла и, выдвинув ящик стола, достал плоскую фляжку. Потряс, прислушался, отвинтил пробку и сделал большой глоток. – Лекарство, знаете ли… должен вот принимать.