Небесное пламя. Персидский мальчик. Погребальные игры (сборник) Рено Мэри
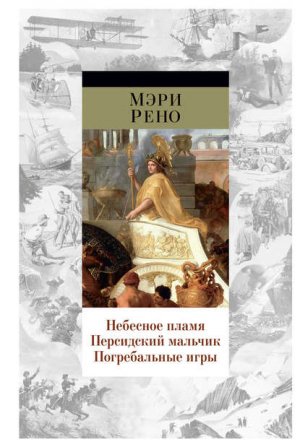
Я своими глазами видел список гостей и потому говорю достоверно: тем вечером Александр собирался пригласить Гефестиона на ужин вместе с несколькими старыми друзьями. Он был бы обходителен с ним на глазах у всех, разглаживал бы ему перышки, стараясь показать – Патрокл все еще остается Патроклом.
В тот день Гефестион столкнулся с Эвменом нос к носу, прямо в лагере.
Не могу судить, вышло это намеренно или же случайно. Я выезжал полюбоваться табунами и как раз возвращался; крик спорщиков я заслышал задолго до того, как подъехал. Гефестион заявил, что греки лодырничают уже сотню лет, что Филипп побивал их везде, где только встречал, и что сам Александр обнаружил, будто их единственным оружием остались языки; уж ими-то они владеют на славу. Эвмен отвечал, что чванливые хвастуны вообще не нуждаются в языках: их собственная вонь достаточно красноречива.
Обе толпы свистели и улюлюкали; людей все прибавлялось, и я понял, что скоро начнется кровопролитие. Уже слыша шелест извлекаемых из ножен мечей, я поворотил коня, чтобы скакать прочь, но тут раздался бешеный бой копыт, громом прокатившийся издалека и застывший совсем рядом. Прозвучал один-единственный яростный окрик, и все прочие звуки смолкли. Александр, за спиною которого маячил оруженосец, восседал на коне, глядя вниз, сжимая челюсти. Ноздри его вздулись, справляясь со вспышкой гнева. В наступившей тишине явственно слышалось позвякивание сбруи.
Долгая пауза кончилась. Гефестион и Эвмен шагнули вперед, заговорив одновременно: каждый осуждал противника.
– Молчать!
Я спрыгнул с коня и, держа его под уздцы, постарался затеряться в толпе. Мне не хотелось, чтобы мое лицо запомнилось кому-нибудь, учитывая быстро надвигавшуюся бурю.
– Ни слова! Оба! – Скорость, с какой Александр прискакал к месту ссоры, отбросила его волосы назад, открыв брови; прическа его была скорее коротка, в уступку летней жаре. Глаза Александра побледнели, а гнев исказил линию бровей, подобно сильной боли. – Я требую дисциплины от тех, кого назначаю ее поддерживать. Вам надлежит вести моих воинов в битву, а не в драку. Оба вы заслуживаете остаться без языков и замолчать навечно. Гефестион, это я сделал тебя тем, кто ты есть. И не за упрямство.
Глаза их встретились. Было так, словно я увидел обоих истекающими кровью, свободно изливавшейся по каменным лицам.
– Приказываю немедленно прекратить ссору. Под страхом смерти. Если этот запрет окажется нарушен, вас обоих будут судить за измену. Зачинщик понесет обычное наказание. Смягчать его я не стану.
Толпа затаила дыхание. У нас на глазах царь не просто отчитал двух великих полководцев, что само по себе неслыханно. Все воины вокруг были македонцами и помнили легенду об Ахилле.
Мечи тихонько заскользили обратно в ножны.
– В полдень, – сказал Александр, – вы оба явитесь ко мне. Пожмете друг другу руки и поклянетесь в примирении, которого будете придерживаться взглядом, словом и деянием. Это понятно?
Поворотив коня, он умчался прочь. Я выскользнул из толпы, не решаясь взглянуть в лицо Гефестиону, который мог видеть меня. И потому не заметил, как он поскакал вослед Александру.
Той ночью он пригласил обоих на ужин. Жест прощения – но равный для Гефестиона и Эвмена. Особая милость к Патроклу, надо полагать, была отложена до лучших времен.
Я не видел Александра, пока не пришло время одеваться. Все оказалось даже хуже, чем я думал. Царь выглядел осунувшимся и не проронил почти ни слова, так что и я не решился открыть рот. Но, расчесывая ему волосы, я все же охватил ладонями голову Александра и прижался к ней щекою. Глубоко вздохнув, он устало прикрыл глаза:
– Меня вынудили так поступить. Иного выхода не было.
– Есть раны, страдать от которых могут лишь цари, во имя общего блага. – Я провел немало времени, обдумывая, как высказать то, за что Александр простил бы меня после.
– Ты прав. Так и есть.
Мне хотелось обнять Александра, шепча, что я никогда не заставлю его так страдать. Но я помнил, что они с Гефестионом сумеют всего лишь заштопать новую прореху, не более. Что дальше? И кроме того, утро в пустыне… Поэтому я просто поцеловал своего господина и продолжал причесывать его.
Ужин закончился рано. Мне показалось, Александр побоялся, что, напившись, они начнут все сначала. Но царь замешкался в своем шатре, вместо того чтобы лечь; потом накинул темный плащ и вышел. Я видел, как он прикрывал лицо складками: он не хотел, чтобы люди видели, куда он направляется, хотя наверняка подозревал, что я обо всем догадался.
Александр отсутствовал не слишком долго. Надо полагать, они с Гефестионом, по обыкновению, замяли свои обиды; впоследствии это стало ясно всем. Но если б все шло, как желал того Александр, ночь не закончилась бы так, как она закончилась, когда он вернулся ко мне. Ничего не было сказано словами, однако и без слов можно сказать многое – возможно, слишком многое. Я любил его и ничего не мог с этим поделать.
Время проходит, стирая камни в пыль… Еще три или четыре дня мы оставались в лагере, рядом с табунами высоких лоснящихся коней. Гефестион с Эвменом обращались друг к другу тихо и подчеркнуто вежливо. Александр ездил с Гефестионом выбирать ему лошадь. Они вернулись, смеясь, как бывало раньше, – можно было вздохнуть с облегчением, ежели не знать, чего им это стоило. Времени не под силу исцелить их любовь, думалось мне. На это способно лишь желание забыть. «Смягчать наказание я не стану». Один знает, что эти слова вырваны у него силой, другой же – лишь то, что они сказаны. Уже ничего нельзя изменить или уладить за разговором. Но они столько времени провели вместе, что согласились предать забвению разлад: это необходимо, другого выхода нет.
Мы шли по горным перевалам на восток, в Экбатану.
На сей раз снега не было, и могучие стены блестели яркими цветами, словно драгоценные ожерелья на шее горы. В высоких, просторных комнатах нас встретил не дождь со снежной крошкой, но приятный студеный ветерок. Ставни оказались убраны; Экбатана была летним дворцом, и здесь ждали царя. Прекрасные ковры устилали царские полы. Светильники из потемневшего серебра или золоченой бронзы свисали с увитых золотыми листьями балок в той опочивальне, где Дарий ударил меня по лицу, а я, плача, угодил прямо в руки Набарзану.
По зеленым холмам бежали шустрые потоки; воздух дышал высотой. Теперь я смогу прокатиться по ним: мы собирались пробыть здесь все лето.
Ночью Александр вышел на балкон, дабы охладить затуманенную вином голову. Я стоял рядом. Ящики с растительностью благоухали цветами лимона и розами, чистый ветер овевал нас, спустившись с самых вершин. Царь сказал мне:
– Впервые я попал сюда, преследуя Дария. Зима была в разгаре, но я сказал себе: «Когда-нибудь вернусь».
– Я тоже. Когда я еще был с Дарием и ты преследовал нас, я сказал себе то же самое.
– И вот мы оба здесь. Наши мечты порой творят чудеса. – Александр глядел на сверкавшие звезды, вынашивая новые мечты, как поэт вынашивает песню.
Я видел знаки. Что-то пожирало его изнутри. Царь был рассеян и возбужденно ходил по комнате, сдвинув брови; тем не менее я всегда мог отличить новую мечту от новой задачи, требовавшей решения. Не стоило спрашивать, рано или поздно Александр откроет мне свои думы.
Это случилось как-то утром, так рано, что я был первым, кто узнал о причине его задумчивости. Я нашел Александра, совершенно нагого, вполне проснувшимся и разгуливавшим из угла в угол, чем он, наверное, занимался еще с темноты.
– Аравия, – заявил он, едва увидев меня. – Только не внутренние ее части, а побережье: достаточно убедиться, что племена не совершают набегов на порты. Да, нам нужны берега; и ведь никто не ведает их протяженности на юг или на запад. Подумай только. Мы можем устроить гавани вдоль Гедросии, раз теперь уже знаем точно, где можно найти воду. От Кармании – вверх по Персидскому морю, это легкое плаванье. Но нам нужно обогнуть Аравию. Поднявшись по Аравийскому заливу – этот-то отрезок хорошо изучен, – попадаем в Египет. А оттуда (ты слыхал когда-нибудь?) прямо в Срединное море ведет канал, прорытый по велению фараона Неко и завершенный Дарием Великим. Его всего-то нужно почистить и расширить. Обогнув Аравию, если только это возможно, корабли смогут преодолеть весь путь от Инда, и не только до Суз – в Александрию, Пирайю, Эфес. Города, вырастающие из малых поселений; деревни там, где не было вообще ничего; бедные дикари вроде пожирателей рыбы Неарха станут настоящими людьми; все великие народы смогут обмениваться лучшими товарами, делиться мыслями… Море – чудесная дорога, на которую человек едва лишь ступил.
Мне приходилось почти что бежать, чтобы все услышать и не отстать.
– Теперь Италия. Муж моей сестры погиб там, сражаясь; ему стоило дождаться меня. Их придется побыстрее призвать к порядку, иначе это западное племя, римляне, захватит все до последнего клочка. Хорошие воины, как я слышал. Надо будет оставить им прежнюю форму управления… Можно набрать из них новые войска, с которыми я продвину империю дальше на запад, вдоль Северной Африки. Мне не терпится узреть Геркулесовы столбы; кто знает, что лежит за ними?
Он говорил и говорил. Порою обрывки его мечтаний возвращаются ко мне, но потом я вновь теряю их; вижу одно лишь лицо Александра в холодном утреннем свете, усталое и тускло сияющее, потертое, подобно старому золоту… Блеск глубоких темных глаз, сверкающих в полутьме, подобно огню, зажженному на алтаре. Взъерошенные волосы – поблекшие, но по-прежнему мальчишеские – и сильное послушное тело, позабывшее о множестве полученных ран, готовое принять на себя задачи еще одной, очередной жизни, мерящее комнату шагами, словно уже ступив на новый путь…
– Вавилон должен стать столицей, в самом центре. Порт будет принимать по тысяче галер зараз… Мы двинемся туда сразу же, чтобы все начать, подготовить флот для Аравии… Ты чем-то огорчен?
– Только тем, что придется покинуть Экбатану. Когда мы едем?
– О, мы останемся здесь и дождемся холодов. Наше лето мы не отдадим никому. – Александр обернулся взглянуть на горы и, наверное, вышел бы нагим на балкон, если б я не набросил ему на плечи халат. – Что за место для праздника! Мы непременно устроим большое празднество, прежде чем покинем Экбатану. Пора отблагодарить Бессмертных.
Наше лето осталось с нами.
На холмах, под бегущими облаками, с лаем гончих; в розовых садах с лотосами в запрудах; в высоком зале, чьи колонны обиты золотом и серебром, где под звуки флейт я танцевал свой танец реки; в огромной опочивальне, где я некогда был пристыжен, а ныне любим, – каждый день и каждую ночь я повторял себе: «Ничего не пропущу. Не дам уснуть глазам, или ушам, или своей душе, или чувствам, никогда не забуду: здесь, сейчас – я счастлив». Ибо новый поход продлится долго. Кто знает, вернемся ли мы когда-нибудь?
Да, премудрый бог наделяет нас предчувствиями, но не слишком ясными; так он дарует предвидение птицам, что ожидают наступления зимы, но не прозревают ту морозную ночь, когда упадут в сугроб со своей заснеженной ветки, чтобы уже не очнуться.
Александр сразу же начал выстраивать в цепочку планы строительства флота и великого порта в Вавилоне, заранее рассылал приказы. Он хотел исследовать северную часть Гирканского моря: проследить, приведет ли прибрежный путь в Индию. Кроме того, он рассмотрел множество государственных дел, которые Дарий препоручил бы кому-нибудь другому; обычай гласил, что в Экбатане царь только отдыхает. Когда я поведал о том Александру, он выказал удивление и заявил мне, что не занимается ничем другим; еще никогда в жизни он не бездельничал, как теперь.
Ровно год назад, прошлым летом, мы шли через пустыню в Гедросии. Окуная ладонь в пруд с лотосами, я думал: «Я счастлив. Пусть же ни одно мгновение не пролетит мимо без моей благодарности, без поцелуя».
Как-то ночью я спросил царя:
– Счастлив ли ты, Аль-Скандер?
– А как по-твоему? – улыбнулся он в ответ.
– О, ну да, конечно. Я имел в виду – здесь, в Экбатане?
– «Счастлив»? – сказал Александр, пробуя слово на вкус. – Что есть счастье? – Он обнял меня, притянув к себе. – Достичь давней цели, исполнить затаенную мечту – да, это счастливый миг. Но, кроме того, когда ум и тело напряжены в едином порыве, в усилии, когда нет времени задуматься, что будет в следующую минуту… Оглянешься потом, вспомнишь, как это было, – и вот оно, счастье.
– Ты ведь никогда не угомонишься, не успокоишься, правда, Аль-Скандер? Даже здесь?
– Успокоиться? Когда еще столько предстоит сделать? Надеюсь, нет.
Александр уже планировал осеннее празднество и передал весть о нем в Грецию. Целые караваны актеров и поэтов, певцов и кифаристов уже спешили к нам. Царь не стал приглашать атлетов.
– В былые дни, – говорил он, – они были всесторонне развитыми людьми, героями своих городов во дни войны; теперь же, после многих упражнений, они превратились в простые машины для победы на состязаниях. Катапульта способна забросить камень намного дальше, чем это по силам человеку, но катапульта ни на что не годна, кроме метания камней. Если такие атлеты одержат верх над воинами, это будет нелепо. Не хочу, чтобы мальчики видели такое.
«Мальчики» теперь означало лишь одно. Когда бывалые ветераны покинули нас, возвращаясь к своим женам и оставив позади, как это делают воины, всех тех женщин, что шли за ними, стойко перенося все тяготы пути, Александр принял детей под свою опеку. Он не позволил бы им страдать в Македонии как нежеланным ублюдкам; их следовало воспитать теми, кем они были: наполовину персы, наполовину македонцы, часть той гармонии, которой царь принес жертву на свадебном пиршестве в Сузах. Те из мальчиков, что уже достаточно подросли, чтобы оставить матерей, были отданы в обучение и пришли в Экбатану вместе с царским двором; иногда Александр ходил взглянуть, как они упражняются.
Порой он проходил и решетчатыми коридорами гарема. Роксана была для него острым соусом – тошнотворный, если наполнить им целое блюдо, по капельке здесь и там он все же разжигает аппетит, побуждая снова отведать этот вкус. Меня это ничуть не смущало.
Лето быстро летело в прохладной зелени холмов; розы отдыхали, набираясь сил перед порою осеннего цветения. Какой-то из минувших дней многое переменил. Радость разгладила морщинки на лице Александра; он ни о чем не мог говорить подолгу, не вставляя: «Гефестион думает…» или «Гефестион сказал…». Где-то (должно быть, на верховой прогулке в горах) они разбили стену, бросились друг к другу в объятия, снова превратились в Ахилла и Патрокла; они постепенно начали забывать о былой размолвке.
Умудренный тяжким опытом своего обучения, я ничего не сделал, чтобы помешать им, и ныне никто не сможет поставить мне в укор какой-либо злой умысел. Как всегда, я схоронил слова: «Скажи, что любишь меня больше всех на свете» – глубоко в своем сердце. Я берег то, чем владел, и не зарился на чужое. Александру не было нужды пытаться забыть те ночи, когда он только поворачивался ко мне и видел, что я все понимаю. Я не замарал легенды о великих любовниках.
Когда легенда возродилась вновь, в прежнем блеске величия, я испытал облегчение – неожиданно для себя самого. Александр не остался бы самим собой, утратив ее. Он так долго жил в напряжении, стойко перенося большие и малые раны, в трудах и заботах, что тревожить корни всей его жизни было бы преступлением.
Надо полагать, Гефестион понимал это; он вовсе не был глупцом. В сердце своем он, я думаю, все еще любил Александра и чувствовал, что должен сдерживаться в ссоре с Эвменом, будь тот прав или не прав. То же чувствовали македонцы по отношению к персам. То же чувствовал и я, но мне хватало благоразумия держать это при себе. Ревновать Александра бессмысленно: его любили многие, он же никогда не отталкивал чужой любви.
Даже в холодном воздухе Экбатаны, работая «всего» за двоих, царь по-прежнему уставал быстрее, чем бывало до ранения. Я радовался, что эта, другая его рана постепенно затягивалась. Он отправится в Вавилон хотя бы немного отдохнувшим – туда, где настоящая работа только начнется.
На золотых шестах с фигурными навершиями были подняты флаги. Вырос целый городок из шатров, предназначенных для артистов. Почистили и выровняли беговые дорожки. Архитекторы возвели театр с машинами для подъема в воздух богов и явления из-под сцены мертвецов, которым греческие поэты придают немалое значение. Теттал, любимый актер Александра, был встречен с распростертыми объятиями и поселен в лучший шатер. Они все прибывали и прибывали, затапливая нас, – флейтисты, мальчики из театральных хоров, художники, раскрашивавшие декорации, певцы и танцоры, ораторы и акробаты, первоклассные гетеры и дешевые шлюхи, среди коих попадались и евнухи, столь бесстыдно и пышно разодетые, что мне становилось не по себе при одном взгляде на них. Повсюду сновали торговцы, предлагая лакомства и безделушки, одежды, благовония и, конечно же, вина.
Да, вино лилось рекою – и во дворце, и за его крепкими стенами. Каждый вечер устраивались пирушки в честь новоприбывших артистов или друзей Александра. Патрокл вернулся, и царь отдался веселью. В последние ночи мне уже не удавалось уложить его спать трезвым. Впрочем, он никогда не напивался до бесчувствия, зная, что на следующий день ему предстоит судить состязания. Друзья же Александра весьма часто не могли покинуть пиршественной залы без посторонней помощи. Живя среди македонцев, к этому быстро привыкаешь.
Когда я помогал царю облачиться в торжественное одеяние для состязания хоров, он сказал мне:
– Гефестиону что-то нездоровится, у него жар.
Некогда Александр вообще не заговаривал со мной о нем; теперь он делал это часто, памятуя о так и не высказанных нами тайных думах. Я ответил, что мне жаль Гефестиона, но, я надеюсь, это всего лишь простуда и он скоро поправится.
– Должно быть, он хворал уже вчера, сам того не подозревая. Мне стоило пить поменьше… – Александр вышел, и грянули трубы.
На следующий день Гефестиону стало хуже, у него начались рези в животе. Сколь бы ни был занят Александр, он все свободное время проводил рядом с ним. Ахилл всегда сам накладывал повязки на раны Патрокла. Он пригласил к Гефестиону самого известного лекаря в Экбатане, грека по имени Главкий; как Александр признался мне позже, он дал врачевателю несколько советов. Действительно, царь немного владел искусством врачевания – его учил Аристотель, да и сам Александр старался расширять свои познания. Было решено, что больному не следует есть твердой пищи. Жрецам было приказано принести жертвы, моля богов об исцелении.
На третий день Гефестиону стало совсем худо. Он ослаб, как дитя, говорил бессвязно и буквально пылал жаром, как рассказал мне Александр. В тот день были назначены комедии и фарсы. Александр не стал смотреть их и вышел из комнаты больного только для того, чтобы вручить призы. Когда вечером я спросил у него о новостях, он ответил:
– По-моему, Гефестиону лучше. Он неугомонен и капризен, это добрый знак. Он силен, он справится… Жаль, что пришлось огорчить актеров, но это было необходимо.
В тот вечер устраивалась очередная пирушка, но Александр ушел рано, чтобы проведать Гефестиона; вернувшись, он объявил, что тот спит и выглядит почти нормально. Наутро Александр посетил все представления и состязания без исключений: его отсутствие сильно расстроило комедиантов. Вечером он нашел Гефестиона сидящим в подушках и спрашивавшим еды.
– Хотелось бы мне, – сказал он позже, – послать ему что-нибудь вкусное после ужина. – Александру очень нравился этот приятный обычай. – Но рези в животе оставляют слабость в кишках; я часто видел это подле Окса. Главкию приказано кормить его с ложки.
Гефестион все еще не покидал постели (хотя ему и вправду полегчало, если не считать небольшого жара по ночам), когда завершились состязания актеров и начались игры.
Александр любил искусства, но игры были предметом самой близкой его заботы. Он руководил почти всеми приготовлениями, а потом, награждая победителей венцами, всегда вспоминал об их прежних заслугах на поле брани и в других играх. За подобные вещи его и любила армия. После двух или трех дней атлетических состязаний пришла пора для мальчиков.
Я не посещал игр мужчин, считая лучшим времяпрепровождением бывать в шатрах у актеров, но все же явился на стадион посмотреть, как побегут мальчики: я хотел увидеть юное поколение, взращиваемое Александром. Конечно, потом он захочет поговорить о них.
Они выглядели здоровыми, ибо хорошо питались с той поры, как он забрал их к себе; смешение наций, но все лица – с македонской примесью; вне сомнения, когда они немного подрастут, мы увидим и индские черты. Самыми красивыми были, разумеется, персидские полукровки. Я сидел как раз напротив Александра, по другую сторону беговой дорожки. Промаршировав мимо, они уходили с лицами, зажженными его улыбкой.
Мальчики выстроились в линию; загудели трубы – и они помчались. В уступку персидской благопристойности на них были крошечные набедренные повязки. Милое зрелище, подумал я и перевел глаза на Александра. Возле трона происходило нечто странное: какой-то посланец стоял рядом и говорил с царем. Тот вскочил. Ступени за троном были запружены людьми; Александр растолкал их прежде, чем те могли уступить дорогу. Он почти шел по сидящим… Царь исчез, и те, кто был рядом с ним, поспешили вослед, с трудом одолевая крутые ступени.
Я тоже карабкался вверх, покинув место. Я должен знать, что случилось. Ему может потребоваться моя помощь… То, что я сидел на другой стороне стадиона, задержало меня, и когда я достиг дворца, царские покои оказались пусты. Только тогда я обо всем догадался.
Я поднялся по лестнице и повернул по изогнутому коридору; не было нужды спрашивать дорогу. Еще со ступеней я услыхал ужасный вопль скорби, от которого зашевелились волосы на моем затылке.
Никто не охранял дверей, но снаружи стояло несколько человек, чьих лиц я не разглядел. Проскользнув меж ними, я вошел, никем не замеченный, словно домашний пес. Прежде я ни разу не был в комнате Гефестиона. Она оказалась уютной, с обитыми красной тканью стенами и с полочкой для серебряных сосудов. Запах болезни царил здесь, а сам Гефестион лежал на кровати, запрокинув лицо, с приоткрытым ртом. Кто-то успел закрыть ему глаза. Александр почти лежал поперек его тела, сжимая в объятиях, прижавшись губами к его лицу. Царь поднял голову и вновь испустил этот жуткий вопль, после чего уронил лицо в волосы мертвеца.
Немного подождав, Пердикка осторожно (его мучили жалость, стыд и… да, уже тогда – страх) позвал:
– Александр…
Тот оглянулся, и я ступил вперед, не беспокоясь уже, видит меня кто-нибудь или же нет. Царь и прежде оборачивался ко мне, находя в моих глазах понимание… Сейчас его взгляд прошел прямо сквозь меня, совершенно пустой: казалось, для него я вообще никогда не существовал. Потерянный взгляд, чужой, одержимый.
Я взирал на эту странную комнату, которой мне уже никогда не забыть; я стоял там, подобно неоплаканному и непохороненному мертвецу, выброшенному голым в ночную темень. Я взирал на кровать, отягощенную страшным грузом, на висящие по стенам драпировки с изображениями гордых оленей и лучников, на серебряные кувшины, на пустую чашу для вина, опрокинутую набок, и на блюдо с пощипанной курицей.
Совершенно неожиданно для всех нас Александр оказался на ногах и уставился на вошедших, будто мог умертвить сейчас любого из них, ничуть не заботясь, кого или за что.
– Где лекарь?
Птолемей оглянулся, чтобы спросить у слуг, но те давно уж разбежались.
– Должно быть, отправился смотреть на игры.
Отступив к двери, я почувствовал, что за спиною у меня кто-то стоит. То был сам врачеватель, едва вошедший, только что узнавший о непоправимом. Александр метнулся к Главкию через всю комнату, подобно хищному зверю в прыжке, схватил его и затряс:
– Убийца! Почему ты оставил его? Почему позволил есть самому?
Язык лекаря заплетался, но ему все-таки удалось выдавить, что Гефестион шел на поправку и что он сам приказал подать ему куриный бульон.
– Повесить! – рявкнул царь. – Увести и повесить. Сейчас же.
Пердикка глянул на Птолемея; тот кивнул, не отрывая взгляда от Александра. Лекаря уволокли прочь стражники Селевка. Царь же вернулся к постели, долго смотрел на нее и рухнул вниз – туда, где лежал и прежде. Мертвое тело сотрясалось от его рыданий.
К дверям подходили и подходили государственные мужи, только что узнавшие новость. Те, что были внутри, могли лишь беспомощно переглядываться. Певкест коснулся моего плеча и шепнул по-персидски:
– Иди поговори с ним.
Я покачал головой. Сердце мое умирало в муках, ибо Александр мог возненавидеть меня за то, что я остался жить.
И потому я убежал прочь – через весь город, сквозь вонь и толчею базара, мимо уличных женщин, которых замечал, только расслышав их смех за спиною. Я бежал в поле, в лес, сам не зная куда. Холодный ручей, в который я ступил, пробудил меня и заставил оглянуться на город: солнце садилось, и раскрашенные стены блистали своими чудесными красками. Неужели я улизнул, когда сама плоть моего господина была изранена? Теперь, когда он повредился в уме и мог причинить мне боль в своем безумии? Неужели именно теперь я предал его? Бросить хозяина в такую минуту не мог бы и пес.
Вечерний сумрак подступал все ближе. Одежды мои оказались порваны, а руки покрывали царапины от шипов, которых я не запомнил. Даже не подумав привести себя в приличный вид, я вернулся, чтобы застать у двери все тех же людей. Внутри – мертвая тишина.
Двое или трое вышли, чтобы поговорить в стороне, и Птолемей тихо сказал:
– Мы должны вытащить его отсюда, пока нет запаха, или он совсем потеряет рассудок. Возможно, и к лучшему.
– Значит, силой? – переспросил Пердикка. – Иначе он не двинется с места. Мы должны сделать это вместе: сейчас не время просить кого-то одного.
Так и не замеченный, я ушел. Ничто не могло заставить меня войти, дабы Александр обратил взгляд с мертвого лица на подушках на мое, живое. Я затаился в его комнате и ждал.
Когда привели Александра, он шел сам, молча. Затем друзья окружили царя и говорили, выражая скорбь и восхваляя умершего – по-моему, впервые за день. Глаза Александра перебегали с лица на лицо так, словно он был загнан в угол и видел смертельные острия копий. Вдруг он крикнул ни с того ни с сего:
– Лжецы! Все вы ненавидели Гефестиона, все завидовали ему! Уходите.
Переглянувшись, они вышли, оставив Александра стоять посреди комнаты в измятом царском облачении, надетом в честь сегодняшних игр. Стон вырвался у него, словно все раны, перенесенные молча, вдруг обрели голос. Потом он медленно повернулся и увидел меня.
Я ничего не мог прочитать по его лицу. При Александре не было оружия, но и сами руки его оставались очень сильны. Шагнув вперед, я встал на колени, потянулся к руке царя и поцеловал ее.
Какое-то время Александр смотрел вниз, на меня, отстраненным взглядом, после чего сказал:
– Ты оплакивал его.
Я не сразу сообразил, что он видит мои изорванные шипами одежды, расцарапанное лицо и руки. Ухватившись за край одной из прорех, я рванул – и разорвал свое одеяние сверху донизу.
Опустив руку, Александр запустил пальцы мне в волосы и, потянув назад, уставился мне в лицо. Мои глаза сказали ему: «Я буду ждать, пока ты не вернешься. Если останусь жив. Если я не родился для того, чтобы служить тебе и погибнуть от твоей руки…» Казалось, целую вечность он оглядывал меня помутившимся, безумным взором, ухватив за волосы. Потом он сказал:
– Ты нашел Гефестиона, когда умирал Букефал. Ты почитал его за друга с тех пор, как он спас тебя в пустыне. Ты никогда не желал ему смерти.
Я вознес хвалу умершему, стоя на коленях, цепляясь за руку Александра. То было мое признание, хотя царь не догадывался о том. Прежде я приветствовал неудачи своего соперника, ненавидел его добродетели. Теперь я с внутренней болью вытащил их оттуда, где схоронили их мои потаенные желания, и выложил перед Александром, словно трофеи, обагренные моей собственной кровью. Гефестион вышел победителем в нашем споре. Победителем и останется.
Глаза Александра бесцельно блуждали по комнате. Он не слышал и половины из того, что я говорил ему, выпустил мои волосы, вернувшись к одиночеству. Отойдя к кровати, он упал на нее и закрыл лицо.
Весь следующий день он просто лежал там, не принимая утешений. Не позволив мне позаботиться о нем, Александр не выставил меня, однако, из комнаты; он редко замечал мое присутствие. Военачальники действовали по собственному усмотрению – они отменили оставшиеся игры, приказав сменить развевающиеся знамена на траурные венки. Селевк, державший лекаря под стражей и не спешивший его вешать – на тот случай, если царь одумается, не решился переспросить – и все-таки вздернул незадачливого врачевателя. Бальзамировщики, вовремя найденные и приглашенные к Гефестиону, занялись им. В нашем лагере было немало египтян.
Ночью, не осознавая, что делает, Александр принял из моих рук немного воды. Не спрашивая дозволения, я принес несколько тюфяков и спал в его комнате, у стены. Утром я видел, как царь очнулся от недолгого, тяжелого сна и продолжал вспоминать… В тот день он плакал, словно только что узнав о смерти друга. Как если бы его оглушили палицей, и только теперь он начал шевелиться, понемногу приходя в себя. Однажды Александр даже поблагодарил меня за что-то, но выражение его лица показалось мне странным, и я не решился обнять его.
Следующим утром царь проснулся прежде меня. Когда я оторвал голову от подушки, он стоял с кинжалом в руке и безжалостно кромсал свои волосы.
Несколько первых мгновений я думал, что он совсем потерял рассудок и следующим движением перережет кому-нибудь горло, себе или мне. В нынешние времена греки кладут на погребальный костер всего один локон… Потом я вспомнил Ахилла, остригшего свои волосы ради Патрокла. Поэтому я разыскал в царских вещах маленький ножик для стрижки и сказал:
– Позволь, я помогу тебе. Я все сделаю так, как ты хочешь.
– Нет! – вскричал Александр, пятясь. – Нет, я должен сделать это своими руками!
Нетерпение, однако, не дало ему справиться с затылком, и он все же разрешил мне помочь, желая поскорее покончить с этим. Пробудившись от сна, с горящими глазами, он выбежал прочь из комнаты, словно бы оставляя за собою огненный след.
Царь спросил о Гефестионе – бальзамировщики погрузили тело в ванну с селитрой. Александр осведомился, казнен ли лекарь (Селевк был предусмотрителен), и распорядился приколотить тело к кресту. Он велел остричь гривы всем армейским лошадям в знак траура. По его приказу золото и серебро были содраны со стен Экбатаны, а все цвета закрашены черным.
Я следовал за ним, где только мог, на тот случай, если царь вовсе потеряет способность думать и превратится в беспомощное дитя. Я знал: Александр безумен. Но он по-прежнему мог судить о том, где он и с кем разговаривает. Ему не прекословили; лекарь Главкий висел на кресте, черный от собравшегося воронья.
Вскоре после этого на площади перед дворцом появилась богато украшенная погребальная колесница, увешанная венками и гирляндами, порождение скорби и траура. Александра достигла весть о том, что друзья умершего желают посвятить свои приношения. Царь вышел взглянуть. Первым был Эвмен; он посвятил все свои доспехи и оружие, которые были весьма ценными. За ним следовала целая процессия; явились все те, кто сказал хотя бы слово поперек Гефестиону за прошедшие пять лет.
Александр спокойно смотрел на это, подобно ребенку, понимавшему, что ему лгут, и не поддавшемуся очевидному обману. Он пощадил их не за притворство, но из-за их раскаяния и страха.
Когда они покончили с дарами, вышли все те, кто действительно любил Гефестиона. Я был удивлен, увидев, как много отыскалось таких.
Весь следующий день Александр готовил ритуал похорон. Они должны были состояться в Вавилоне, новом центре его империи, где мемориал Гефестиона стоял бы вечно. Когда-то Дарий, взыскуя мира после падения Тира, предложил в уплату за мать, жену и детей десять тысяч талантов. На Гефестиона Александр собирался потратить двенадцать.
Это успокоило его – необходимость совершать приготовления, выбирать архитектора для постройки огромного костра, планировать погребальные игры, в которых должны были состязаться три тысячи человек. Во всем Александр был точен и благоразумен.
В вечерние часы он заводил со мною разговоры о Гефестионе – так, словно воспоминания были в силах оживить мертвого. Чем они занимались в детстве, что друг говорил о том или об этом, как именно он обучал своих собак… И все-таки я чувствовал: что-то остается невысказанным; отворачиваясь, я кожей ощущал его взгляд. Я все понимал. Александр раздумывал над тем, что, приняв меня, он огорчил Гефестиона, что это следует исправить… Он тихо отстранил бы меня, наказывая себя самого, просто чтобы сделать прощальный подарок мертвецу. Он сделал бы это сразу, едва только приняв решение.
Мое сознание бежало, словно загнанный охотниками олень, едва соображающий, что бежит. Я сказал Александру:
– Хорошо, что Эвмен и прочие сделали посвящения. Теперь Гефестион примирился с ними… Он позабыл гнев, свойственный смертным. Из всех людей на земле ты один остаешься с ним, бессмертный, подобно ему самому.
Александр отступил на шаг, оставив в моих руках полотенце, и так сильно вдавил кулаки в глазницы, что я даже испугался, как бы он не повредил себе глаза. Не ведаю, что явилось ему в той искрящейся темноте. Убирая руки от лица, он проговорил:
– Да. Да. Да. Это очевидно. Иначе и быть не может.
Я уложил его в постель и собирался выйти, когда он сказал, с тою же сухой серьезностью, с какой планировал игры:
– Надо будет завтра же послать людей к оракулу Амона.
Я что-то ответил и ушел, еле переставляя непослушные ноги. Какой новый толчок дал я его безумию? Говоря о бессмертных, я думал по-персидски: души праведников, благополучно перебравшиеся в Страну Вечного Блаженства по ту сторону Реки Испытаний. Но Александр – он думал по-гречески. Он собирался просить оракула сделать Гефестиона богом.
Я с плачем бросился на свою кровать. Решение принято, Александр не отступится. Я думал о египтянах, древнейшем народе, презрительном и насмешливом на протяжении всей своей долгой истории. Они посмеются над ним, думал я, они посмеются над Александром. Потом я вспомнил: царь уже божество, сам Амон признал его сыном. Без Гефестиона он не может вынести даже бессмертие.
Столь тяжелы были мои страдания, столь совершенна скорбь, что они выжгли мой разум, оставив его пустым, и я уснул.
На следующий день Александр избрал жрецов и послов, вручил им подношения богу. Посланцы отправились в путь днем позже.
Сразу после этого царь совершенно успокоился; безумие выветривалось день ото дня, хотя все мы продолжали жить в страхе. Друзья Александра сделали пожертвования на похороны. Эвмен дал более прочих, вне сомнения вспоминая о сгоревшем шатре; он по-прежнему старался обходить стороной пути Александра.
Чтобы скинуть с плеч печаль, я выехал в холмы. Оттуда, оглянувшись, я увидел прекрасные стены Экбатаны ободранными, голыми, лишенными древней роскоши; семь кругов зловещей черноты. И заплакал вновь.
Глава 28
Время проходит, и все в этом мире проходит вместе с ним. Александр ел, начал спать, встречаться с друзьями. Он даже принимал у себя просителей. Обрезанные волосы понемногу отросли. Порой царь заговаривал со мною об обычных, повседневных вещах. Но он не отозвал своих посланников, не развернул их с полпути к Сиве.
Осень перешла в зиму. Минуло то время, когда цари привыкли покидать летний дворец, отъезжая в Вавилон. Чтобы приветствовать Александра, туда уже направились бесчисленные посольства со всех концов империи и из-за дальних ее границ.
Египтяне показали все свое искусство, бальзамируя Гефестиона. Он лежал в золоченом гробу, на помосте, обитом драгоценными тканями, в одном из наиболее торжественно обставленных залов дворца. Вокруг него были разложены военные трофеи и дружеские приношения. Его не стали пеленать бинтами, класть в саркофаг или закрывать лицо маской, как делают здесь, в Египте. Тело, над которым потрудились мастера, даже не обернутое, сохранило бы жизнеподобные черты на многие века… Александр часто навещал его. Однажды он взял с собою и меня – ибо я достойно оплакал смерть его друга – и поднял крышку гроба, чтобы я мог взглянуть. Гефестион лежал на золотом шитье, в остром аромате благовоний и селитры; он вспыхнет свечою, когда наступит пора сжечь его тело в Вавилоне. Лицо оставалось красивым и было строгим в неумолимости сжатых губ цвета потемневшей слоновой кости. Скрещенные на груди руки покоились на обрезанных прядях волос Александра.
Время шло. Когда Александр уже мог говорить с друзьями, его военачальники, в своей воинской мудрости, принесли ему лечебное питье, чья сила превосходила все мои старания. Птолемей пришел к царю с вестью: коссаянцы явились получить положенную дань.
То было племя знаменитых разбойников, жившее в горах где-то меж Экбатаной и Вавилоном. Караванам, желавшим пройти той дорогой, приходилось ждать, пока торговцев не соберется достаточно для того, чтобы нанять маленькую армию для охраны. Кажется, набеги совершались на все, что двигалось по перевалу, включая и царские повозки, пока не было решено ежегодно, в середине осени, откупаться от коссаянцев сумой, полной золотых дариков. Оговоренное время минуло, и разбойники послали спросить, что сталось с их данью.
Александрово «что?» прозвучало почти как в старые времена.
– Дань? – переспросил он. – Пусть подождут. Будет им дань.
– Это очень трудная страна, – озадаченно проговорил, почесывая щеку, умница Птолемей, – их крепости похожи на гнезда орлов. Оху так и не удалось справиться с разбойниками за все эти годы.
– А мы с тобой справимся, – твердо отвечал Александр.
Он выступил против коссаянцев, не прошло и недели. Царь сказал, что всякий разбойник, павший от его руки, будет посвящен Гефестиону, как это делал Ахилл с троянцами у погребального костра Патрокла.
Я собрал свои вещи, даже не спросившись. Царь больше не бросал на меня те скрытые взгляды; он взял меня, ибо не рассматривал иной возможности, я же только того и ждал. В своем сердце я смирился с тем, что он может уже никогда не возлечь со мною, чтобы не огорчить ненароком дух Гефестиона. Весь этот траур понемногу превратился в привычку. Я смогу жить, только если буду рядом с моим господином.
В горах Александр разделил войско, поручив одну часть Птолемею, а вторую возглавив сам. Там, наверху, уже стояла настоящая зима. Мы были армейским лагерем, как в горах великого Кавказа, и двигались налегке от одной крепости к другой. Каждую ночь Александр приходил в свой шатер, не скорбя более, но полный дум о дневном марше или осаде. На седьмой день похода он впервые рассмеялся.
Хоть все коссаянцы были грабителями и убийцами, без которых человечество могло лишь вздохнуть спокойнее, я опасался (ради Александра, разумеется), что царь устроит жуткую, диктуемую безумием резню. Но он пришел в себя. Конечно, он убивал врагов там, где битва взывала об этом; возможно, Гефестион был доволен, если только мертвые и впрямь так обожают кровь, как поет о том Гомер. Но Александр захватывал пленных, не отступая от своего обычая, и пленял вождей, чтобы ставить свои условия оставшимся на свободе. Мысль его работала ясно, как прежде. Он видел каждую козью тропу, ведущую к очередному орлиному гнезду; его военные хитрости и сюрпризы были виртуозны. А ведь ничто не излечит творца лучше собственного его искусства.
После одной блестящей победы он устроил в своем шатре ужин для военачальников. Еще перед тем, как явились гости, я беспечно сказал ему: «Аль-Скандер, тебе надо подровнять волосы», – и он позволил мне поправить неровные концы. В ту ночь он выпил немало и опьянел. Царь не делал этого со дня смерти Гефестиона: вино могло утопить его чистую скорбь. Теперь он пил за победу, и, помогая ему добраться до постели, я чувствовал облегчение в сердце.
Мы двинулись к следующей крепости. Александр выставил осадные линии. Первый снег коснулся вершин белой кистью, и люди жались поближе к кострам. Огни сверкали на царских одеждах, когда он вернулся в шатер и привычно приветствовал стоявших на страже юношей. Когда я внес ночной светильник, он притянул меня к себе, поймав за руку.
В ту ночь я не предложил ему изысков своего искусства – или не больше, чем вошло в мою плоть и кровь; во мне была одна только нежность, из которой удовольствие рождается само, питаемое ею, как цветы питаются пролившимся накануне дождем. Мне пришлось зарыться лицом в подушку, дабы скрыть слезы радости. На спящем челе Александра я видел морщины – отметины безумия, боли и бессонницы, но то были всего лишь следы свежих ран, уже затянувшихся и превращающихся в старые шрамы. Лик царя говорил об умиротворении.
Я думал тогда: Александр возродит легенду об Ахилле, он отольет ее в вечной бронзе. Он будет верен ей, даже если проживет втрое больше. Полк Гефестиона всегда будет носить его имя, кто бы им ни командовал. Сам же он вовеки останется любовником Александра, никто и никогда не услышит: «Я люблю тебя больше всех прочих». Но в гробнице не поселится никто, кроме легенды; сам Гефестион станет шипящим синим пламенем, а затем – прахом. Пусть он живет отныне на Олимпе, среди бессмертных, пока мое место здесь.
Я тихонько собрался и вышел, стараясь не разбудить Александра. Он возьмет новую крепость на рассвете; у него не будет лишнего времени, чтобы обдумать план осады.
За всю нечистую историю коссаянцев еще никто не преследовал их в разгар зимы. Последние крепости сдались под угрозой голодной смерти, в обмен на свободу пленников. Вся война отняла сорок дней, не более. Александр расставил гарнизоны в крепостях вдоль переходов, уничтожил все прочие – и война окончилась. Караваны потекли непрерывной струйкой. Царскому двору было приказано собраться и последовать за своим господином в Вавилон. Твердые красные почки уже украсили голые кусты, сбрасывавшие с себя снег.
Если бы не охватившее царя безумие, он зимовал бы там, внизу, где было не так холодно. Он мог бы заняться созданием нового порта и флотилии, надобных для похода на Аравию. Теперь он направлялся в Вавилон, когда любой прежний царь Персии подумал бы о Персеполе. Всю войну с коссаянцами несметные толпы посольств ожидали его, сгорая от нетерпения.
Они пришли, когда Александр встал лагерем по ту сторону Тигра. Он готовился встретить их, исполненный царственной власти, но никто не сумел бы хорошо приготовиться к такому нашествию.
Послы явились не просто из разных концов империи, но из стран всего известного мира – из Ливии, с короною африканского золота; из Эфиопии, с зубами гиппокампов и слоновьими бивнями невероятных размеров; из Карфагена, с ляписом, и жемчугом, и благовониями; из Скифии, с гиперборейским янтарем… Огромные беловолосые кельты явились с северо-запада, смуглые этруски – из Италии; пришли даже иберийцы из-за Столбов. Все они восхваляли Александра, называя повелителем Азии, они привезли споры из городов, бывших далеко за пределами границ его империи, с тем чтобы испросить его мудрого решения. Они пришли с дарами, посоветовавшись с оракулами, как то делают греки перед путешествием к самым почитаемым храмам своей страны.
Воистину, в наше время само лицо Александра изменило лики богов. Поглядите на что угодно, на статуи или картины. Весь мир помнит сегодня его глаза.
То, что эти люди явились узреть царя во всем величии, помогло Александру справиться с болезнью. После всего, что он пережил, греки шептались, будто судьба его вышла за пределы человеческого жребия, а потому боги прониклись завистью. Одному из таких греков я отвечал: «Говори за себя. Наш царь велик и не ведает зависти; он правит, осиянный светом и славою. Вот почему мы поклоняемся ему через огонь». Нечего удивляться, отчего это у греков завистливые боги, – сей народ и сам исполнен зависти.
Целых три дня у Александра не было ни единой свободной минуты, чтобы отдаться горестям. Ум его был возбужден: царь вспоминал о Сиве и думал о западных землях, чьи народы увидел впервые. Но что-то в его лице постоянно менялось, как если бы печаль касалась вдруг его плеча, спрашивая: «Ты забыл обо мне?»
В речных долинах всходы уже окрасили зеленью плодородные, жирные земли. На горизонте проступили черные стены Вавилона, когда к нашему последнему лагерю подскакал одинокий путник. То был Неарх, прибывший прямо из города. Хоть трудности походов оставили на нем свою печать, сейчас можно было судить о его подлинном возрасте – едва за сорок. Мне он сразу показался озабоченным. О нет, подумал я, только не теперь, когда царю едва стало лучше! В общем, я остался выслушать Неарха.
Александр тепло встретил старого друга, осведомился о его здоровье и о делах флота; потом просто сказал:
– А теперь расскажи мне, что случилось.
– Александр, речь о халдейских жрецах, астрологах.
– Что такое? Я потратил целое состояние, чтоб они заново отстроили храм Зевса-Бела. Чего им еще не хватает?
– Дело не в том, – сказал Неарх.
Пусть я не мог видеть его из своего укрытия, мое сердце все же замерло: отважный моряк Неарх никогда прежде не ходил вокруг да около.
– Тогда в чем же? – терпеливо спросил Александр. – Что могло произойти?
– Александр, халдеи читали мне по звездам, прежде чем мы ушли в Индию. Все вышло так, как они говорили… В общем, недавно я снова побывал у них. Они предвещают нечто такое… от чего я совсем растерялся. Послушай, Александр, я ведь знал тебя, еще когда ты был таким вот крохой. Мне ведом день твоего рождения, место, час – все, что им нужно. Я попросил прочесть для тебя звезды, и они говорят, что прямо сейчас Вавилон таит опасность. Халдеи собираются выйти тебе навстречу, предупредить. Для тебя этот город – что подветренный берег, говорят они. Несчастливый. Вот почему я здесь.
Небольшая пауза. Потом – тихий голос Александра:
– Что ж, я в любом случае рад тебя видеть. Скажи, они закончили храм?
– Нет, едва только заложен фундамент. Не знаю почему.
Царь рассмеялся:
– Зато я знаю. Они таскали из казны деньги на возведение храма с тех самых пор, как Ксеркс сровнял его с землей. Должно быть, теперь халдеи – самые богатые жрецы на всем свете. Они думали, я не вернусь, и решили, что так может продолжаться вечно. Неудивительно, что они не хотят впускать меня в город.
Неарх прочистил горло:
– Ну, этого я не знал. Но… они поведали, что меня ждет испытание водой, царское уважение, а затем – бракосочетание с девушкой чужого народа. Помнишь, я говорил на пиру?
– Они прекрасно знали, что ты – мой друг, а в придачу наварх[105] моего флота. Чудесно! Пошли ужинать.
Александр выделил Неарху шатер для ночлега и завершил работу, назначенную на день.
Когда царь лег, я наклонился над ним, и он шепнул, глядя вверх:
– Мой прекрасный соглядатай! Не будь таким мрачным, тебе это не к лицу.
– Аль-Скандер! – Я упал на колени рядом с кроватью. – Делай то, что советуют халдеи. Не думай о деньгах, пусть они оставят их себе. Они не прорицатели и не нуждаются в чистоте сердец, но их познания велики. Всякий скажет тебе.
Александр потянулся ко мне и пробежал по моим локонам пальцами.
– Вот как? Каллисфен тоже многое знал.
– Халдеи не могут лгать. Вся их слава – в правдивых предсказаниях. Я жил в Вавилоне и говорил со всякими людьми в домах танцев.
– Правда? – Александр легонько потянул меня за волосы. – Ну-ка, рассказывай дальше.
– Аль-Скандер, не ходи в город.
– Ну что с тобою делать? Залезай, ты не уснешь в одиночестве.
Халдеи пришли говорить с ним на следующий день.
Они явились в священных одеяниях, чей покрой не менялся веками. Благовония сжигались перед ними; их жезлы были усыпаны звездами. Александр встретил астрологов в своем парадном облачении – в македонских доспехах. Им как-то удалось убедить его уединиться с ними, отойти в сторонку, дабы никто, кроме толмача, не слыхал разговора. У халдеев свой тайный язык, а вавилоняне к тому же не сильны в персидском; но я надеялся, что толмач поймет как раз достаточно, чтобы убедить Александра передумать.
Назад царь вернулся с серьезным выражением на лице. Он не был из тех, кто слепо считает, что бог может иметь одно лишь имя – то, что было открыто человеку еще в детстве.
Халдеи упрашивали Александра идти на восток, в Сузы. Но все мечты, надежды и неотложные, дорогие его сердцу дела сходились в Вавилоне: новый порт, завоевание Аравии, похороны Гефестиона… Царь все еще сомневался в добрых намерениях астрологов. Старый Аристандр, который толковал для него знамения, уже умер.
В любом случае царь заявил, что, поскольку запад неблагоприятен, он обойдет город вокруг и вступит в него с востока, через Южные ворота.
Восточных ворот в Вавилоне нет – и вскоре мы уже знали отчего. Обогнув город, мы угодили в топь – растянувшееся, насколько хватало глаз, питаемое Евфратом болото, полное коварных мелких озер. Александр мог бы сделать круг пошире, даже если для этого пришлось бы дважды переходить Тигр и возвращаться к Евфрату. Но он сказал нетерпеливо: «Довольно. Я не собираюсь прыгать с кочки на кочку, подобно болотной жабе, только чтобы доставить удовольствие халдеям». В городе ждали посольства – и царь знал, что глаза всего мира сейчас устремлены на него. Быть может, именно поэтому все вышло так, как вышло. Он вернулся обратно, зайдя с северо-запада.
Но Александр и тогда не спешил входить в город, намереваясь разбить лагерь на берегу реки. Потом он услыхал, что к Вавилону движутся новые послы, на сей раз из Греции.
Как всегда навязчивый, Анаксарх поспешил напомнить ему, что греческие мыслители более не верят в знамения. Это уязвило гордость Александра.




