Небесное пламя. Персидский мальчик. Погребальные игры (сборник) Рено Мэри
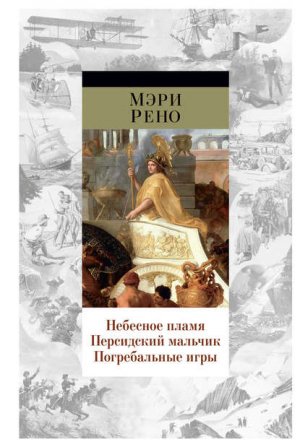
– Симон нашел его в сундуке для одежды, – сказал Александр. – Должно быть, я шарил рукой в тряпках и обронил его.
– Я сам там смотрел, – возразил Гефестион.
– Полагаю, оно закатилось между складок, – сказал Александр.
– Ты не думаешь, что Симон его украл, а потом испугался?
– Симон? Он не так глуп: все знают, что кольцо мое. Сегодня, кажется, счастливый день.
Александр намекал на Эвридику, которая только что разрешилась от бремени, опять девочкой.
– Да выполнит бог доброе предзнаменование, – сказал Гефестион.
Александр и Гефестион спустились к ужину. Александр остановился у входа, чтобы поздороваться с Павсанием. Заставить такого человека улыбнуться всегда было пусть небольшой, но победой.
В предрассветном сумраке старый театр Эгии пламенел в сиянии факелов и светильников. Маленькие лампы порхали, как светляки, в руках слуг, провожавших гостей к их местам. На скамьях лежали подушки. Легкий ветер от горных лесов разносил запахи смолы и многолюдной скученной толпы.
Внизу, в орхестре, были составлены в круг двенадцать алтарей олимпийцев. На них ярко пылал благоухающий ладаном огонь, который освещал одеяния священнослужителей и мускулистые тела младших жрецов, держащих блестящие тесаки. С полей внизу доносилось блеяние и мычание жертвенного скота, обеспокоенного суетой и светом факелов; на животных уже надели венки. Их голоса перекрывал рев Зевсова белого быка с позолоченными рогами.
На возвышении стоял трон царя. Убранство его еще смутно различалось в полумраке. К трону примыкали кресла для сына Филиппа и его нового зятя.
В верхних ярусах сидели атлеты, возницы колесниц, певцы и музыканты, которым предстояло состязаться в играх, когда те будут освящены обрядом. Маленький театр был полон приглашенными Филиппом гостями. Солдаты и крестьяне, горцы, спустившиеся в город, чтобы увидеть представление, сновали и топтались на затененном склоне холма вокруг чаши театра или толклись вдоль дороги, по которой должна была пойти процессия. Голоса вздымались, опадали и смешивались в хоре, как волны на гальке пляжа. Мальчишки усеяли сосны, которые черными силуэтами вырисовывались на востоке светлеющего неба.
Старую ухабистую дорогу к театру разровняли и расширили для шествия. В свежем предрассветном воздухе сладко пахла прибитая горной росой пыль. Солдаты, которым предписывалось расчистить путь, несли факелы, добродушно распихивая толпу: толкавший и тот, кого толкали, часто оказывались единоплеменниками. Факелы гасли в набирающем силу безоблачном летнем рассвете.
Когда вершины хребтов за Эгией окрасились розовым, стало видно все сверкающее великолепие торжества: высокие алые шесты, позолоченные флероны в виде льва или орла, развевающиеся знамена, гирлянды цветов, перевитые плющом; Триумфальную арку с вырезанными на ней и раскрашенными изображениями подвигов Геракла венчала Победа, которая держала в вытянутых руках позолоченные венки. По обе стороны от богини стояли двое живых золотоволосых мальчиков, одетых музами, с трубами в руках.
Лицом к легкому утреннему ветру в древнем каменном акрополе крепости Эгии стоял Филипп. Его голову венчал золотой лавровый венок, пурпурный плащ скрепляла золотая пряжка. Щебет птиц, резкие звуки настраиваемых инструментов, голоса зрителей и распорядителей церемонии доносились до него сквозь низкий рокот водопадов. Взгляд царя блуждал по равнине, простиравшейся на восток к Пелле и морю в утренней дымке. Его пастбище, покрытое сочной зеленью, лежало перед ним; рога соперников были сломаны. Широкие ноздри царя втягивали свежий родной воздух.
За ним, в алой тунике, перетянутой украшенным камнями поясом, стоял рядом с новобрачным сын Филиппа Александр. На его блестящих волосах, свежевымытых и расчесанных, лежал простой венок из летних цветов. Половина греческих городов прислала Филиппу, в знак почтения, венки из кованого золота, но Александр не получил ни одного.
По двору выстроились кругом царские телохранители, готовые следовать за Филиппом. Павсаний, их начальник, расхаживал вдоль рядов. Те, кто оказывался на его пути, начинали поспешно оправлять одежду и оружие, но вскоре, видя, что начальник не смотрит на них, успокаивались.
На северном валу стояла среди своих служанок новобрачная, только что поднявшаяся с супружеского ложа. Клеопатра не нашла на нем удовольствия, хотя готовилась и к худшему. Муж и дядя Александр вел себя с ней благопристойно, не особенно напился, щадил ее юность и девственность и не выглядел таким уж старым. Клеопатра больше не боялась его. Перегнувшись через грубый каменный парапет, она рассматривала длинную змею процессии, тянущуюся вдоль стен. Подле нее мать пристально глядела во двор, ее губы двигались, доносилось приглушенное бормотание. Клеопатра не пыталась разобрать слов. Она ощущала колдовство, как жар от невидимого огня. Но уже настало время ехать в театр, их носилки были готовы. Скоро Клеопатра будет на дороге в Эпир; все это утратит важность. Даже если Олимпиада явится туда, брат матери Александр сумеет ее обуздать. В конце концов, в этом что-то было: иметь мужа.
Музы дунули в трубы. Через арку Победы, под изумленные крики, двенадцать богов проследовали к своим алтарям. Каждую платформу тянула пара коней, покрытых красными и золотыми чепраками. Деревянные изображения были сделаны в полный рост богов, семь футов, и раскрашены афинским мастером, который работал для Апеллеса.
Сидящий на троне царь Зевс, со своим жезлом и орлом, представлял собой уменьшенную копию гиганта Зевса Олимпийского. Его трон был позолочен, одежда не гнулась от множества драгоценных камней и золотой канители. Аполлон носил наряд музыканта и держал в руке золотую лиру. Посейдон ехал на колеснице, запряженной морскими конями. Деметра сидела в короне из золотых колосьев, вокруг нее мисты держали факелы. Царицу Геру окружали ее павлины; насмешники замечали, что супруге Зевса отведено далеко не первое место. Дева Артемида, лук за плечами, держала за рога преклонившего колени оленя. Обнаженный Дионис оседлал пятнистого леопарда. Афина стояла со щитом и шлемом, но без аттической совы. Гефест поднимал свой молот. Арес, поставив ногу на поверженного врага, свирепо смотрел из-под увенчанного гребнем шлема. Гермес завязывал крылатую сандалию. Афродита, задрапированная в струящийся шелк, сидела среди цветов, маленький Эрот стоял рядом. Многие вполголоса замечали, что скульптор сделал богиню похожей на Эвридику. Та еще не оправилась от родов и не смогла присутствовать на празднестве.
Когда последний олимпиец прошествовал под торжественные звуки фанфар, появилась тринадцатая платформа.
Царь Филипп сидел на троне, по бокам которого вместо подлокотников лежали, подняв головы, леопарды; над ним возвышался орел. Ноги царя покоились на крылатом быке в персидской тиаре и с человеческим лицом. Мастер сровнял его угловатую фигуру, убрал шрамы; Филипп походил на себя десятилетней давности. В остальном изображение можно было счесть живым, казалось, черные глаза вот-вот задвигаются.
Раздались приветственные крики, но, как струя холодного течения в теплом море, их раскололи трещины зловещего молчания. «Его следовало сделать меньше», – шепнул какой-то старик-селянин своему соседу. Искоса поглядывая на цепочку покачивающихся впереди богов, люди осеняли себя быстрыми знаками от сглаза.
Последовали вожди Македонии, Александр Линкестид и остальные. Даже те, кто явился из самого дальнего захолустья, были одеты в плащи хорошей вычесанной шерсти, с вышивкой и золотой брошью. Старики, помнившие дни, когда одежду шили из козьих шкур и бронзовые булавки считались роскошью, щелкали языками: то ли недоверчиво, то ли удивленно.
Под низкий рокот дудок, наигрывающих дорический марш, прошли телохранители царя с Павсанием во главе. Одетые в парадные доспехи, они улыбались друзьям в толпе: день празднества не требовал обычной суровости. Но Павсаний смотрел прямо перед собой, на высокие ворота театра.
Раздался рев старинного рога и крики: «Да здравствует царь!»
Филипп ехал шагом на белой лошади, в своем пурпурном плаще и золотом венце. За ним, на некотором расстоянии, следовали его сын и зять.
Простой народ приветствовал новобрачного ритуальными фаллическими знаками, желая ему многочисленного потомства. Но ожидавшая у ворот группка молодежи грянула во всю мощь своих легких: «Александр!»
Улыбаясь, Александр, сын Филиппа, повернул к друзьям голову и посмотрел на них с любовью. Много лет спустя, став полководцами и сатрапами, они будут хвастаться этим перед молчаливыми завистниками.
Проследовал второй отряд телохранителей; процессию завершали жертвенные животные, по одному для каждого бога, во главе с быком, рога которого вызолотили, а шею обвили гирляндами цветов.
Солнце восстало со своего ложа, все засияло: море, трава в росе, прозрачная паутина на желтом ракитнике; драгоценности, позолота, холодная гладь полированной бронзы.
Боги вступили в театр. Проходя высокие ворота парода, повозки одна за другой огибали орхестру под рукоплескания гостей. Наконец великолепные изображения подняли и установили рядом со своими алтарями. Тринадцатое божество, не потребовавшее святилища, но владевшее всем вокруг, осталось стоять посередине.
Снаружи, на дороге, царь подал знак. Павсаний отрывисто выкрикнул команду. Шедшие впереди телохранители ловко развернулись и с двух сторон присоединились к своим товарищам позади царя.
До театра оставалось несколько стадиев. Вожди, оглядываясь на Филиппа, видели маневр охраны. На этом последнем отрезке пути царь, казалось, доверял свою жизнь идущим впереди. Польщенные, они расступились.
Широко шагая, Павсаний двинулся к пароду. Никто, кроме его собственных людей, которые сочли, что так и надо, не обратил на него внимания.
Филипп видел, что вожди ожидают его. Он подъехал ближе и, улыбаясь, кивнул им с лошади.
– Проходите вперед, друзья. Я еду следом.
Все двинулись; но один из старейших землевладельцев спешился и с македонской прямолинейностью спросил:
– Без охраны, царь? В такой толпе?
Филипп наклонился и похлопал его по плечу. Он надеялся услышать эти слова.
– Мой народ – моя охрана. Пусть чужестранцы увидят это. Благодарю за твою доброту, Арей, но можешь идти.
Когда вожди удалились, Филипп придержал лошадь, снова оказавшись между зятем и Александром. По обе стороны дороги дружелюбно гудела толпа. Впереди ждал театр, полный друзей. Широкий рот царя улыбался, он предвкушал близкую минуту публичного торжества. Избранный народом царь, которого эти южане осмеливаются называть тираном: пусть сами увидят, нужна ли ему стена копьеносцев, чтобы защитить себя. Пусть расскажут Демосфену, думал он.
Филипп натянул поводья и кивнул. Двое слуг подошли, чтобы принять лошадей.
– Теперь вы, дети мои.
Александр, наблюдавший, как вожди исчезают в воротах театра, резко обернулся:
– Разве мы не с тобой?
– Нет, – отрывисто сказал Филипп. – Тебе не говорили? Я поеду один.
Новобрачный смотрел в сторону, чтобы скрыть смущение. Не будут же они препираться о порядке следования прямо сейчас, на глазах у всех! Последние вожди скрылись из виду. Новобрачный не мог отъехать один.
Прямо сидя на покрытом красным чепраком Букефале, Александр взглянул на безлюдную дорогу, залитую солнцем, широкую, утоптанную, покрытую отпечатками копыт и колес, звеневшую пустотой. В конце ее, в треугольнике глубокой тени, отбрасываемой пародом, мерцало оружие, блестел алый плащ. Если Павсаний там, он должен был получить приказ?
Букефал прядал ушами, косил светлым, как оникс, глазом. Александр провел пальцем по его шее; конь застыл, как бронзовое изваяние. Новобрачный нервничал. Почему юноша не двигается? В иные минуты можно поверить в молву. Что-то такое в глазах. Тот день в Додоне: пронизывающий ветер, падает снег, на нем плащ из козьих шкур…
– Спускайся, – нетерпеливо сказал Филипп. – Твой шурин ждет тебя.
Александр снова взглянул в темный проем ворот. Он вдавил в бок Букефала колено, заставляя коня подойти ближе к царю, и с пристальным вниманием заглянул в лицо Филиппа.
– Еще слишком далеко, – сказал Александр спокойно. – Будет лучше, если я поеду с тобой.
Филипп поднял брови под золотым венком. Ему стало ясно, чего хотел мальчишка. «Значит, он еще не затвердил своего урока, но я не уступлю».
– Это мое дело. Мне судить, что лучше, – отрезал царь.
Глубоко посаженные серые глаза встретились со взглядом царя. Филипп чувствовал, что поддается. В любом случае, подумал он, возмутительно так глазеть на своего владыку.
– Еще слишком далеко, – повторил высокий ясный голос, настойчиво, ровно. – Позволь мне поехать с тобой, и я отдам за тебя свою жизнь… Клянусь Гераклом.
В рядах ближестоящих, которые осознали, что происходит нечто непредвиденное, поднялся смутный любопытный шепот. Филипп, хотя и начинал сердиться, позаботился о том, чтобы на его лице ничего не отразилось. Понизив голос, он резко сказал:
– Достаточно. Мы едем в театр не для того, чтобы разыгрывать там трагедию. Когда ты мне понадобишься, я тебя позову. Выполняй мои приказы.
Недоумение ушло из глаз Александра, они стали пустыми, как прозрачное серое стекло.
– Хорошо, государь.
Голос тоже был отсутствующим. Александр спешился. Его дядя с облегчением последовал за ним.
Павсаний отдал им честь, когда они проходили в ворота. Александр кивнул ему на ходу, продолжая разговаривать с царем Александром. Они поднялись по пандусу на сцену и под гул приветствий заняли свои места.
Филипп отпустил поводья. Послушный конь, не обращая внимания на шум, неторопливо двинулся вперед. Люди знали, что задумал царь, и, восхищаясь, приложили все усилия, чтобы он их услышал. Гнев Филиппа прошел; ему было о чем подумать. Если бы мальчик выбрал более подходящее время…
Царь ехал, принимая обожание своего народа. Эффектнее было бы дойти пешком, но хромота помешала бы величию момента. В просвете двадцатифутового парода уже виднелась орхестра, круг богов. Раздалась музыка в его честь.
От каменных ворот отделился солдат, чтобы помочь царю спешиться и принять лошадь. Это был Павсаний. В честь праздника он, должно быть, решил сам исполнить обязанность оруженосца. Как давно… Знак примирения. Наконец-то он забыл. Милый жест. В былые дни Павсаний получал подарок за подобную любезность.
Филипп тяжело соскользнул с лошади, улыбнулся и начал говорить. Левая рука Павсания плотно сжала его руку. Их глаза встретились. Павсаний выдернул правую руку из складок плаща столь быстро, что Филипп так и не увидел кинжала. Но он все прочел во взгляде Павсания.
Стража на дороге видела, что царь упал, и Павсаний нагнулся над ним. Должно быть, хромая нога подвернулась, думали они, Павсаний был неловок. Внезапно Павсаний распрямился и бросился бежать.
Он был телохранителем восемь лет, и в течение пяти из них командовал остальными. Первым завопил: «Он убил царя!» – крестьянин в толпе. И, словно лишь этот крик заставил их поверить своим глазам, солдаты, что-то смятенно крича, бросились к театру.
Добежавший первым посмотрел на тело, дико оглянулся, завопив: «За ним!» Поток людей хлынул за угол, огибая строения за сценой. Конь царя смирно стоял у парода. Никто так и не осмелился на него сесть.
Поляна за театром, посвященная Дионису, была возделана его жрецами и засажена виноградом. Толстые черные стволы выпустили побеги молодых лоз с сияющими зелеными листьями. На земле блестел шлем Павсания, который тот отшвырнул на бегу; красный плащ накрыл деревянные подпорки. Спотыкаясь о комья земли, Павсаний бежал к открытым в старой каменной стене воротам. За ними ждал человек с двумя лошадьми.
Павсанию еще не было тридцати, он отлично бегал. Но за ним гнались двадцатилетние юноши, которых Александр обучал войне в горах; они оказались проворнее. Трое или четверо кинулись наперерез. Разрыв начинал сокращаться.
Но и ворота были недалеко. Разрыв сокращался слишком медленно. Лошади ждали на открытой дороге.
Внезапно, словно сраженный невидимым копьем, Павсаний кувырком полетел на землю, зацепившись за выходящий на поверхность узловатый корень. Он упал ничком, сразу же поднялся на четвереньки, высвобождая ногу, но на него уже налетели.
Павсаний перевернулся, вглядываясь в лица, ища. Бесполезно. С самого начала он был готов и к такому исходу. Павсаний смыл пятно со своей чести. Он ухватился за меч, но кто-то наступил ему на руку, еще кто-то рванул на нем доспехи. «У меня не было времени до конца насладиться гордостью, – думал он, когда железо пронзило его. – Совсем не было времени».
Человек с лошадьми, оглянувшись, бросил вторую, уже ненужную лошадь, вскочил в седло и галопом понесся прочь. Но всеобщее оцепенение прошло. Копыта стучали по дороге за виноградником. Всадники пронеслись через ворота вслед беглецу, зная цену добычи.
В винограднике вырвавшихся вперед преследователей наконец догнали остальные. Старший в охране взглянул на распростертое тело; кровь, словно в каком-то древнем жертвоприношении, напитала землю у корней виноградной лозы.
– Вы его прикончили. Юные дураки. Теперь его ни о чем не спросишь.
– Я не подумал об этом, – сказал Леоннат, приходя в себя от дурмана кровавой погони. – Я боялся, что он сумеет вырваться.
– Я думал только о том, – добавил Пердикка, – что он сделал. – Он вытер свой меч об одежду мертвого.
Когда они уходили прочь, Арат сказал:
– Так даже лучше. Вы знаете эту историю. Если бы Павсаний заговорил, он навлек бы позор на царя.
– Какого царя? – сказал Леоннат. – Царь мертв.
Место Гефестиона было в середине рядов, ближе к лестнице.
Друзья Александра, ожидавшие его, чтобы снова приветствовать, обежали театр и вошли через верхние ворота. Здесь находились места простонародья, но товарищи наследника на сегодняшнем празднике считались мелкой сошкой. Гефестион пропустил великий выход богов. Его отец сидел много ниже, мать должна была находиться среди женщин, в дальнем краю амфитеатра. Обе царицы уже были там, в первых рядах. Гефестион мог видеть Клеопатру, разглядывавшую алтари, как все остальные девушки; Олимпиада, казалось, считала это ниже своего достоинства. Застывшим взглядом она смотрела прямо перед собой, на парод в противоположной стене.
Гефестиону он виден не был, зато юноша мог подробно рассмотреть сцену и три трона на ней. Зрелище открывалось великолепное; у задника и кулис вздымались колонны с резными капителями, удерживающие расшитые занавеси, из-за которых лилась музыка. Из орхестры музыкантов оттеснило множество богов.
Гефестион ждал Александра, чтобы еще раз прокричать его имя. Если они не пожалеют глоток, клич подхватит весь театр. Это ободрит друга.
Вот он вышел, с царем Эпира. Приветственный вопль разнесся по театру. Не важно, что имена звучат одинаково: Александр все поймет.
Он понял и улыбнулся. Да, ему стало лучше. Театр был небольшим: когда Александр выходил, Гефестион понял, что он не в себе. «Один из его снов, дурной сон; хорошо бы проснуться. Чего ожидать сегодня? Я увижусь с ним после, если смогу сделать это перед играми. Все будет проще, стоит только пересечь Геллеспонт».
Внизу, в орхестре, статуя царя Филиппа восседала на своем позолоченном троне, увитом по основанию лавром. Точно такой же трон ожидал на сцене. Музыка зазвучала громче, перекрывая шум на дороге.
Торжествующе загремели фанфары. Потом, нечаянным намеком, повисла пауза. Внезапно из рядов женщин, откуда был виден парод, донесся пронзительный крик.
Александр повернул голову. Его лицо, с которого сразу ушла напряженность, изменилось. Он прыжком сорвался с трона и бросился вниз, где мог видеть происходящее за кулисами. Александр сбежал по пандусу через орхестру, мимо жрецов, богов и алтарей, навстречу крикам снаружи. Венок упал с его развевающихся волос.
Пока собравшиеся суетились и тревожно галдели, Гефестион спрыгнул со ступенек на ведущую к пароду галерею и помчался по ней. Друзья, не раздумывая, понеслись за ним: они были приучены не тратить впустую время. Юноши на галерее, стремительные и целенаправленные, сами по себе являлись спектаклем: там, где они пробегали, паника прекращалась. В конце галереи к пароду спускалась лестница. Здесь уже царила давка, толпились ошеломленные чужестранцы из нижних рядов. Жестко, словно в бою, Гефестион устремился в толпу, раздвигая зевак локтями, отпихивая плечом, награждая тумаками. Какой-то толстяк упал, увлекая за собой остальных; лестница была переполнена; в рядах люди беспорядочно сновали вверх и вниз. В самом центре хаоса, забытые своими гиерофантами, деревянные боги в кругу устремляли глаза на деревянного царя.
Как и они, неподвижная, не обращая внимания на дочь, вцепившуюся в ее руку и что-то кричащую, Олимпиада сидела, выпрямившись, на резном троне, не отводя глаз от парода.
Гефестион люто ненавидел всех, мешавших ему на дороге. Не помня себя, оставив всех товарищей позади, он прокладывал свой путь к царю.
Филипп лежал на спине, между ребрами торчала рукоять кинжала – кельтской работы, со сложным переплетающимся узором серебряной инкрустации. Его белый хитон был почти незапятнан: лезвие запечатало рану. Александр склонился над ним, слушая сердце. Слепой глаз царя был полузакрыт, здоровый смотрел вверх, в обращенные на него глаза живых. На лице Филиппа застыло потрясение и изумленная горечь.
Александр дотронулся до века открытого глаза. Оно вяло подалось под его пальцами.
– Отец, – прошептал Александр. – Отец, отец.
Александр положил руку на холодный лоб. Золотой венец соскользнул на плиты. Через мгновение лицо Филиппа застыло, словно высеченное из мрамора.
Тело вздрогнуло. Рот приоткрылся, словно царь хотел заговорить. Александр подался вперед, взял голову отца в руки и низко нагнулся над ней. Но слова так и не прозвучали – только отрыжка, с маленьким сгустком крови, вызванная спазмом легких или желудка.
Александр отстранился. Внезапно его лицо изменилось. Он выпрямился. Резко, словно отдавая приказ на поле боя, он сказал:
– Царь мертв.
Потом встал на ноги и оглянулся.
– Они догнали его, Александр! – крикнул кто-то. – Они его повалили.
Широкий проход заполонили вожди, не вооруженные по случаю праздника, они второпях пытались выстроить защитную стену.
– Александр, мы здесь.
Это был Александр Линкестид, выдвинувшийся вперед. Он уже сыскал себе панцирь. Доспехи хорошо подошли; они были его собственными.
Александр все так же молча дернул головой в сторону говорившего, резко, как охотничий пес.
– Позволь нам сопроводить тебя к крепости; откуда нам знать, кто предатель? – предложил Линкестид.
«Да, кто? – думал Гефестион. – Этому человеку что-то известно. Для чего он приготовил оружие?» Александр оглядывал толпу: ищет остальных братьев-Линкестидов, понял Гефестион. Он привык читать мысли Александра.
– Что такое? – раздался в толпе голос Антипатра.
Народ расступился. Антипатр проложил себе путь в беспорядочном кружении гостей, македонцы дали ему дорогу сами. В течение долгих лет он назначался единственным наместником Македонии; за ним стояла царская армия. Высокий, с венком на голове, одетый с умеренной пышностью, облеченный своим авторитетом, Антипатр оглядывался вокруг.
– Где царь? – спросил старик.
– Здесь, – ответил Александр.
Он выдержал взгляд Антипатра и отступил в сторону, открывая тело.
Антипатр наклонился и выпрямился.
– Он мертв, – сказал старик недоверчиво. – Мертв. – Антипатр провел рукой по лбу, дотронулся до пиршественного венка и, потрясенно вздрогнув, швырнул его на землю. – Кто?
– Павсаний его убил, – сказали в толпе.
– Павсаний? После стольких лет?
Антипатр осекся, смущенный тем, что сказал.
– Его взяли живым? – быстро, слишком быстро спросил Александр Линкестид.
Александр помедлил с ответом, всматриваясь в его лицо.
– Я хочу, чтобы ворота города закрыли и на стенах выставили дозорных. Никто не уедет, пока я не распоряжусь. – Александр изучающе оглядел толпу. – Алкета, твой отряд. Приведи воинов в готовность.
«Птенец проклюнулся, – подумал Антипатр, – я был прав».
– Александр, здесь ты в опасности. Не лучше ли подняться в крепость? – спросил он.
– Всему свое время, – сказал Александр. – Что там происходит?
Снаружи второй начальник стражи пытался навести порядок при помощи тех младших военачальников, которых сумел найти. Но воины совсем потеряли голову и слушали своих товарищей, истерически кричащих, что все они будут казнены за соучастие. С проклятиями вояки набросились на юношей, убивших Павсания. Их обвиняли в том, что они хотели заткнуть убийце рот. Военачальники тщетно старались перекричать галдящих.
Александр вышел из глубокой синей тени парода в сияющий холодный свет раннего утра. Солнце едва ли поднялось выше с той минуты, как он появился в театре. Прыжком взлетел он на низкую стену у ворот. Шум стих.
– Александр! – резко выкрикнул Антипатр. – Осторожнее! Не показывайся!
– Стража, направо – фалангой! – приказал Александр.
Суетливая толпа притихла, как испуганная лошадь, успокоенная наездником.
– Я чту ваше горе. Но не уподобляйтесь в нем женщинам. Вы выполнили свой долг; я знаю, какие приказы вы получили. Я сам их слышал. Мелеагр, эскорт для тела царя. Отнесите его в крепость. – Видя, что люди оглядываются в поисках материала для носилок, Александр добавил: – За сценой есть дроги с реквизитом для трагедии.
Он склонился над телом и, расправив складку пурпурного плаща, прикрыл лицо и укоряющий глаз Филиппа. Солдаты сгрудились вокруг трупа.
Встав перед молчащими рядами стражи, Александр сказал:
– Те, кто прикончил убийцу, шаг вперед.
Юноши неуверенно вышли, колеблясь между гордостью и страхом.
– Мы в долгу перед вами. Не бойтесь, что это будет забыто. Пердикка…
Юноша шагнул вперед, его лицо просветлело.
– Я оставил Букефала на дороге. Ты не присмотришь за ним? Возьми с собой четверых.
– Да, Александр. – Признательный Пердикка молниеносно исчез.
Повисло молчание. Антипатр насупился.
– Александр, царица, твоя мать, в театре. Не лучше ли дать ей охрану? – спросил он.
Александр отошел от старика вглубь парода. Антипатр стоял совершенно неподвижно. У входа царила суматоха; солдаты нашли дроги, украшенные росписью и задрапированные черным. Они подтащили их к Филиппу и подняли на них его тело. Плащ упал с лица царя. Кто-то опустил ему веки и придержал, чтобы они не открывались.
Александр, застыв, смотрел на театр. Толпа схлынула, рассудив, что болтаться здесь не стоит. Боги остались. В суете опрокинули статую Афродиты, и она неуклюже легла рядом со своим постаментом. Лишенный опоры юный Эрот склонился на ее упавший трон. Статуя царя Филиппа прочно сидела на своем месте, нарисованные глаза пристально смотрели на опустевший амфитеатр.
Александр повернулся. Его лицо потемнело, но голос прозвучал ровно.
– Да, я вижу, царица все еще там.
– Она, должно быть, горюет, – сказал Антипатр без всякого выражения.
Александр задумчиво взглянул на старика. Потом, словно что-то внезапно привлекло его внимание, посмотрел в сторону.
– Ты прав, Антипатр. Царице следует быть в надежных руках. И я буду благодарен тебе, если ты лично сопроводишь ее в крепость. Возьми столько человек, сколько сочтешь нужным.
Рот Антипатра открылся. Александр ждал, слегка склонив голову, его глаза застыли.
– Если тебе угодно, Александр, – сказал Антипатр и отправился выполнять поручение.
Настало минутное затишье. Гефестион чуть выдвинулся из толпы, молча, всего лишь предлагая свое участие, как повелевал ему бог. Александр не отозвался на призыв, но все же Гефестион чувствовал, что бог ему благодарен. Собственная будущность открылась перед Гефестионом: уходящие вдаль образы солнца и дыма. Он не должен оглядываться, где бы видение ни захватило его; его сердце приняло свою судьбу, все ее бремя, свет и тьму.
Глава эскорта отдал приказ. Царь Филипп, покачиваясь на своем позолоченном ложе, исчез из виду. Из священного виноградника несколько солдат принесли на куске плетня Павсания, прикрытого разодранным плащом; кровь капала сквозь раскрашенные прутья. Тело следовало показать народу.
– Приготовьте крест, – приказал Александр.
Шум стих до беспокойного бормотания и смешался с гулом водопадов Эгии. Вознося над ними свой могущественный неземной крик, в небо взмыл золотой орел. В его когтях извивалась змея, схваченная им на скалах. Люди подняли головы, тщетно ожидая, что змея извернется и нанесет смертельный укус. Александр, уловив шум, настойчиво следил за орлом, ожидая исхода схватки. Но, продолжая бороться, двое вечных противников растворились в безоблачном небе, над вершинами гор, сначала превратившись в пятнышко, потом – совсем исчезнув.
– Здесь все кончено, – сказал Александр, отдавая приказ возвращаться.
Когда они достигли крепостного вала, с которого видна была равнина Пеллы, молодое солнце нового летнего дня, поднявшееся из-за моря на востоке, широко разлило над ними свое сияние.
Персидский мальчик
Если мы вправе оценивать кого-либо по меркам его эпохи, то это в первую очередь Александр.
Герман Бенгстон. Греки и персы
Глава 1
Чтобы люди не подумали, будто я – раб без роду и племени, проданный отцом-крестьянином с торгов в засушливый год, скажу сразу: корни нашей семьи уходят в далекое и славное прошлое. Отцом моим был Артембар, сын Аракса, и в жилах моих предков, издавна живших в Пасаргадах, текла древняя царская кровь – кровь великого Кира[73]. Трое моих сородичей сражались за него, помогая царю возвысить персов над мидянами. Наше поместье в холмах к востоку от Суз[74] принадлежало восьми поколениям моих предков, и мне было лишь десять лет, когда не по своей воле я покинул его, но уже тогда я начинал постигать воинское искусство нашего рода, который, увы, на мне обрывается.
Крепостной холм, истертый непогодой до складывавших его камней, был ровесником нашей семьи. Сторожевую башню древние строители врезали прямо в утес. Оттуда мы с отцом любовались, бывало, рекой, стремительно бегущей по зеленым равнинам к Сузам, городу лилий. Он указывал мне на сияющий дворец, окруженный широкой террасой, и обещал представить самому царю, как только мне исполнится шестнадцать.
То было во дни царя Оха. Мы благополучно пережили его правление, хоть и был он великим убийцей. Смерть же настигла моего отца оттого, что он остался верен юному сыну царя, Арсу, в борьбе его с визирем Багоасом.
Я был тогда мал, а посему мог бы и не помнить той давней истории, если бы визирь не носил мое собственное имя. В Персии такое не редкость, но, будучи единственным и любимым сыном, я вострил уши всякий раз, когда с удивлением слышал, как мое имя произносят с шипением ненависти.
Владельцы окрестных поместий и придворные владыки, которых мы, как правило, видели не чаще пары раз в году, время от времени проезжали горными дорогами. Наше укрепленное поселение лежало в стороне от их пути, но было удобным местом для встреч. Я любил глядеть на этих великолепных людей, восседавших на высоких конях, и предвкушать грядущие события – опасности я не чуял, ибо никто из них не внушал мне страха. Порой они приносили жертвы у алтаря Огня; приезжал к нам и маг – жилистый старец, любивший карабкаться по окрестным скалам, подобно следующему за козами пастуху, убивая змей и скорпионов. Мне нравилось смотреть на языки пламени, на их отражения в полированных эфесах мечей, в золотых бляхах и богато украшенных шлемах. И думалось мне, так всегда и будет, пока я не присоединюсь к этим могучим воинам уже в качестве мужчины.
Вознеся молитву, они вместе выпивали священный напиток, после чего заводили разговоры о воинской чести.
В этом вопросе я был сведущ. Едва я достиг пятилетнего возраста, меня забрали от воспитывавших меня женщин, дабы обучить верховой езде, метанию из пращи и ненависти ко лжи. Дух многомудрого бога[75] питал светлый огонь. Во мраке лжи таилось безверие.
Недавно умер царь Ох. Мало кто скорбел бы о нем, угасни царь от болезни, но поговаривали, что причина смерти царя – не болезнь, а снадобье. Багоас был высшим властителем государства, уже многие годы правившим наравне с самим царем, а молодой Арс лишь недавно женился, достигнув совершеннолетия. Ох же, имея выросшего сына и многочисленных внуков, начал понемногу урезать власть Багоаса. И умер, когда скорое падение визиря стало казаться очевидным и неминуемым.
«Стало быть, теперь, – рассуждал один из отцовских гостей, – вероломство освободило трон, хотя бы и для полноправного наследника. Сам я не виню Арса; сказывают, его честь осталась незапятнанной… Но царский сын еще юн, власть Багоаса возросла вдвое, и отныне старик в любое время может присвоить митру. Ни один евнух не возносился еще столь высоко».
«Не часто, но случается, – ответил отец, – их охватывает подобная жажда власти. Оттого лишь, что у них не может быть сыновей».
Он поднял меня, сидевшего рядом, на руки. Кто-то пробормотал благое пожелание.
Гость наивысшего ранга, имевший земли у самого Персеполя, но последовавший за царским двором в Сузы, сказал на то:
«Все мы согласны, что Багоас не должен править страной. Имея терпение, мы увидим, как с ним уживется Арс. Пускай он молод; мне кажется, дни визиря уже сочтены».
Не ведаю, как поступил бы Арс, если бы оба его брата не были отравлены. Именно тогда он покинул дворец, дабы сплотить преданных друзей.
Три принца уже достигли совершеннолетия, но все трое по-прежнему оставались близки. Достигнув престола, цари часто отворачиваются от родственников; Арс был не таков. Визирь с подозрением относился к их дружеским беседам, и оба младших брата, один за другим, погибли от мучительных желудочных колик.
Вскоре после этого к нашему поместью прибыл гонец с царской печатью на доставленном свитке. Я был первым, кого встретил отец после отъезда посланника.
«Сын мой, – сказал он, – вскоре мне придется покинуть вас; царь созывает верных товарищей. Настанет время – помни об этом, сын, – когда каждому придется встать на сторону света в битве с ложью. – Его тяжелая рука легла мне на плечо. – Тебе непросто будет делить одно имя с исчадием зла. Но это едва ли надолго, бог милостив. Чудовище в человеческом облике не сможет унести имя с собой, и тебе придется заново отстоять его честь. Тебе – и сынам твоих сынов».
Он поднял меня и расцеловал.
Отец распорядился укрепить поместье. Один из склонов холма, на котором оно стояло, был чересчур покат, но стены подняли на несколько рядов и устроили в них удобные для лучников щели.
За день до предполагаемого отъезда к воротам поместья подскакал отряд воинов. Их письмо также было отягощено царской печатью. Мы не догадывались, что послание прибыло из рук мертвеца: Арс разделил участь своих братьев, его малолетние сыновья были задушены. Мужская линия рода Оха прервалась… Взглянув на печать, отец повелел открыть ворота. Всадники въехали на двор.
Увидев все это, я беспечно вернулся в аллеи фруктового сада под стенами башни, к своим детским играм. Потом послышался крик, и я выбежал посмотреть. Пятеро или шестеро воинов выволокли из дверей человека с чудовищной раной в центре лица; кровь стекала ему в рот, струилась по бороде. С него сорвали богатое одеяние – и по плечам мужчины также текла кровь, ибо ушей у него не было. Узнать его я сумел лишь по обуви: то были сандалии моего отца.
Даже сейчас я порой со стыдом вспоминаю, что окаменел тогда от ужаса и молча наблюдал за его смертью, не испустив даже крика. Наверное, отец понял мое состояние, ибо, когда его тащили мимо, он успел прокричать:
«Орксинс предал нас! Орксинс! Запомни имя! Орксинс!»
Открытый окровавленный рот и вопль исказили черты, сделав лицо еще страшнее. Не знаю, слышал ли я эти слова, – я только и мог, что стоять там, подобно каменному столбу, когда воины поставили моего отца на колени и, ухвативши за волосы, потянули вперед. Им пришлось пять или шесть раз ударить мечом, чтобы разрубить шею. Пренебрегшие милосердием в своем рвении, эти люди могли отрезать уши и нос уже после того, как отсекли бы голову; визирь не усмотрел бы разницы.
Занявшись отцом, они позабыли о моей матери. Должно быть, она сразу взбежала на башню; в минуту его смерти мать бросилась вниз, так что солдаты упустили возможность надругаться над ней. Падая, она кричала, – оттого лишь, мне кажется, что слишком поздно увидела меня у подножия стены. Мать рухнула на камни двора на расстоянии древка копья от меня, и череп ее раскололся на моих глазах. Верю, дух отца успел увидеть, как бесстрашно она последовала за ним.
У меня были две сестры – двенадцати и тринадцати лет. Была и еще одна, девятилетняя, – от второй жены отца, которую унесла лихорадка. Я слышал их истошные крики. Оставили ли их умирать после того, как солдаты натешились добычей, убили их или захватили живыми, того я не знаю.
Наконец предводитель отряда обратил свой взор на меня, сильной рукой поднял в седло, и мы поскакали прочь. Возле моей ноги болталась окровавленная сума с головой отца. Оставшаяся у меня крохотная часть рассудка озадаченно вопрошала, отчего воин сжалился надо мною. Ответ был дан мне той же ночью.
Нуждаясь в деньгах, мой мнимый спаситель не оставил меня себе. На базарной площади Суз, города лилий, я стоял раздетый донага, пока покупатели распивали из маленьких чашечек финиковое вино, шумно торгуясь. Греческие мальчики воспитываются вне стыда, они привычны к обнаженному телу; у нас же более строгие понятия о благопристойности. В своем неведении я думал, что пасть ниже уже невозможно.
Всего только месяц назад мать выбранила меня за то, что я заглянул в ее зеркало. Она сказала, я слишком юн для тщеславия, я же только мельком взглянул на свое лицо – и мало что успел заметить. Мой новый хозяин, однако, не скупился на похвалы:
«Настоящая порода, только взгляните. Наследник исконных персов, с грацией косули. Посмотрите на эти тонкие кости, на его профиль – повернись, мальчик, – власы, сиянием подобные бронзе, прямые и мягкие, словно шелк из страны Цинь[76], – подойди же, мальчик, дай им потрогать. Брови, выписанные тонкой кистью. Эти большие глаза, словно раскрашенные бистром, – о, это озера любви! Эти нежные руки не продаются задешево, чтобы скоблить потом полы… Только не говорите, что вам предлагали подобный товар в пять прошедших лет или даже десять».
Как только он делал паузу, чтобы перевести дух, купец замечал в ответ, что не намерен тратиться себе в ущерб. Наконец он назвал свою последнюю цену, и воин возопил, что такая ничтожная сумма – чистый грабеж. Покупатель же возразил, что нельзя упускать из виду известный риск: «Мы теряем одного из пяти, когда оскопляем их».
«Оскопляем их», – подумал я, в то время как ладонь страха закрыла вежды понимания. Дома я наблюдал за тем, как холостили быка… Я не вздрогнул, не открыл рта, мне не о чем было просить этих людей. Как я убедился на собственном горьком опыте, в сем мире не осталось места для жалости.
Стенами своего двора – по пятнадцати футов высотой – дом купца напоминал царскую тюрьму. Рабов кастрировали у одной из них, под навесом. Меня опоили слабительным и не кормили; считалось, что так я легче перенесу оскопление. Затем меня втолкнули в холод и пустоту, дав сперва рассмотреть низкий столик с разложенными на нем ножами и специальную раму с торчащими в разные стороны палками, к которым привязывались ноги мальчиков. На раме я увидел зловещие темные потеки и грязные кожаные ремни… Только тогда я бросился к сандалиям торговца и вцепился в них с отчаянным плачем, умоляя о пощаде. Жалости в этих людях было не больше, чем в крестьянах, собирающихся холостить бычка. Они не сказали ни слова утешения; привязывая меня ремнями, они обсуждали какие-то базарные слухи, а затем приступили к делу, и я не слышал уже ничего, только боль и собственные крики.
Говорят, женщины забывают о муках деторождения. Что ж, их направляют руки самой природы. Но ничья рука не сжала мою, дабы облегчить боль – сплошную боль меж почерневшим небом и землей. Ее я буду помнить до самой смерти.
Там была старая рабыня, кутавшая мои сильно гноившиеся раны. Работала она умело и быстро, чистыми руками, ибо мальчики считались достоянием хозяина и, как она призналась однажды, ее прогнали бы, потеряй она хоть одного. Рабыня сказала, что со мной все в порядке, «чистая работа», и позже добавила, глупо хихикая, что я смогу неплохо зарабатывать. Слов этих я тогда не понял; знал только, что она смеялась, пока я корчился от муки.
Как только я поправился, меня продали с торгов. Снова я стоял обнаженный, на сей раз на виду у глазевшей толпы. С помоста виднелся яркий краешек дворцовых стен, где, как обещал мне отец, я должен был в свое время предстать пред царскими очами.
Купил меня торговец драгоценными каменьями; хоть и не сам он, а жена его выбрала меня, указав красным кончиком пальца из-за опущенных занавесей носилок. Мой хозяин медлил, упрашивая дать новую цену: предложение разочаровало его. От боли и тоски я исхудал, сбросив, вне сомнения, вместе с весом большую часть своей красоты. Перед торгами меня буквально набивали едой, но мое тело неизменно извергало ее обратно, словно бы презрев саму жизнь. Тогда меня решили поскорей сбыть с рук, а жене ювелира хотелось иметь при себе хорошенького пажа, дабы возвыситься над наложницами, и для этой цели я был достаточно пригож. Еще у нее была обезьянка с зеленоватым мехом.
Я очень привязался к этому животному; моей обязанностью было кормить его. Когда я входил, обезьянка бросалась ко мне в объятия, норовя крепко вцепиться в мою шею крошечными черными ручонками. Впрочем, вскоре зверек прискучил госпоже и его продали.
Я все еще был слишком мал и привычно жил сегодняшним днем. Но когда продали обезьянку, я с трепетом заглянул в будущее. Мне никогда уже не бывать свободным человеком, меня так и будут всю жизнь продавать и покупать, как эту обезьянку, и еще – я никогда не стану мужчиной. Ночами эти мысли не давали мне уснуть. А утром казалось, что, лишившись мужского естества, я в одночасье состарился. Госпожа заметила, что я чахну, и повелела кормить меня так, что вскоре начались рези в животе. Но она вовсе не была жестока со мной и никогда не била, не считая тех случаев, когда я нечаянно ломал что-то ценное.
Пока я лежал, приходя в себя, у торговца, на престол воссел новый царь. Прямая линия Оха пресеклась, так что отныне в царских жилах текла разбавленная кровь каких-то боковых ветвей. Так или иначе, люди хорошо отзывались о государе. Датис, мой хозяин, не приносил новости в гарем, полагая единственной заботой женщин доставлять удовольствие мужчинам, а евнухов – приглядывать за ними. Глава евнухов, однако, с увлечением пересказывал нам все базарные сплетни; почему бы и нет? Это все, что у него было.




