Небесное пламя. Персидский мальчик. Погребальные игры (сборник) Рено Мэри
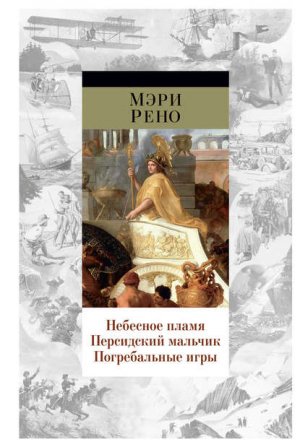
– Мой господин, только для вас… Я назначу особую цену.
– Я занят.
Филоник поджал толстые губы. Конюх, изо всех сил уцепившись за утыканные шипами удила, потащил коня прочь.
Александр не выдержал.
– Какая потеря! – крикнул он своим высоким срывающимся голосом. – Лучшая на этих торгах лошадь!
Гнев и безысходность исторгли этот дерзкий выкрик. Все повернулись на голос. Филипп изумленно оглянулся. Никогда прежде мальчик не позволял себе проявлять грубость на людях. С этим можно разобраться позднее. Конюх уводил грозного коня.
– Лучшая лошадь из всех, каких когда-либо здесь выставляли! Надо только знать, как с ней обращаться. – Александр выбежал на поле. Все его друзья, даже Птолемей, не посмели последовать за ним; он зашел слишком далеко. Толпа обратилась в зрение и слух. – На лошадь, одну из десяти тысяч, нет покупателя!
Филипп, оглядев сына, пришел к выводу, что наглость мальчика была ненамеренной. Просто сын стал слишком самоуверен, особенно после своих хваленых подвигов. Они вскружили парню голову. Никакой урок не принесет и половины пользы, чем тот, который человек дает себе сам.
– Язон занимается выездкой лошадей уже двадцать лет, – сказал Филипп. – А сколько возишься с лошадьми ты, Филоник?
Глаза барышника перебегали с отца на сына; он оказался в щекотливом положении.
– Ах, государь, я вырос при лошадях.
– Ты слышишь, Александр? Ты полагаешь, что справишься лучше этих людей?
Александр смотрел на Филоника. Смущенный этим пристальным холодным взглядом, барышник отвернулся, испытывая беспокойство.
– Да. С этой лошадью – да, – холодно сказал Александр.
– Отлично, – кивнул Филипп. – Если тебе это удастся, она твоя.
Мальчик смотрел на коня влюбленными глазами, чуть приоткрыв рот. Конюх остановился. Конь фыркнул через его плечо.
– А если не получится? – резко бросил царь. – Каков залог?
Александр глубоко вздохнул, не отрывая глаз от лошади:
– Если даже я не смогу на нем ездить, то все равно заплачу за него.
Филипп поднял свои густые темные брови:
– Три таланта?
Александру только что назначили содержание, полагающееся юноше. На покупку коня ушла бы вся сумма, причитающаяся за год, а может, и за два.
– Да, – подтвердил Александр.
– Надеюсь, ты понимаешь, на что идешь. Я не шучу.
– Я тоже.
На секунду оторвав взгляд от коня, Александр наконец понял, что на него все смотрят: солдаты, вожди, конюхи, барышники, Птолемей, Филот, Гарпал, мальчики, с которыми он провел утро. Самый высокий из них, Гефестион, привлекавший внимание изяществом движений, выступил на шаг вперед. Их взгляды встретились.
Александр улыбнулся:
– Тогда по рукам, отец. Он мой! Проигравший платит.
Царская свита с облегчением засмеялась; послышались рукоплескания. Скандал обернулся забавной шуткой. Но Филипп хорошо разглядел лицо сына. Он понимал, что так улыбаются заклятому врагу, когда весь остальной мир уже не имеет значения.
Филоник с трудом верил в столь счастливый поворот судьбы. Он поспешил догнать Александра, направившегося прямо к коню. Выиграть заклад мальчик не мог, оставалось позаботиться, чтобы парень не сломал себе шею. Вряд ли царь расплатится с ним в этом случае.
– Мой господин, ты увидишь, что… – начал барышник.
Александр обернулся:
– Прочь!
– Но, мой господин, когда ты…
– Убирайся. Туда, в подветренную сторону, чтобы он не мог увидеть тебя или почуять. Ты и так уже сделал достаточно.
Филоник глянул в его широко распахнутые, затянутые дымкой глаза и поспешил выполнить приказание.
Александру пришло на ум, что он не узнал настоящее имя лошади. Может, Громом его прозвал сам Филоник. Это имя насилия и страданий. И значит, нужно новое.
Не забывая следить, чтобы его тень не пугала лошадь, Александр подошел совсем близко, глядя на белое рогатое пятно коня под длинной, развевающейся челкой.
– Бычья голова, – сказал он, переходя на македонский, язык правды и любви. – Букефал, Букефал.
Конь насторожил уши. При звуке этого юного голоса ненавистное настоящее поблекло и рассеялось, подобно туману. Но Букефал утратил всякое доверие к людям. Он фыркнул и предостерегающе ударил копытом.
– Царь пожалеет, что вынудил сына пойти на это, – заметил Птолемей.
– Александру всегда везет, – возразил Филот. – Хочешь, побьемся об заклад?
– Я справлюсь сам, – сказал Александр конюху. – Тебе здесь нечего делать.
– О нет, господин! Только когда вы сядете. Господин, я в ответе за…
– Теперь он мой. Просто передай мне поводья. Не дергай за удила. Я сказал, дай мне. Немедленно.
Александр взял поводья, чуть-чуть ослабив их для начала. Конь опять фыркнул, потом повернул голову и шумно принюхался. Переднее копыто нетерпеливо заскребло землю. Держа поводья в одной руке, ладонью другой мальчик провел вверх по влажной шее животного и ловко ослабил зажим удил, так что они вообще перестали давить коню на губы. Букефал только переступил с ноги на ногу.
– Отойди, – сказал Александр конюху. – Не выходи на свет.
Мальчик развернул коня в сторону сияющего весеннего солнца. Их тени упали, невидимые, за спиной. Запах конского пота, шкуры, дыхания накрыл мальчика горячим потоком.
– Букефал, – сказал Александр нежно.
Конь подался вперед, увлекая мальчика за собой. Александр придержал поводья, провел рукой по морде коня, сгоняя присосавшуюся муху. Пальцы мальчика коснулись мягких губ лошади. Теперь конь тянул его почти умоляюще, словно говоря: «Скорее, прочь отсюда».
– Да, да, – сказал Александр, похлопывая его по шее. – Всему свое время. Подожди, пока я скажу. Ты ведь не понесешь?
Александру надо было снять плащ. Вынимая одной рукой булавку, он продолжал говорить, не давая коню отвлечься.
– Запомни, кто мы такие. Александр и Букефал.
Плащ упал на землю, рука Александра скользнула с шеи коня на спину. Букефал был примерно в четырнадцать ладоней ростом: высокий для греческих лошадей. С ним мог сравниться разве что конь Филота, бывший неисчерпаемой темой для разговоров. Рост прежней лошади Александра не достигал и тринадцати ладоней.
Черный глаз коня подозрительно покосился на мальчика.
– Тише, тише. Я скажу когда.
Чувствуя, как лошадь мгновенно подобралась, Александр левой рукой, на которую были намотаны поводья, ухватился за свисающую прядь гривы, правой – за ее основание на холке коня. Пробежав вместе с Букефалом несколько шагов, он прыгнул, перебросил ногу – и вот уже был наверху.
Конь ощутил легкого, уверенного седока на своей спине; мягкие движения невидимых рук, сдержанную, но уверенную силу; нечто равное природе божественного. Он тонко почувствовал это, потому что сам принадлежал к сверхсуществам. Смертные не справились с конем, но он подчинился богу.
Толпа смолкла. Здесь были подлинные знатоки лошадей, люди, которым здравый смысл не позволил бы даже приблизиться к этому бешеному. Затаив дыхание, все ожидали, когда конь покажет свой норов. Если он понесет, останется только молить богов, чтобы мальчик не упал под копыта и сумел продержаться. Тогда рано или поздно зверь выдохнется. Но к всеобщему изумлению, конь повиновался мальчику, он ждал знака. По толпе пронесся гул изумления. Все видели, как мальчик наклонился вперед и с криком ударил пятками в бока лошади, пустив ее рысью к пойменным лугам. Гул перерос в восторженный рев. Вскоре всадник исчез вдали, и только по взмывающим стайкам птиц можно было определить, где он находится.
Наконец Александр вернулся. Солнце теперь светило ему в спину, и копыта Букефала, гулко ударяясь о землю, победно топтали тень, как благородные кони фараонов топтали когда-то поверженных врагов.
На поле Александр придержал Букефала. Конь тяжело дышал и тряс уздечкой. Мальчик сидел свободно, приняв рекомендуемую Ксенофонтом позу: ноги опущены вниз, бедро напряжено, голень расслаблена. Александр направил коня к помосту. Человек, который ждал его там, сошел вниз. Это был его отец.
Александр спешился в армейском стиле: через шею, спиной к лошади – наилучший способ во время боя. Если лошадь обучена. Букефал помнил все уроки, которые он получил до того, как попал к Филонику. Филипп протянул обе руки, и Александр упал в его объятия:
– Будь осторожнее, отец, не трогай его рот. Он ободран.
Филипп похлопал мальчика по спине. Царь плакал. Даже из-под века слепого глаза текли настоящие слезы.
– Сын мой! – выговорил Филипп, задыхаясь. Упавшие в его жесткую бороду слезы влажно блестели. – Хорошая работа, сын мой. Мой сын.
Александр ответил на поцелуй. Он чувствовал, что этой минуты ничто не может омрачить:
– Благодарю, отец. Спасибо за моего коня. Я назову его Букефал.
Лошадь неожиданно дернулась. Сияющий, рассыпающий похвалы, к ним подступал Филоник. Александр обернулся и мотнул головой, приказывая ему удалиться. Барышник мгновенно исчез. Покупатель всегда прав.
Вокруг собиралась возбужденная толпа.
– Отец, ты не прикажешь им отойти? Букефал еще не привык к людям. Я должен отереть его, иначе он простудится.
Во дворе конюшни было тихо и пусто; торги продолжались. Раскрасневшийся от верховой езды и работы со скребком, с всклокоченными волосами, пропахший лошадиным потом, Александр наконец остался один. Только последний докучливый зритель следил за ним сияющим взглядом, в котором читались торжество и смущение, – Гефестион. Александр улыбнулся, давая понять, что узнал его. Мальчик улыбнулся в ответ и, поколебавшись, подошел ближе. Оба молчали.
– Он тебе понравился?
– Да, Александр… Конь словно узнал тебя. Я это почувствовал, это знак судьбы. Как его зовут?
– Я называю его Букефал.
Мальчики говорили по-гречески.
– Это лучше, чем Гром. Он ненавидел прежнее имя.
– Ты живешь неподалеку, правда?
– Да. Я могу тебе показать, отсюда видно, – сказал Гефестион. – Видишь вон тот холм – не первый, а второй, и за ним…
– Ты был здесь раньше, я тебя помню. Ты помог мне закрепить пращу… нет, то был колчан. И твой отец увел тебя.
– Я не знал, кто ты, – смутился Гефестион.
– Ты показывал мне эти холмы в тот раз, я вспомнил. И ты родился в месяце Льва, в том же году, что и я.
– Да.
– Ты на полголовы выше. Твой отец высок, да?
– Да, и дядья тоже.
– Ксенофонт говорит, что уже по жеребенку можно определить, будет ли он высоким, – по длине ног. Когда мы вырастем, ты все равно будешь выше.
Гефестион взглянул ему в глаза; Александр смотрел уверенно и искренне. Гефестион вспомнил, что отец как-то сказал: сын царя мог бы подрасти, если бы этот болван, его наставник, не перегружал мальчика и получше кормил. О царевиче нужно заботиться; рядом должен быть друг.
– Но ты единственный, кто сможет ездить на Букефале, – сказал Гефестион.
– Пойдем, посмотришь на него, – предложил Александр. – Совсем близко не подходи; мне придется на первых порах быть рядом, пока конюхи его чистят. Конь должен привыкнуть.
Александр внезапно обнаружил, что говорит на македонском. Мальчики переглянулись и засмеялись.
Они еще какое-то время поговорили о том о сем, прежде чем Александр вспомнил, что прямо из конюшен, в чем был, хотел бежать с новостями к матери. Впервые за всю его жизнь мысль о ней совершенно вылетела у него из головы.
Через несколько дней Александр принес жертву Гераклу.
Герой был великодушен к мальчику и заслуживал более щедрых даров, чем козел или ягненок.
Олимпиада согласилась. Если ее сын считал, что Геракл достоин большего, то сама она полагала, что ее мальчику положено только лучшее. Царица написала письма всем своим друзьям и родне в Эпир, красочно изложив, как царь Филипп снова и снова пытался оседлать лошадь и наконец благородное животное, придя в негодование, сбросило его в пыль перед всем народом; как зверь свирепствовал, подобно льву, но ее сын укротил коня. Олимпиада развязала новый тюк с афинскими товарами и предложила Александру самому выбрать ткань для нового парадного хитона. Мальчик выбрал простую, тонкую белую шерсть. Олимпиада заметила, что такая небогатая одежда мало приличествует столь великому дню. «Зато она приличествует мужчине», – возразил Александр.
Он принес свой дар в золотом кубке к гробнице героя в саду. Это была официальная церемония, на которой присутствовали и его отец, и его мать.
Перечислив в обращении к полубогу все положенные титулы и именования, Александр поблагодарил Геракла за его дары человеческому роду и заключил:
– Ты почтил меня своей благосклонностью; не покидай меня, будь во всем моим покровителем и защитником; обрати слух к моим молитвам.
Александр опрокинул кубок. Полупрозрачные крупицы ладана, вспыхнув в лучах солнца, упали на горящие уголья. Облако сладкого голубого дыма поднялось к небесам.
Все присутствующие, за исключением одного, вознесли хвалу. Леонид, который счел себя обязанным явиться на жертвоприношение, поджал губы. Приближался день его отъезда; бремя забот о мальчике должно было перейти к другому. Хотя Александру еще не сообщили об этом, его возбуждение казалось вызывающим. Арабское благовоние сыпалось из чаши – десятки и десятки драхм. И это после многолетней проповеди аскетизма, после постоянных предостережений от излишеств. Посреди изъявлений благочестия Леонид проговорил кислым голосом:
– Трать с меньшим расточительством драгоценные смолы, Александр, пока не станешь властителем тех земель, где они произрастают.
Александр обернулся, держа в руках опустевший кубок. Он посмотрел на Леонида сначала с удивлением, потом – серьезно и внимательно.
– Да, – сказал он наконец. – Я запомню.
Спускаясь вниз по ступеням гробницы, Александр встретился глазами с выжидающим взглядом Гефестиона, который тоже верил в знамения. Им не было нужды обсуждать происшедшее.
Глава 5
– Теперь я знаю, кто это будет. Отец получил письмо, он посылал за мной этим утром. Надеюсь, этот человек терпим. Если нет, мы что-нибудь придумаем.
– Можешь на меня рассчитывать, – сказал Гефестион. – Даже если тебе придет в голову его утопить. Ты и так многое вынес. Он настоящий философ?
Мальчики сидели в желобе для стока воды между двумя дворцовыми фронтонами: потайное место, известное прежде одному Александру, а теперь – им двоим.
– Ну конечно! Он из Академии, ученик Платона. Ты будешь ходить на занятия? Отец разрешил.
– Я буду тянуть тебя назад.
– Софисты предпочитают диспуты, так они учат. Ему будут нужны мои друзья. Позднее мы обсудим, кого позвать еще. Отец написал учителю, что логические забавы здесь никого не интересуют. Я должен учиться вещам, которые будут мне полезны. Философ ответил, что образование должно соответствовать положению и обязанностям. Это мало о чем говорит.
– Этот учитель, по крайней мере, не будет тебя бить. Он афинянин? – спросил Гефестион.
– Нет, стагирит. Он сын того самого Никомаха, который врачевал моего деда Аминту. Полагаю, лечил и моего отца, когда тот был ребенком. Ты знаешь, как жил Аминта – словно волк, окруженный охотниками. Он только и делал, что изгонял своих врагов или пытался вернуться сам. Никомах должен был доказать свою преданность. Не знаю, насколько хорошо он лечил. Аминта умер в своей постели – в нашей семье это редкость.
– Так значит, сын Никомаха. Как его имя?
– Аристотель.
– Он знает страну, это уже что-то. Он очень стар?
– Ему около сорока. Не много для философа, они живут вечно. Исократу, который хочет, чтобы отец объединил греков, уже за девяносто, а он все никак не угомонится. Платон прожил больше восьмидесяти. Отец говорит, что Аристотель надеялся стать главой школы, но Платон выбрал своего племянника. Вот почему Аристотель оставил Афины.
– И тогда он испросил позволения приехать сюда? – спросил Гефестион.
– Нет, тогда нам еще было по девять лет. Я запомнил год из-за халкидийской войны. Аристотель не мог вернуться домой в Стагиру, потому что как раз тогда отец спалил ее и забрал жителей в рабство. Что это у меня в волосах?
– Это сучок от дерева, по которому мы лезли.
Гефестион, не отличавшийся особой ловкостью рук, осторожно распутал сияющую прядь и вынул застрявшую в ней веточку орехового дерева. От волос Александра пахло каким-то дорогостоящим составом, которым Олимпиада их мыла, и летней разогретой травой. Рука Гефестиона легко скользнула вниз по спине Александра. В первый раз это произошло почти случайно. Хотя Александр ничем не выразил неудовольствия, Гефестион выжидал два дня, прежде чем отважиться повторить попытку. Теперь, когда мальчики были одни, он ловил любой удобный случай и порой не мог сосредоточиться ни на чем ином. Гефестион не мог сказать, что думает обо всем этом Александр и размышляет ли он об этом вообще. Сын царя принимал эти знаки любви спокойно и невозмутимо говорил о посторонних вещах.
– Стагириты, – продолжал Александр, – выступали союзниками Олинфа; царь показал на их примере, что будет с городами, поддерживающими его врагов. Твой отец рассказывал тебе об этой войне?
– Что?.. Ах да. Рассказывал, – спохватился Гефестион.
– Слушай, это важно. Аристотель бежал в Асс как гость и друг Гермия Атарнейского; они встречались в Академии. Гермий тиран там. Ты знаешь, где находится Асс – прямо напротив Митилены, он держит власть над проливом. И как только я все это вспомнил, то сразу же понял, почему отец выбрал этого человека. Но это только между нами.
Александр серьезно посмотрел в глаза Гефестиону: глубоким взглядом, после которого он всегда делился сокровенным. Как всегда, Гефестион почувствовал, что в груди у него все тает. И как всегда, прошло какое-то время, прежде чем к нему вернулась способность слышать и осознавать услышанное.
– …которые были в других городах и избежали осады, просят отца отстроить Стагиру и вернуть прежние права ее жителям. Вот чего хочет этот Аристотель. А отец – он хочет союза с Гермием. Это как сделка у барышников. Леонид тоже приехал из-за политики. Старик Феникс единственный, кто сделал это ради меня.
Гефестион стиснул руку Александра. Чувства обуревали его; ему хотелось сжать друга так, чтобы самые их кости срослись в одно целое. В то же время он знал, что это порочно и безумно. Он сам убил бы любого, посмевшего тронуть хоть волос на этой золотой голове.
– Они не подозревают, что я отлично все понимаю. Я просто ответил «да, отец» и даже матери не сказал ни слова. Я хочу оценить этого человека сам и сделать то, что я считаю наилучшим, но так, чтобы никто не догадался о причине. Я сказал только тебе. Моя мать вообще против философии.
Гефестион между тем думал, какой хрупкой выглядела грудь Александра, каким чудовищным казалось желание ласкать и сдавливать ее. Он молчал.
– Мать говорит, что философия уводит людские помыслы от богов. Она-то должна знать, что я никогда не отвернусь от богов, кто бы и что бы мне ни говорил. Я знаю, что боги существуют. Это так же несомненно, как то, что живу я или ты. Мне трудно дышать.
Гефестион, который о себе мог сказать то же самое, быстро отодвинулся от Александра. Вскоре он ухитрился пробормотать:
– Возможно, царица прогонит его.
– Ну нет, я этого не хочу. Это принесет только лишнее беспокойство. Еще я подумал, что Аристотель может оказаться из тех, которые умеют отвечать. С тех пор как я узнал, что приезжает философ, я стал их записывать – вопросы, на которые никто здесь не может ответить. Их уже тридцать пять, я сосчитал вчера.
Сидя напротив Гефестиона, спиной к пологому скату фронтона, Александр не казался углубленным в себя, напротив – сияющим, доверчивым и искренним. Вот, думал Гефестион, подлинное и совершенное счастье.
– Я хотел убить Леонида, – сказал Гефестион в волнении. – Ты это знаешь?
– А, я и сам когда-то хотел. Но теперь я думаю, что Леонида послал мне Геракл. Когда человек творит благо против своей воли, значит он исполняет божественное предначертание. Он хотел сломить меня, а вместо этого научил справляться с трудностями. Мне не нужен меховой плащ, я не ем больше того, чем мне нужно, и не валяюсь по утрам в постели. Мне было бы гораздо труднее начинать учиться этому сейчас и без Леонида, а учиться все равно бы пришлось. Как просить своих солдат мириться с вещами, которых не можешь вынести сам? А солдаты хотят убедиться, что я не больший неженка, чем мой отец. – Александр напрягся, грудные мышцы сжались, тело стало твердым, как броня. – Я ношу хорошую одежду, лучше, чем при Леониде; мне она нравится. Но это все, что я себе позволил.
– Этот хитон тебе уже никогда не надеть, ручаюсь… Посмотри, какая дыра – я могу просунуть туда руку… – улыбнулся Гефестион. – Александр! Ты никогда не уйдешь на войну без меня?
Александр выпрямился, глаза его расширились от изумления. Гефестион быстренько отдернул руку.
– Без тебя? Что ты придумал, как тебе вообще могла прийти такая мысль? Ты же мой лучший друг.
Гефестион уже годы назад понял, что если боги – даже единственный раз за всю его жизнь – предложат дары, он выберет этот. Радость опалила его, как удар молнии сухое дерево.
– Ты и вправду так думаешь? – пробормотал он. – Вправду?
– Вправду? – переспросил Александр почти с гневом. – А ты как считаешь? Ты полагаешь, то, что я поведал здесь тебе, я рассказываю всем? Вправду – надо же такое вообразить!
«Всего месяц назад, – подумал Гефестион, – я был бы слишком напуган, чтобы ему ответить».
– Не сердись. В великой удаче всегда сомневаешься.
Глаза Александра подобрели. Он поднял правую руку:
– Клянусь Гераклом.
Потом наклонился и, в соответствии с обрядом, поцеловал Гефестиона: с пылом чувствительного ребенка и нежностью растущей привязанности взрослого. Гефестион, еще не пришедший в себя от восторга, не сразу ощутил легкое прикосновение губ Александра. Когда он наконец собрался с силами, чтобы ответить на поцелуй, что-то другое привлекло внимание Александра. Он смотрел на небо.
– Взгляни, – сказал Александр, взмахнув рукой. – Видишь эту статую Ники на верхнем фронтоне? Я знаю, как туда подняться.
С террасы Ника казалась такой же маленькой, как детская глиняная кукла. Когда после головокружительного подъема мальчики оказались у ее ног, богиня выросла до пяти локтей. В протянутой над пустотой руке она держала позолоченный лавровый венок.
Гефестион за все это время не осмелился задать ни одного вопроса не только Александру, но и себе самому. По знаку друга он ухватился левой рукой за бронзовый пояс богини, а правой – за запястье Александра.
– Держи меня! – велел царевич.
Изловчившись, Александр изогнулся над пропастью и оторвал от венка Ники два листка. Один подался легко, с другим пришлось повозиться. Гефестион чувствовал, как ладони его становятся липкими от пота; страшная мысль, что это может сделать хватку ненадежной, холодной волной прошла по животу и вздыбила волосы. Скованный ужасом, он не мог отвести глаз от тонкой изящной кисти, которая казалась такой маленькой в его собственной лапе. Но в руке Александра чувствовалась сила. Хватка Гефестиона крепла, повинуясь железной воле.
Прошла вечность, прежде чем Александр спустился, зажав листья в зубах, и уже на крыше передал один Гефестиону:
– Теперь ты мне веришь?
Золотой лист лежал на ладони Гефестиона. Он слабо трепетал от ветра, как живой. Такой же большой, как настоящий. Мальчик быстро сжал пальцы. Теперь его охватил ужас. Гефестион уставился на огромные мраморные плиты далеко внизу, похожие отсюда на мелкую мозаику. Ужас и одиночество высоты. Гефестион поднимался на фронтон, полный яростной решимости умереть, но выдержать устроенное ему Александром испытание. Лишь сейчас, когда бронзовый позолоченный листок впился ему в ладонь, Гефестион понял, что испытание предназначалось не ему. Он был просто свидетелем. Гефестион поднялся наверх, чтобы держать в своей руке жизнь Александра. Это был залог дружбы, ответ на его дурацкий вопрос.
Когда мальчики спускались на землю, цепляясь за ветви высокого ореха, Гефестиону на ум пришла песня о Семеле, возлюбленной Зевса. Бог явился к ней в облике человека, но ей этого было недостаточно, она требовала, чтобы он показал ей свою божественную сущность. Зевс выполнил просьбу, но Семела хотела слишком многого; молнии в руке бога сожгли ее. Гефестиону нужно привыкнуть к огню.
Прошло еще несколько недель, прежде чем объявился философ.
Гефестион его недооценил. Аристотель знал не только страну, но и двор, и живой язык; у него оставались в Пелле родственные связи и много друзей. Царь, хорошо об этом осведомленный, предложил в одном из писем предоставить – если потребуется – отдельное здание для занятий наследника и его друзей.
Философ прекрасно читал между строк. Мальчика нужно было вырвать из цепких рук матери-интриганки; отец, со своей стороны, не станет вмешиваться. Аристотель даже не смел на такое надеяться. В ответном письме, чрезвычайно учтивом, философ предложил поселить наследника с друзьями в некотором удалении от дворцовой суеты и в заключение – как если бы эта мысль только что пришла ему на ум – порекомендовал чистый горный воздух. Подходящих гор не было в радиусе нескольких миль от Пеллы.
У подножия горы Бермий, на западе равнины Пеллы, стоял хороший дом, заброшенный во время войн. Филипп купил его и привел в порядок. Дом был большой; царь пристроил крыло и гимнасий и – поскольку философ упоминал о прогулках – расчистил сад. Никаких ухищрений, прекрасный уголок природы, то, что персы называют «парадиз». Говорили, легендарные сады царя Мидаса были чем-то в этом роде. Там все росло свободно и пышно.
Покончив с этим, царь послал за сыном. Через час все его распоряжения будут известны Олимпиаде, наполнившей дворец шпионами, а уж она постарается исказить их смысл и настроить мальчика против отца.
В беседе отца и сына сквозили намеки и недоговоренности. Александр видел, что Филипп уже принял решение. Но этот напор, эти двусмысленные, темные речи – что это: привычная перебранка в бесконечной войне с его матерью или нечто большее? Все ли слова были произнесены? Когда-то Александр верил, что мать никогда ему не солжет, но многие случаи убедили его в обратном.
– Я хочу знать, кого из друзей ты пригласишь с собой, – сказал Филипп. – Обдумай, я даю тебе на это пару дней.
– Благодарю, отец.
Александр вспомнил мучительные часы, проведенные на душной женской половине: сплетни, пересуды, пустая болтовня, бесконечные интриги, размышления и гадания над каждым взглядом или словом, крики, слезы, клятвы перед богами, запах благовоний, волшебных трав и горящего жертвенного мяса, шепот признаний, не дававшие уснуть ночью, так что весь следующий день он не мог собраться и проигрывал в беге и не попадал в цель.
– Если их отцы согласятся, все легко уладится, – сказал Филипп. – Птолемей, я полагаю?
– Да, Птолемей непременно. И Гефестион. Я просил тебя за него прежде.
– Я помню. Гефестион. Конечно.
Филипп постарался, чтобы его голос прозвучал непринужденно. Меньше всего он хотел разрушить сложившееся положение вещей. В его душе навечно запечатлелись любовные картины Фив: юноша и мужчина, в котором юноша видит образец. Где-то это было в порядке вещей, но Филипп не желал, чтобы кто-то властвовал над его сыном. Даже Птолемей, относящийся к мальчику по-братски и любящий женщин, вызывал у царя опасения. И как было не тревожиться за Александра, с его поразительной красотой и тягой к юношам много старше себя? Случайная прихоть, странный каприз внезапно привлекли сына к мальчику, родившемуся с ним почти что день в день. Уже несколько недель они были неразлучны. Александр, что правда, то правда, оставался непроницаем, но зато по тому, другому, можно было читать, как по раскрытой книге. Хотя никаких сомнений, что в этой дружбе образец – Александр, а мальчик во всем ему подчиняется. Соответственно, эту связь можно выбросить из головы.
Царю хватало тревог за пределами царства. Прошлым летом пришлось снова усмирять иллирийцев на западной границе. Победа стоила Филиппу не только многих забот, горя и скандалов, он заплатил за нее разрубленным в битве коленом. Филипп до сих пор хромал.
В Фессалии все складывалось удачно: он привел к повиновению дюжину местных царьков, уладил миром два десятка войн из-за кровной вражды – и все, за исключением одного-двух честолюбивых вождей, остались довольны. Но Филипп потерпел неудачу в Афинах. Афиняне отказались прислать своих граждан на Пифийские игры только потому, что Филипп вручал там награды. Но царь все же не сдался. Его ставленники в один голос твердили, что афинян можно образумить, если болтуны-ораторы перестанут сбивать народ с толку. Афинские политики в первую очередь заботились о том, чтобы не урезались общественные пособия. В случае угрозы системе подачек не прошло бы ни одно предложение, зайди речь хоть о спасении родины. Филократа обвинили в государственной измене, и он бежал из Афин. Вовремя: вскоре ему вынесли смертный приговор. Филипп назначил Филократу щедрое содержание и обратил свои надежды на людей, слывших неподкупными, на тех, кто считал союз с Македонией благом для Афин. Они убедились, что сейчас все помыслы царя обращены к малоазийской Греции. Теперь им оставалось уверить сограждан в том, что меньше всего Филиппу нужна сейчас дорогостоящая война с Афинами. Проигравший или победитель, безразлично – он предстанет врагом Эллады именно тогда, когда ему нужно укреплять свой тыл.
И этой весной Филипп отправил в Афины новое посольство с предложением пересмотреть мирный договор, если выдвинутые афинянами поправки будут разумны. Афиняне снарядили своего посла, старого друга Демосфена, некоего Гегельзиппа. Гегельзипп носил прозвище Хохолок, данное из-за длинных женоподобных локонов, уложенных на макушке и перевязанных лентой. В Пелле стало ясно, почему выбор пал на него: к неприемлемым условиям, выставленным Афинами, он добавил, уже от себя лично, безобразную грубость. Не было ни малейших шансов, что Филипп перетянет его на свою сторону. Хохолок устраивал союз афинян с фокейцами, само его присутствие было оскорблением. Он приехал и уехал, и Филипп, который до этого не требовал от фокейцев ежегодной платы за разграбленный храм, дал им понять, что платить придется сполна.
Потом в Эпире, царь которого недавно умер, жадные родичи затеяли войну за трон. Умерший царь являлся одним из племенных вождей среди множества других. Стране грозила многолетняя смута, если бы трон не поддержала чья-то всесильная рука. Филипп, видя в этом благо для Македонии, готов был посадить в Эпире своего ставленника. Впервые в жизни он удостоился одобрения жены, поскольку выбрал ее брата, Александра. Филипп, впрочем, рассчитывал, что тот сообразит, чью сторону держать выгоднее, и постарается обуздать Олимпиаду; по крайней мере, брат не будет принимать участия в ее интригах и может стать полезным союзником. К сожалению, беспорядки в Эпире требовали его вмешательства, и царь не мог остаться в Пелле на встречу с философом. Хромая к своей боевой лошади, Филипп послал за сыном и сообщил ему это. Больше он ничего не сказал. Царь многие годы занимался дипломатией, и его единственному глазу нельзя было отказать в зоркости.
– Аристотель приезжает завтра в полдень, – сказала Олимпиада дней десять спустя. – Не забудь, что ты должен быть дома.
Александр стоял подле маленького ткацкого станка, за которым его сестра трудилась над чудесной каймой. Клеопатра не так давно овладела искусством сложного узора и страстно ожидала слов восхищения. Теперь они стали друзьями, и Александр не скупился на похвалы. Но слова матери заставили его навострить уши.
– Я приму его, – продолжала Олимпиада, – в зале Персея.
– Я сам приму его, мама.
– Ну конечно, ты должен там быть. Я так и сказала.
Александр прошелся по комнате. Клеопатра, забыв обо всем на свете, стояла с челноком в руке, переводя взгляд с брата на мать. Привычный ужас исказил ее лицо.
Александр похлопал по своему блестящему кожаному поясу.
– Нет, мама, теперь, когда отца нет дома, это мой долг. Я принесу извинения и представлю Аристотелю Леонида и Феникса. Потом приведу его наверх и представлю тебе.
Олимпиада поднялась со своего кресла. В последнее время мальчик быстро рос. Теперь она была уже не намного выше его.
– Ты хочешь сказать мне, Александр, – отчеканила царица, – что не желаешь, чтобы я присутствовала на приеме?
Он промолчал. Олимпиада отказывалась верить.
– Это маленьких мальчиков представляют взрослым их матери, – сказал Александр. – Не так встречают софиста молодые ученики. Мне почти четырнадцать, я справлюсь с этим сам.
Ее подбородок дернулся вверх, спина напряглась.
– Это твой отец сказал тебе?
Вопрос был неожиданным, но Александр знал, к чему она клонит.
– Нет, – сказал он, – мне не нужны слова отца, чтобы знать, что я мужчина. Я сказал ему сам.
На скулах Олимпиады выступили пятна; волосы поднялись рыжей волной, серые глаза широко распахнулись. Очарованный, он тонул в ее взгляде, думая, что в мире нет других столь опасных и столь прекрасных глаз.
– Так значит, ты мужчина! И я, твоя мать, которая родила тебя, вынянчила, выкормила, сражалась за твои права в те дни, когда царь готов был прогнать тебя, как приблудную собаку, чтобы признать своего ублюдка…
Царица смерила сына негодующим взглядом полновластной хозяйки. Александр ни о чем не спрашивал; мать хотела причинить ему боль – и этого было достаточно. Слово летело за словом, как горящие стрелы.
– Я, которая каждый день моей жизни жила только для тебя с тех пор, как ты был зачат, – о да, задолго до того, как ты увидел свет солнца, которая ради тебя проходила через огонь и тьму и спускалась в долину смерти! Теперь ты переметнулся к нему, чтобы унижать меня, как деревенскую бабу. Теперь я верю, что ты – его сын!
Александр молчал. Клеопатра выронила челнок и выкрикнула торопливо:
– Отец – дурной человек. Я не люблю его. Я люблю одну маму!
На нее никто не взглянул. Девочка заплакала, но ее никто не услышал.
– Придет время, когда ты вспомнишь этот день, – прошипела Олимпиада.
«Да уж, – подумал Александр, – такое не забывается».
– Ну? Тебе есть что ответить?
– Прости, мама. – Голос Александра начал ломаться, сейчас он пустил предательского петуха. – Я прошел испытания. Теперь я должен жить как мужчина.
Впервые она рассмеялась ему в лицо так, как смеялась в лицо его отцу:
– Прошел испытания! Глупое дитя. Ты будешь хвалиться этим, когда ляжешь с женщиной.




