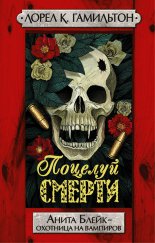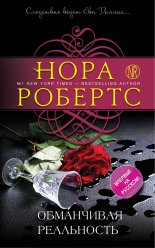Духовная грамота отшельника Иорадиона Положенцев Владимир

Арбузов открыл правый глаз:
– Приходилось, боярин. С батюшкой в Кашин к мастеру Неклюдову ездил. Он замечательные грушевые приклады для мушкетов и аркебуз потачает. Вот погляди. – Парень вытащил из запазухи небольшой кремневый пистоль с резной рукоятью.
– Убери, убери сатанинское железо, – взмолился боярин, стрельнет пади еще.
– Да как он стрельнет? Я на полку пороха не подсыпал.
Скоробоев только слегка махнул рукой и опять вздохнул:
– Что, далече нам еще до Ильинского монастыря?
– А где мы?
– Белый городок миновали.
– Еще часа два нам в возке трястись.
И вновь принялся Ерофей Захарович грустно созерцать окрестности в синее запотевшее окошко.
– Не переживай боярин, найдем мы твой похмельный эликсир. А нет, так сами придумаем.
– Как же сие возможно? – удивился Скоробоев.
– Плевое дело. Я сам составов двадцать от тяжелой головы знаю. Например, зело помогают варенные в молоке поросячьи уши али голубиная кровь с красным вином.
– Тьфу, отравь. Не об том речь! – нахмурился боярин. – Аз тебе сколько глаголю. Царю заряка надобна. А ты уши поросячьи! Неблазно. Прелестно.
Когда боярин волновался, часто переходил на старинные слова, которые на Москве давно уже не были в ходу.
– Приедем в Ильинский, разберемся. Хитрые мнихи наверняка чего-нибудь ведают об заряйке. Когда монастырь-то поставили?
– Дьяк в приказе мне глаголил, что лет триста тому. Его не раз грабили, жгли, а потом перестраивали. В последний раз при Михаиле Федоровиче. Аз и волнуюсь, не затерялась ли могилка отшельника?
– Мы у чернцев монастырские летописи вытребуем. Старец ведь не простого рода племени был?
– Высокого, боярского. Ежели мой пращур не отменную сказку об нем сочинил.
– На выдумки славился?
– Тебе до него аки до Бухарского эмира.
Емельян хмыкнул, помотал льняной головой:
– Ежели боярского, то об Иорадионе непременно должно быть в монастырских книгах отписано.
К полудню возок, сопровождаемый конным отрядом, остановился у монастырских ворот.
На колокольне Андрея Первозванного вовсю старался рыжебородый послушник. Дело свое он знал. Мягкий, почти бархатный звон колоколов неназойливо заполнял всю округу и растворялся где-то вдали, за рекой Пудицей.
Настоятель Ильинской обители архимандрит Лаврентий был заранее оповещен о приезде боярина Скоробоева по важному государеву делу.
В праздничных церковных одеяниях он самолично встречал гостя у монастырских ворот с образом Божьей матери в золотом окладене.
Шестидесятилетний архимандрит, оказался веселым, разговорчивым старичком. Несмотря на великий пост, он велел принести в свои покои зеленого рейнского вина, белорыбицы, копченых гусей и маринованных грибов.
За столом, он постоянно теребил на своей груди большой золотой крест, надетый поверх великолепного, расшитого серебром стихира и говорил Скоробоеву:
– Отведать скоромной пищи в великий пост со странниками не грех. Аз ужо второй день вас жду. Душой и телом извелся. Времена теперь промозглые, занозистые, всякое случиться может. Будто при патриархе Никоне живем, царство ему небесное и дай ему бог на облаках не хворать.
Боярин подавился гусиной лапкой. В последние тридцать лет было строжайше запрещено всякое упоминание имени мятежного патриарха – раскольника, выдвинувшего тезис «священство выше царства».
На помощь хозяину пришел чашник Емельян, который от души врезал боярину по спине. Его же удивило не упоминание настоятелем опального раскольника, а то, что он пожелал давно усопшему патриарху мирского здравия. Как-то не вязалось это с архимандритским чином.
– Вы кушайте, кушайте, – уговаривал Лаврентий боярина. – Древний сириец Абуль-Фарадж, сказывал, что наш ум – есть древо. И увешано оно теми плодами, коими наполняет их пища. Сице истина, да не вся. Не дано было нехристю оттоманскому уразуметь, что зело важнее душа. Насколько она способна любить бога, слышать и понимать чужую боль, настолько сочны и плоды ее. Без брашна – смерть, но иного как не корми, а он все жаб мокрохвостый, дурак дураком, блядь блядская. Говно, одним словом.
На сей раз, кусок застрял в горле у Емельяна. Сын оружейника, конечно, владел словами и покрепче, но слышать ругательства от духовного лица ему еще не доводилось.
А боярин, не зная как воспринимать речь архимандрита, отложил в сторону деревянную двузубую вилку, вытер рукавом рот и решил перейти к делу.
– Мы, отец Лаврентий, по важному поручению Петра Алексеевича, – он кивнул чашнику, и тот подал настоятелю грамоту Преображенского приказа. – При великом князе Иване III в Ильинской обители был погребен некий боярин Федор Иванович Налимов. До кончины он вел жизнь отшельника под именем старца Иорадиона на одном из волжских островков. Нам надобно немедля осмотреть его склепницу, али раку.
Отец Лаврентий осенил себя крестным знаменем.
– Склепницу Иорадиона? Аз молюсь в обители ужо двадцать пять годов, но о горемычном Иорадионе не слыхивал. И в подземном некрополе, дорога к коему ведет из главного храма, его гроба ни разу не видывал.
– Надобно взглянуть в монастырскую сказку, – подал голос Арбузов.
– Разумно, сын мой, – согласился настоятель. Он подозвал одного из послушников. – Приведи, Савушка, брата Самсония.
Маленький и круглый, с загнутым как у филина носом монах подлил всем рейнского и, поклонившись, вышел. Однако перед тем как послушник закрыл за собой дверь, сын оружейного мастера заметил, как нехорошо, недобро он глянул на боярина Скоробоева.
Самсонием оказался тот самый рыжебородый монах, который так искусно извлекал бархатные звуки из монастырских колоколов.
Зайдя в покои, он первым делом поклонился настоятелю, а затем уж перекрестился на образа. Выслушав вопрос архимандрита – где старые монастырские летописи, он начал нести какую-то околесицу. При этом монах жутко картавил и заикался. И все же гости смогли понять, что в блазное лето, 7079-го, крымский хан – собака Девлет-Гирей подошел к Москве. Из Новодевичьего, Новоспасского и Рублевского монастырей ценные летописи и сказки вывезли в дальние обители. Часть книг попала сюда, в Ильинский. А после нашествия, когда бесценные документы стали возвращать назад, возникла путаница. Вместе с московскими книгами, в белокаменную отправили и старые Ильинские сказки. Где они теперь – одному богу известно.
– Истина, – подтвердил слова послушника отец Лаврентий. – Древних монастырских сказок у нас не сохранилось.
И только за этим нужно было приглашать рыжего обалдуя? – мысленно удивился Емельян и с недоверием прищурился на архимандрита. Сам не мог объяснить, мухомор залежалый? Как – никак четверть века в монастыре. Чудно.
– Беда на мою голову! – застонал Ерофей Захарович.
– Н-н-не пл-л-огневайся, б-боялин, – гнусаво закартавил послушник Самсоний, – а-а-а для чего Петлу Алексеевичу Иол-ладион?
Арбузов не пропустил мимо ушей такой оказии, сразу же вскинулся:
– Откудова тебе вестимо, чернец, что царю отшельник Иорадион потребен?
Тот отвернул голову, почесался.
– Иди, Самсонушка, иди, – нахмурил брови настоятель. – Проверь лучше все ли готово для отдыха наших гостей. Вы извините, Ерофей Захарович, боярских кроватей, да перин не имаем. Не о теле печемся, о душе. Обаче для вас братья кое-что подобрали. Члены свои во время почивания не утомите.
Несмотря на повеление архимандрита, послушник никуда уходить не собирался. Он все так же стоял перед столом, скрестив на животе мозолистые, должно быть от колокольных канатов пальцы.
В другой раз отец Лаврентий гнать Самсония не стал. Он сам налил Скоробоеву вина, спросил:
– А то и в самом деле зело любопытно, зачем государю, дай бог ему попутного ветра в дальних странствиях, понадобился старец?
Ерофей Захарович открыл уже рот, чтобы поведать архимандриту о заряйке, но Емельян незаметно толкнул его кулаком в бок.
– Боярин притомился, вона очи у него слипаются. Шутка ли двести верст отмахать!
С этими словами Арбузов нежно обнял Ерофея Захаровича за плечи и вдруг резко выдернул из-за стола.
От такой непочтительности Скоробоев разозлился, но наглый чашник колюче взглянул ему в глаза и тоном нетерпящим возражения, произнес:
– Сей же час отправляемся почивать.
Боярин неожиданно почувствовал, что здорово захмелел и более возмущаться не стал.
Под десницу его взял Емельян, под левую руку подхватил брат Самсоний.
Напоследок настоятель тихо сказал Скоробоеву:
– Поутру, брат Самсоний монастырское похмелье принесет. Мы его готовим по старинному рецепту. Желчь недельных поросят варим с волчьими ягодами в красном вине. Как рукой тяжесть снимает. А вот заряйки, извините, не имаем.
Скоробоев и Арбузов враз обернулись, но архимандрит уже удалялся в соседние палаты. За ним тяжело захлопнулась окованная железом дверь.
На дворе боярина совсем развезло. По дороге в почивальню он все норовил дотянуться носом до кончиков своих красных сафьяновых сапог.
Возле сторожевой башни, с сохранившимися на ней после шведского нашествия пушками, топтался послушник и кровавым куском мяса тер себе лицо.
– Боже милосердный, что с ним? – обомлел Емельян.
– Бл-лат Михаил кул-линой гузкой бол-лодавки с носа сводит, – спокойно ответил Самсоний. – Сколько лаз ему глагол-лили, мол-лись, и бог о-о-очистит твой выступень, а о-он все кул пе-е-леводит.
Действительно, возле пня, из которого торчал топор, валялись две бездыханные куриные тушки. Послушник Михаил что-то бормотал себе под распухший нос и с глазами болотной нечисти, все тер и тер его сырым мясом.
У братских келий, в большом деревянном корыте два монаха резали поросенка. Один держал его за лапы, другой протыкал чрево визжащей твари кривым ножом. Животное билось и хрипело, и из его бока в корыто стекала зеленовато-коричневая жидкость.
– Сразу что ли нельзя прикончить? – передернулся Арбузов.
– Ж-ж-желчь извл-лекают, – пояснил рыжебородый звонарь. – Для в-в-вашего похмелья. Желчь должна быть непл-л-леменно из живого пол-л-лосенка.
Отведенные боярину покои оказались обычной тесной монастырской кельей. Под тяжелыми белеными сводами по обеим сторонам были приготовлены деревянные лежанки. Одна была покрыта высоким матрацем, набитым сеном, другая лишь серой дырявой тряпкой.
– Вот тебе и опочивальня! – рассмеялся Арбузов. – А ковров персидских от чего нет?
Ухмыльнувшись, Самсоний, быстро вышел из кельи.
Бережно устроив Ерофея Захаровича на соломенной перине и укрыв его горностаевой шубой, Емельян сел напротив беззаботно захрапевшего боярина, задумался.
Что-то здесь не так, не честно. И владыка какой-то чудной, совсем не поповски глаголет, мнихи странные – смотрят нехорошо, не по-доброму, мясом сырым морды мажут. А главное – эта последняя фраза архимандрита, что заряйки у них нет. Значит, прекрасно вестимо настоятелю, зачем боярин в обитель пожаловал. Да что настоятель! Даже звонарь знает, что мы приехали за отшельником Иорадионом. А история Самсония про перепутанные и увезенные неведомо куда монастырские сказки, вообще бред горячечный. Уж не кликнуть ли на всякий случай боярскую охрану, стрельцы тут недалече, в слободе стоят? Ох, нелюба мне сия Ильинская братия. Глядишь, прирежут еще ночью, аки того поросенка.
Емельян припомнил сцену экзекуции над бедным, визжащим в предсмертном ужасе поросенком, поежился.
Мерзость, какая. Человека бы резали, не так жалко было.
Чашник поднялся с лежанки, чтобы пойти в слободу разыскать начальника охраны десятника Пузырева, но вдруг передумал. Он взял из глиняной плошки сальную свечу, затушил ее, сунул в карман. Подсыпал на полку пистоля пороха, сунул его в другой карман, туда же отправил огниво, вышел из кельи.
Монастырский двор дремал в объятьях тихой черной ночи. Лишь малый кончик новорожденной луны выглядывал из-за зубчатых стен обители. Однако в этой слабой подсветке четко вырисовывались купола храма Владимирской божьей матери.
К собору и направился Арбузов, стараясь не делать лишних движений и не шуметь.
Отец Лаврентий сказывал, что в подземный некрополь можно попасть из главного храма.
Молодой человек обошел парадное крыльцо белокаменного сооружения и сбоку храма обнаружил лестницу, ведущую вниз, к чугунной двери. Он осторожно спустился и увидел, что дверь слегка приоткрыта. Шибче отворять ее не стал, протиснулся в узкую щель. Прислушался. Тихо. Тогда Емельян полез за огнивом и свечой, но тут, спереди, саженях в десяти вспыхнул огонек. Арбузов упал на четвереньки, прижался спиной к ледяной стене.
Огонек впереди заколыхался и вскоре от него разгорелся факел. В его ярком свете чашник опознал рыжебородого брата Самсония. С ним был кто-то еще.
– Не бойся, воевода, тут чертей, али еще какой нечисти не водится, – сказал Самсоний не заикаясь и не картавя. – Место чистое, замоленное. Здесь храмовая усыпальница, а подземная там, за дверью. Сейчас отопру.
Послышался лязг отпираемых замков. С тяжелым скрипом дверь в подземелье медленно отворилась.
– Под ноги токмо гляди, не обступись, а то можно и башку в кровь расшибить.
Когда звонарь и его спутник скрылись за дверью, Емельян пополз за ними.
И за дверью тоже не поднимался с живота, проворно скользил по острым камням, словно настоящий аспид.
Саженей через двадцать подземный туннель раздваивался.
– Нам на правый локоть, – прогнусавил Самсоний, – а некрополь туда. Там и рака отшельничья, что вам всем понадобилась.
Проход, по которому двигался монах с каким-то воеводой, становился все уже и ниже. Однако через несколько саженей своды коридора опять расширились. Парочка остановилась.
– Сюда завтрева мы и приведем наших гостей. – Рыжий монах громко засмеялся и высоко поднял десницу с факелом, осветив небольшую пещеру.
– Здесь тупик? – задал вопрос спутник звонаря и Емельян с ужасом распознал голос не кого-нибудь, а десятника Пузырева, начальника охраны боярина Скоробоева!
– Отчего же? Вон за той глыбой лаз продолжается. Его прорубили еще при Василии Шуйском. Он в Ильинском монастыре от Бориски Годунова скрывался. А опосля, егда Василий царем стал и со шведами союз подписал, от московитян здесь прятался. Этот рукав подземного хода ведет к берегу Пудицы.
– Не учуял бы неладное боярин. И чашник у него шустрый, аки хорь.
– Где им заподозрить? Владыка пригласит Скоробоева с Емелькой оглядеть усыпальницу, приведет их в сию пещерцу, пропустит вперед. А егда они приблизятся вон к той плите, я вышибу из стеночки сию дубовую опору. Видишь, она еле сдерживает каменный свод? И все, поминай, как звали. В Москву отпишем, мол, несчастливый случай. Ну, для верности несколькими нашими братьями пожертвовать придется. И тебя, воевода, искусно поранить.
– Это для чего?
– Не смышленый какой, а еще воевода! Подтвердишь своими синяками в Преображенском приказе донесение архимандрита. Якобы сам при нежданном обвале присутствовал. Еще и денег получишь, аки раненый при исполнении государева долга. Отошлешь сюда опосля.
– Гляжу ты смышленый за смертоубийство деньжищи хапать.
– А не ты ли смертоубийство предложил? Можно было боярина запутать, куда-нибудь в Звенигород услать, али еще далече.
– Аз не за деньги стараюсь. Сказано царевной – голову боярину с плеч, так тому и быть. А ты, мних, словоблудливый шибко.
– Не гневайся. Аз тоже не свою волю выполняю.
– Вот и не блуди. Скажи лучше, где старая сказка монастырская?
– Тебе – то зачем?
– Ну?!
– В церкви Вознесения, в библиотеке.
– Ты про отшельника Иорадиона, поди, ужо вычитал. Он и впрямь чудодейственное похмелье готовил?
– Летописная запись от лета 7012-го о пустыннике подробная имеется. В раке его прах, в стене. Голова и десница. И про заряйку сказано. Обаче состава эликсира в сказке нет.
– Знать, правду глаголил Скоробоев царице, что главная тайна хранится в могиле старца. Хорошо бы боярина на дыбе подвесить, попытать. Верно, не все он Софье поведал, да черт с ним. Как завтра дело сделаем, так раку и вскроем. Кстати, а почему пустынника целиком в гробнице не похоронили, а токмо башку да десницу в стене замуровали, святой, что ли был?
– Какое там! Видно, для него больше места не нашлось.
– Для боярина Налимова-то?
– Кто тогда ведал? Жил себе какой-то отшельник оборванный на Гадючьем острове и питие непонятное варил. Это ведь опосля, егда Иван III прознал об Иорадионовом боярстве, велел его жинку и ихнего отпрыска Налимовыми величать, а деревню Сырогоново в Миголощи, то есть в колдовскую гать переименовать. Налимовы и ныне в Миголощах живут свободными землепашцами. Их палаты не хуже московских. Хоть и прогневался государь на Иорадиона, что тот ему тайну заряйки не открыл, а Февронию Налимову облагодетельствовал. Вельми возможно потомки старца ведают разгадку его тайны.
– Вельми возможно, – как эхо повторил начальник охраны Пузырев.
– Ты завтра, воевода, егда сюда придем, поближе к Скоробоеву держись. Перед тем как распору вышибать, я тебе знак подам, вон туда под белокаменный свод отпрыгивай, чтоб не зашибло.
Нет, чернец, не успеет воевода-изменник свою продажную душу спасти. И ты не успеешь, – прошептал Емельян Арбузов и проворно, но неслышно пополз к выходу из подземелья.
Несчастный поп
Отец Лаврентий томился уже третий день. И душой и телом. Проклятая сивуха из местного сельпо не оставляла никаких шансов на скорое выздоровление. И батюшка, в миру Лаврентий Горепряд, все подливал и подливал себе в алюминиевый колпачок от авиабомбы, переливающийся всеми цветами радуги напиток.
Водка вливалась в измученный желудок Лаврентия раскаленным металлом, поджигала внутренности. Батюшка ждал, когда рассеется дым в голове, начинал молиться.
После очередных ста граммов душа святого отца негодовала и возмущалась, казалось, даже лягалась где-то между печенью и селезенкой, но быстро успокаивалась и сладко замирала в предвкушении следующей дозы.
Иерей Лаврентий не пил месяцами, но если уж попадали «божьи слезы» к нему на язык, из храма разбегались и богомольные старухи, и юродивые служки.
Тридцати пяти летний поп с пьяных глаз не дрался, не хулиганил, а читал очень длинные проповеди.
Чаще всего он говорил о своей нелегкой судьбе, которая забросила его в эту «ильинскую сатанинскую яму», поносил коммунистов, коих люто ненавидел. Рассуждал об атеизме, как о психологической основе веры. Говорить мог часами, до тех пор, пока прихожане не отдавали все, что у них было и в недоумении, удалялись. Однако Лаврентий не ставил себе никаких корыстных целей. Наоборот, он был абсолютно бескорыстен.
Хитрые служки перешептывались за иконостасами, мол, подкручивает нашего батюшку бес, терзает как свинья брюкву. Трезвый – человек, как человек, но ежели примет на грудь, гаси лампады и беги, куда глаза глядят.
В отрочестве Лаврентий или просто Лавруша не помышлял о духовной карьере. Хотел, как и многие мальчишки стать космонавтом или, на худой конец, летчиком. Или биологом. В школе единственная отметка «хорошо» у него была именно по биологии. Может быть, и вышел бы из Лавруши новый Павлов или Менделеев, но когда он перешел в девятый класс, о нем вспомнил двоюродный дед Пантелеймон Скоробоевич Цветков, архидьякон Коломенской церкви. Он-то и определил парня в духовную семинарию, несмотря на бурные протесты матери, убежденной безбожницы и большевички.
В семинарии Лаврентию понравилось, и он стал учиться гораздо лучше, чем в школе. Науки не вдалбливались в головы семинаристам из – под палки, как он к этому привык, а подавались по-доброму, с душой. И даже изучая по второму разу утопию Чернышевского «Что делать?», ему уже не хотелось изобрести машину времени, перенестись в 19-век и задушить сумасшедшего писателя-социалиста. В школьном итоговом сочинении от РОНО Лаврентий назвал прокламацию Николая Гавриловича «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», полным бредом и похвалил царскую охранку, за то, что она сослала Чернышевского на каторгу.
Учительница литературы пришла в ужас. За сочинение она поставила Лавруше двойку, но ни в какое РОНО его, конечно, не отправила. Однако Алла Демидовна сама в душе была бунтаркой и зачитала выдержки из сочинения Лаврентия всему классу. Разумеется, она осудила его за «неаргументированность», опровергла «незрелые умозаключения», но, закрывая тетрадь Горепряда, сказала непонятную многим фразу: «Знания порождают скорбь, будьте к этому готовы». Учительница смотрела на Лаврентия уже по-другому, с любопытством и некоторым уважением. И все же в четверти вывела тройку.
В семинарии у Лаврентия появилось большое количество друзей. Он не пропускал ни одной компании, где пели, выпивали или разговаривали о женщинах. Вместе с однокашниками бегал в городской клуб знакомиться с барышнями. Но даже с самыми красивыми никогда не танцевал. Считал, что любой танец-публичная демонстрация тайных эротических переживаний, выпячивание коих глупо и оскорбительно для любой личности.
Когда Лаврентий оканчивал духовный институт, Пантелеймон Скоробоевич, используя свои связи, начал договаривался о месте для внука в дрезденском приходе. Но договориться так и не успел, помер. Оставшись без влиятельного в церковной среде покровителя, Горепряд получил место иерея в Ильинской церкви Вознесения, что находилась в бывшей обители.
Духовные чиновники его уверяли, что скоро психиатрическая лечебница переедет и в Ильинском начнет действовать мужская православная обитель. Лаврентий получит новый статус, но пока «надобно потерпеть».
Это «пока» растянулось на долгие годы. Сумасшедшие не собирались съезжать с насиженной квартиры. Лаврентий оказался в непонятном, и даже комичном положении. Он ощущал себя почти гашековским курфюрстом Кацем. Только тот отпускал грехи армейским идиотам, а он гражданским.
Официально душевнобольным разрешалось заходить в церковь только в сопровождении медперсонала. Но не тут-то было. Граждане с нарушенным психосоматическим статусом и прочими умственными изъянами, припирались в божий храм в одиночку и группами, когда им заблагорассудится.
Однажды, когда чересчур активный больной попытался выломать и унести из церкви амвон, отец Лаврентий не удержался, огрел неуемного дурака по голове серебряной купелью и так заорал на остальных психов, что те надолго забыли к нему дорогу.
Горепряд почти ежемесячно ходил по начальству, просил, убеждал перевести его в другое место, но все без толку.
«Господь терпел и нам велел, – говорили ему дежурную фразу. – Уже недолго осталось ждать. Душевнобольные ведь тоже люди. Только их души блуждают в потемках, пребывают в некой абстракции. Успокоить их, дать силы продержаться до светлого часа – ваш долг».
Долг, – ворчал по ночам отец Лаврентий. – Я уже за него давно расплатился. Разумеется, в церковь приходили и вполне здоровые люди – медики, санитары, обслуга. Из окрестных сел и деревень наведывались старики со старухами. По воскресеньям в монастырь привозили туристов.
Однажды у стен древней обители высадили большую группу экскурсантов из областного пансионата. Толстые, подвыпившие тети и еле держащиеся на ногах дяди рассеяно слушали об обороне монастыря от шведов, о прятавшемся в монастырских катакомбах Василии Шуйском, о подземном некрополе, который, якобы, во время Отечественной войны завалило немецкой бомбой. Экскурсантов обступали толпы сумасшедших, которые клянчили у них деньги, яблоки. конфеты. Тот самый идиот, что хотел утащить амвон, видя, что мужчины заигрывают с дамами, хватают их за интимные места, тоже решил не упускать случая, пощекотал одну из пышногрудых туристок:
– Дай белочку в шоколаде.
– А душа теплого не хочешь? – вскинулась женщина. – На, попробуй.
Она заколыхалось мощным торсом, подалась назад и резко разогнувшись, смачно плюнула в лицо попрошайке. Но, видно придурок не был законченным идиотом, схватил с земли булыжник, саданул им тетю по лбу. Та всплеснула руками и рухнула наземь.
Началась драка. Да такая драка, что, казалось, рухнут купола собора Владимирской божьей матери. Все усилия крепких санитаров были тщеты, невозможно было разобрать, кто с кем дерется.
В то время отец Лаврентий пребывал в очередном запое, а потому был философски настроен на жизнь. Он выскочил из своего домика, вытянул из штабеля четырехметровую сосновую доску, и ринулся восстанавливать порядок. Не прошло и двух минут, как все было кончено. Пара клиентов лечебного заведения и несколько туристов стонали на земле, остальные участники сражения разбежались кто куда. Больше экскурсионных групп в Ильинскую психиатрическую лечебницу не привозили.
Батюшка принял очередную дозу наркоза, наскоро перекрестился, начал закусывать мелко рубленной, с морковью и клюквой квашенной капустой. До службы оставалось еще два часа, и можно было вздремнуть. Но со двора донеслись крики. Не приход, а геморроидальная лихорадка, – сплюнул отец Лаврентий, выглянул в окошко.
За углом церкви Вознесения неизвестный мужчина в серой куртке, вероятно пациент, хлестал по физиономии санитара здоровенной рыбиной, кажется стерлядкой. Такого действа святому отцу в стенах Ильинского монастыря видеть еще не приходилось. Он даже закашлялся и с нетерпением стал ждать дальнейшего развития событий.
Развязка наступила быстро и без какой-либо интриги. Медбрат сделал умелый выпад и хуком справа уложил гражданина вместе с его рыбой на асфальт прямо у паперти.
Однако откуда у идиота стерлядь? – удивился поп, выбрался на крыльцо.
Санитар нервно дергал за воротник обмякшее тело, грязно и выразительно ругался.
– Утихомирь, брат, гордыню! – крикнул он медбрату, не отрывая глаз от рыбьей тушки.
– Он мне этой шершавой тварью рожу поцарапал!
– А нечего свою рожу под что ни попадя подставлять, – заметил проходивший мимо псих..
Санитар подобрал с земли камень, запустил в душевнобольного. В этот момент очнулся находившийся в нокдауне мужчина, подхватил свою стерлядь и со всего размаху вновь хлобыстнул ею медбрата по физиономии. От мощного и неожиданного удара, санитар отлетел к стенам храма, опустился на пятую точку, завертел во все стороны изумленными глазами.
Конечно, Валя Брусловский. А это был именно он, не остановился бы на достигнутом и завершил битву еще одним ударом, но ему помешал отец Лаврентий6
– Ни к чему стерлядь зря мучить, – назидательно сказал батюшка. – Жирнее не станет.
– Бестера, – недовольно обернулся на голос егерь, но, увидев перед собой попа, просиял:
– Ваше сиятельство, отец Лаврентий!
– Я, – коротко согласился поп. – Величай меня лучше вашим преподобием, сын мой.
– Хорошо, ваше преподобие. Я к вам по делу. Вот рыбку прихватил, еще кой чего, да этот кровосос ко мне привязался.
Санитар снимал с лица ошметки копченой рыбы, озадаченно пробовал ее на вкус.
– По делу говоришь, да еще с рыбкой? – иерей поддел носком ботинка горлышко разбитой поллитровки. – Почему бы не обсудить дело с хорошим человеком? Бери-ка этого Авиценну, сейчас мы ему первую медицинскую помощь оказывать будем.
В умиротворяющей домашней прохладе, батюшка умыл санитара колодезной водой, дал полстакана водки, усадил в углу за печью. Налил себе и Валентину.
– За вселенную и ее повелителя!
Батюшка залпом опорожнил колпачок от авиабомбы, разломал руками многострадального бестера. Отщепил от толстой шкуры сочное розовое мясо, принялся старательно запихивать себе рот. Черные, с фиолетовым отливом усы и борода подернулись жиром.
С положенной для священника растительностью на лице у отца Лаврентия были ужасные проблемы. Не принимала она, несмотря на все ухищрения, божеского вида. Редкие волосья, местами рыжие, местами белые или черные, торчали в разные стороны, как бог на душу положит. Чего только не пробовал батюшка. И средство для ращения волос и краску. Все одно, выходила не борода а, черт знает что. А однажды, невнимательно прочитав этикетку, святой отец помазал лицо эфидратом. Утром его тщедушная бороденка вся оказалась на подушке и простыне. Пришлось посылать в город церковную служку Евгению за искусственной бородой. Да та, дура, купила в драматическом театре не рыжую бороду, подстать шевелюре на голове, а черную, с фиолетовым оттенком. Ну, а куда деваться?
Никто виду, разумеется, не подавал, но втихаря над батюшкой, конечно, посмеивались.
Отец Лаврентий освежил стаканы и со словами: «Иди, богомольный, юродивых ублажай», – выставил санитара за дверь.
– Какое же дело вас ко мне привело? – обратился к Брусловскому поп.
Валька собрался с мыслями, сказал:
– Родственник у меня богатый, ваше преподобие, объявился. Хочет на благо Ильинского монастыря денег пожертвовать.
– Монастыря? – вскинул брови захмелевший батюшка. – А где он тут монастырь-то? Умалишенные дибилы, прости господи, вместо послушников под святыми стенами бродят. И я средь них, как Азазель, как падший ангел обретаюсь.
– Шурин сестры, вернее, двоюродная сестра деверя….А, не важно, короче, родственник, желает по этому делу с вами лично переговорить, – запутался в семейных связях Валька.
– Отчего же теперь родственник твой не прибыл, тебя горемычного послал?
– Служба задержала.
– Слу-ужба, – протянул батюшка, – как собачья дружба. Сколько не корми пса, все одно покусает.
Пили долго и много. Когда батюшку пришел звать в церковь дьяк Филипп, иерей ухватил его за рясу. Навис над коршуном, стал увещевать:
– Мы русские люди даже в сатанинских заблуждениях святы, а потому богоугодны и вечны. Мы святы тем, что добры к другим и несправедливы к самим себе.
Перепугавшийся дьячок выбежал из дома и на вратах церкви повесил привычную всем табличку: «Сегодня службы не будет».
Под вечер, когда уже стала заканчиваться водка, иерей нагнулся к Валькиному уху, попытался за него укусить:
– Чего твоему родственнику от меня надобно, ну?
– Хочет дать денег.
– Даже в церкви никто так просто с копейкой не расстается. все норовят у бога что-нибудь выклянчить.
Поп больно сжал егерю уши.
– Пронюхал что-то твой родственник, не иначе, клад искать надумал.
– Заряйку, – честно признался Валька. – Отпусти!
– Вот оно что, заряйку! А ну-ка, братец, давай выкладывай все на чистоту. Для чего вам эта заряйка понадобилась и что она вообще такое есть.
ОБИ-21
Снилась Озналену Петровичу Глянцеву жирная помойная муха с мордой полковника Пилюгина. Насекомое противно жужжало, извивалось, пыталось присосаться длинным, как у слона хоботом к его лбу. Глянцев отмахивался от мухи, кричал, но не мог почему-то пошевелить руками, чтобы схватить и превратить в месиво эту мерзкую тварь. Наконец муха села на потолок, начала умываться кривыми, черными лапами.
– Скажите, Царевич, почему за вашу фамилию, большевики не расстреляли вас еще в восемнадцатом году? – спросила муха.
– Еще раз повторяю – моя фамилия не Царевич, а Цагевич. Что же до расстрела, видно очередь до меня не дошла. Вы же знаете, у большевиков тогда было очень много дел, – ответил кто-то мухе.
– Да, не повезло вам, – вздохнуло двукрылое насекомое, не переставая умываться.
– Это почему же?
– А потому, что сидели бы теперь в райском саду и кушали кошерный супчик.
– Если не разбираетесь в иудейских традициях, лучше не говорите ничего, Бониффатий Апраксович. К тому же в бога и в загробные чудеса я не верю.
Муха, которую назвали столь странным именем, заинтересовалась:
– В кого же вы верите, в партию?
– Ах, перестаньте. Я верю только в пространственные формы и количественные отношения.
В ответ – тишина. Муха молчала, вероятно, задумалась. Ознален Петрович попытался разглядеть, кто это там невидимый разговаривает с отвратительным насекомым, и открыл глаза. Однако сразу зажмурился, яркий свет был невыносим.
Через минуту, уже осторожно разомкнул веки вновь. Под белым неровным потолком болталась на скрученном проводе большая как солнце лампа. Она заливала пространство пронзительным светом. Теней не было заметно ни в тяжелых потолочных сводах, ни в прямоугольных арках стен, к которым были вплотную придвинуты железные кровати.
На одной из них, напротив Глянцева сидел по-турецки пожилой, щуплый мужчина в цветастом, явно женском халате и с аппетитом кушал из миски манную кашу. Во всяком случае, пахло ей. У мужчины был длинный плоский нос и, когда он наклонялся, чтобы съесть очередную ложку, казалось, что непременно зацепит им миску. В целом же он смахивал на пожилую обезьяну-носача с Каролинских островов.
На другой койке, что видна была Озналену Петровичу лишь краем глаза, полулежал, полусидел мужчина гораздо представительней первого. Он уже доел свою порцию и теперь подчищал миску пальцем.