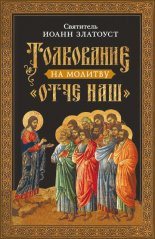Как я изменил свою жизнь к лучшему Донцова Дарья

И я рассказала забавные байки про то, как в России сдавали экзамены. Страна моего ускользнувшего детства предстала в разбойной и дикой красе. Шпаргалки, репрессии, Сахаров, бомбы и снова шпаргалки. Ни чести, ни совести, все на продажу. Так делали все, понимаете? Все!
–И вы? – прошептали они.
–Ну а как же?
Они засмеялись с неловкой угрюмостью.
В столовой я встретила взгляд.
Надо сказать, что за пару дней до этой нелепой моей откровенности ко мне на урок пришла дама. Вернее, коллега. В цепи превращений, когда незабудка становится мальчиком, а вскоре и мальчик, проживший свой срок, становится зайчиком или медведем (кто что заслужил!) – я вас уверяю: в цепи превращений моя эта дама была в свое время гремучей змеей. Хотя за плечами гремучей змеи дымились советское детство и юность, Фонтанка, Канавка, дворцы и каналы, она продолжала шипеть и извиваться, как будто вчера еще ползала в джунглях, и в маленьком, нежном ее облысении на самом затылке упрямо сквозила змеиная кожа. Глаза были узкими, черными, сильными. Улыбка, почти не сходящая с уст, измазана густо-кровавой помадой. И даже в фамилии что-то звериное: Косматова Ася.
Такая вот дама-коллега пришла на урок и сидела на нем, и все помечала своим карандашиком мои недочеты в зеленой тетрадке. Потом, окровавленным ртом усмехнувшись и быстро слизнув проступившую пену, ушла.
«Стукачка!» – подумала я, пребывая в своей лунатической фазе сознания.
Экзамены кончились.
Лето настало с внезапностью первой любви: все цвело. Магнолии были пышны, как головки резвящихся в небе детей-ангелят. У здешней весны нет тех сказочных запахов, которые памятны мне по Москве: ни запаха дыма из мокрых садов, ни жадного запаха робкой травы, ни запаха первой сирени, которая способна смутить даже черствое сердце – настолько, что скучный его обладатель, зайдя в палисадник и сев на скамью, сорвет себе веточку и позабудет, зачем разругался с женой в пух и прах, зачем сгоряча дал по морде соседу…
В самый последний перед каникулами день меня попросили зайти в кабинет к заведующей кафедрой.
Американские слависты делятся на две категории: тех, которые стесняются говорить по-русски, и тех, которые не стесняются на нем говорить, несмотря на уморительные свои ошибки в этом непростом языке. Моя заведующая принадлежала к первой группе. Закусив еле заметную нижнюю губу, она очень быстро, на чистом английском, сказала, что Гарвард на следующий год со мной не намерен сотрудничать.
Баста.
Это было оглушительной новостью.
Кровь прилила к моему лицу, и несколько секунд перед глазами пульсировала яркая темнота. Потом я опомнилась и дрожащим, хотя, наверное, очень злым голосом спросила, в чем дело.
Малиновые пятна переползли с моего лица на ее. Понизив голос и оглянувшись на тяжелую, чудесного старинного цвета дверь своего кабинета, она сообщила, что на меня жалуются.
–Студенты? – воскликнула я.
–И студенты, – сказала она с выражением.
Я спускалась по лестнице, оскорбленная и потерянная в дебрях американской действительности, как герои Драйзера.
Гнев переполнял меня.
Если бы Косматова Ася, стукачка, змея и к тому же подонок, была бы тем домиком жалким, той хижиной, где жила невеста пушкинского Евгения, мой гнев снова смыл бы и домик с невестой, и все вокруг домики – с тою же силой и с той же безжалостностью, как Нева, которая преодолела гранит и всем показала, что значит стихия!
Свободная, если поверить поэту.
Стихии во мне очень даже хватало, но, кроме стихии, нужна и работа.
На следующий день я приняла неистовое решение: не продолжать своего безрадостного романа с американской славистикой, а тут же освоить любую профессию.
Бесы, смущающие человека на всем протяжении жизни его: от мирных яслей до последнего вздоха, влетели, как пчелы, впились, зажужжали. И я, вся изжаленная и искусанная, решила, что стану теперь косметичкой. Учиться недолго: три, кажется, месяца, работы полно.
Я буду работать с народом. И так даже лучше: народ вам не Гарвард, народ не предаст.
По-русски слово «косметичка» заключает в себе нечто фамильярное и снисходительное, вроде как: «закорючка». По-английски это звучит намного солидней: «специалист по эстетике».
Машины у меня не было, и на курсы обучения «эстетических специалистов» я ездила на трамвае.
Но это была уже не прежняя «я» – не та, которая прошлой осенью, разрываемая счастьем, садилась на мягкое красное сиденье автобуса, летящего почти от самого моего дома до Гарвардского университета, не та, которая с сумкой, полной книг и тетрадей, вдыхала листву и землю гарвардского двора, а потом по пологой широкой лестнице поднималась на третий этаж, окруженная доброжелательными взглядами аккуратно причесанных профессоров, педагогов и попечителей, которые смотрели на меня с портретов, украшавших это почтенное здание.
Теперь я была женщиной, на лице которой ясно читалось, что она, как говорили в нашей московской коммуналке, «трудящая», поэтому ранним утречком эта «трудящая» быстренько моется-споласкивается, волосы жгутом закручивает, садится в трамвай – у нас говорили «транвай» – и шасть на учебу! А там – никаких ни дерев, ни портретов, а спуск прямо в очень глубокий подвал, где свет на всем – мертвый, слегка синеватый. Окошек-то нету, на то он и подвал.
В подвале нужно было первым делом «пробить время», то есть отметить карточку, во сколько часов и минут и секунд ты прибыл учиться эстетике.
Потом нужно скоренько переодеться: на ноги – белые тапочки, на голову – белую косыночку, кофточку домашнюю, «светскую», так сказать, – в сумочку, и вместо нее – чистый белый халат, застегнутый прямо до самого горла.
А преобразившись в покойницу, сядь, раскрой свои записи с прошлого раза и слушай учительницу.
Все это так живо напоминало московскую школу, в свое время отпустившую меня на волю с документом о полученном среднем образовании, что иногда даже казалось, что я участвую в каком-то розыгрыше. Как могут свободные взрослые люди пугаться того, что их будут ругать за плохо разглаженную косынку? За то, что пришла в белых туфлях, а не в тапочках?!
Я не делала ничего нарочно, но как-то само получалось, что иногда мой зеленый трамвай слегка опаздывал, а иногда я действительно забывала дома белые тапочки. На втором месяце обучения меня попытались отчислить, но потом разрешили исправиться и наказали тем, что я должна была оставаться в школе на вторую вечернюю смену. Я стиснула зубы и приказала себе до дна выпить чашу унижения, получить бумажку и устроиться на работу.
Призрачность моего замысла становилась все очевиднее: я плохо спала по ночам, а утром не могла есть от тоскливого волнения. Перед выпускными экзаменами, на пороге моей яркой будущей карьеры, одна из учительниц – пышная, как кусок свежего торта, с глазами совы – вдруг меня отругала. Какое-то сделала мне замечание и даже повысила голос. Бывает. «Эстеты» – ведь тоже, в конце концов, люди, и нервы у них не канаты, поймите. Но тут меня вдруг прорвало, как плотину: я стала безудержно, сладко рыдать. Вокруг с вытянутыми лицами сбились в кучу матери детей и подростков – мои, так сказать, «одноклассницы». А четверо кураторов – владелица школы с серебристой головой и молодыми розовыми щеками, две ее помощницы (та самая, которая сделала мне замечание, и еще одна, пугливая, с разбитой жизнью), а также любовник начальницы школы, который имел непонятную должность, – стояли, не зная, что делать. Опытные люди мне много позже объяснили, что будь я слегка поумней – рыдать нужно было не так, бескорыстно, а, всех напугав своим жутким рыданьем, самой звонить в «Скорую». Примчалась бы «Скорая», и в тот же вечер закрылась бы школа. Потом, значит, тяжба, суды и застенки руководителям школы, а мне – компенсация в денежных знаках. Поскольку они же меня довели, и я из спокойной и честной «трудящей» вдруг стала почти невменяемой!
Но я, как всегда, упустила свой шанс: рыдать – порыдала, и все. Успокоилась.
Однако они ничего не забыли.
Экзамены были в конце ноября. Пришли волонтеры-клиенты, уселись на кресла, закинули головы. Мы все, молодые «эстеты», накрыли им личики белыми тряпками и начали эти помятые личики разглаживать и увлажнять. Ко мне легла женщина старше восьмидесяти. Не знаю, чего я ей там нанесла на дряблые веки, но женщина стала чернеть и пытаться привстать на своих ослабевших ногах. Кураторы кинулись к ней с ломким криком. Старуху спасли, но мне сразу сказали, что даже и речи не будет отныне о сертификате: я им опозорила школу, и бизнес, налаженный в муках, разрушила.
Но тут уж и я рукава закатала и тихо ответила, что если так, то я расскажу в нашей русской «комьюнити», какие у них тут дела и порядки. И мы, настоящие русские женщины, устроим так, что больше никто в этом городе в их мерзкий подвал никогда не заглянет.
Тогда они выдали сертификат и возненавидели нас, русских женщин.
Приближалось Рождество.
Мелкий, голубоватый в сумерках снег беззвучно струился на землю.
Уже пахло хвоей. В Центральном парке огромное неподвижное дерево переливалось огнями и звездами, работал каток. Бездомные, не пожелавшие быть укрытыми от холода в городских приютах, разворачивали рваные спальные мешки, укладывались на люки, из которых мягко валил пар, и укутывались замасленными одеялами. Город стал празднично-беспокойным и одновременно уютным, зима создавала внутри себя свой порядок.
Это было лучшее время для того, чтобы устроиться на работу: перед Рождеством женщины начинают волноваться, как чайки, которые чувствуют приближение рыбы. Косметические салоны едва справлялись с наплывом клиентов. Ни на секунду не забывая, как розовощекая хозяйка железным голосом пообещала, что никто и никогда не возьмет меня на работу, я села в трамвай и приехала на самую модную, самую дорогую, полную богатых магазинов, галерей и ресторанов Ньюберри-стрит.
В центре Ньюберри-стрит, опять же в подвальчике, уютном, с глубокими креслами, находился в те времена знаменитый салон Элизабет Грейди. Кто такая была эта Элизабет, жива ли она или хрупкие косточки бедняжки промерзли в бостонской земле – не знаю и вряд ли когда-то узнаю…
По лестнице, на каждой ступеньке которой стояла маленькая сверкающая елочка в цветочном горшке, я спустилась и отворила дверь.
Запах духов и еще чего-то – свежего, терпкого, вкусного – охватил меня, и сердце внутри задрожало в предчувствии. Через пятнадцать минут та же самая я – в том же пальто и с тою же сумкой – поднялась обратно по лестнице, уставленной елочками, совсем в другом качестве: частицей огромной и пышной промышленности, которая служит лицу человека.
А то ведь такие случаются лица, что с ними и на улицу выйти неловко!
Природа безжалостна, но, слава богу, есть мы, «эстеты», и знания наши, и вкус наш, и опыт, и наше стремленье отдать это все человеческой массе.
На работу меня взяли сразу же, не задав почти никаких вопросов, по одной причине: мой русский акцент.
Не хуже французского, даже еще лучше.
На Ньюберри-стрит горели огни и переливались звезды, пахло хвоей и шоколадом, редкий снежок замедлял свое простодушное движение у самых больших фонарей и словно смотрелся в них, как в зеркала.
Я спрыгивала с трамвая и, понимая, что опять опоздала, ныряла на дно ослепительной улицы.
Чернокожая, с золотистыми зрачками под густыми наклеенными ресницами, Дэнис укоризненно качала головой на мое опоздание и кивала в сторону очередного незнакомого человека, который дожидался меня, небрежно перелистывая глянцевый журнал:
–А вот и Ирина. Она вас обслужит.
Я просила извинить меня за опоздание, улыбалась как можно приветливей, просила подождать ровно две минуты, быстро шла по узкому коридору в свою комнату, зажигала там свет, снимала пальто, набрасывала розовый халатик – и возвращалась обратно в холл, где незнакомый человек, черт которого я по-прежнему не замечала, уже переминался с ноги на ногу, встав со своего мягкого кресла. Я летела впереди, не стирая с лица улыбки, как будто мне лень было дважды раздвигать губы заново, а шаги незнакомого существа – мужчины или женщины – торопились за мною следом.
Войдя в комнату, я строго сжимала губы, давая понять, что сеанс будет нешуточным, просила раздеться до пояса, – я подожду за ширмочкой, не торопитесь! – лечь на пологую кушетку и укрыться до подбородка вот этой – не той, а вот этой! – простынкой.
–И обувь снимать? – спрашивал меня чей-то голос.
Преодолевая легкое отвращение, я беспечно отвечала, что можно и снять, а можно и оставить. Как хотите, что хотите, лишь бы вам было удобно.
И скрывалась за ширмочкой.
Тут на меня почему-то сразу наваливался сон. Я слышала легкое позвякиванье чужого браслета, часов или бус, скрип молнии, шорох одежды, а сон обнимал меня мягкими лапами, пытаясь свалить прямо на пол, где я, словно Варька из раннего Чехова, готова была погрузиться в беспамятство.
Потом раздавалось кряхтенье кушетки, звук скрещиваемых под простынкой ног, осторожное покашливание. Невидимый занавес раздвигался – и начиналось мое жалкое клубное представление.
Театр одной крепостной.
Обеими ладонями пробивая плотный туман сна, как пробивают морскую воду, входя в нее и нащупывая ногами дно, я выныривала из-под ширмочки и, одарив незнакомое существо улыбкой, усаживалась на высокий крутящийся табурет. После этого я быстро проводила ладонями по постороннему лицу, сильно, но вежливо нажимала жертве на лоб, словно пытаясь полностью отключить у нее сознание, и принималась задавать самые нелепые вопросы тем самым голосом, в котором содержался драгоценный для моей карьеры русский акцент:
–Любите ли вы зеленые яблоки?
–Зеленые… что?
–Яблоки, яблоки, – журчала я на одной ноте, что, как известно, способствует расслаблению лицевых мышц. – Вы будете очень удивлены, узнав, что семьдесят пять процентов того, как выглядит ваша кожа, зависит от количества зеленых яблок в вашем ежедневном рационе!..
Жертва пучила глаза.
–Мы очень многого не знаем о своей коже, – бормотала я, стискивая большими пальцами обеих рук углы чужого рта, чтобы существо молчало: голоса раздражали меня. – Секрет ее эластичности содержится в кожуре обыкновенных зеленых яблок.
Потом я приступала к пытке, расковыривая щеки и нос беззащитного человека ногтями, обернутыми полотенцем.
–Знаете французскую пословицу? Pouretre bele il faut souffrir – красота требует жертв?
Сердце мое звонко стучало от злорадного удовольствия, когда, истощив запас своего отвращения к любимй работе, я бросала в ведерко слегка окровавленное полотенце, слышала глубокий, покорный вздох и шелестящим шепотом сообщала, что теперь наступает самая приятная часть процедуры: лечебная маска и глубокий сон.
Маску я делала исключительно по вдохновению минуты.
На полочке под зеркалом стояло множество хорошеньких баночек с разноцветными мазями. Каждая баночка была подписана: «ментол», «клубника», «цинк», «цитрус», «имбирь» и так далее. Не имея ни малейшего представления о том, что будет, например, если смешать клубнику с имбирем и добавить туда побольше цинка, а потом какого-нибудь масла, я зачерпывала маленькой деревянной ложечкой немножко красного из одной баночки, желтого из другой, сыпала струйку какого-то искристого порошка из третьей, потом перемешивала и смотрела, что получилось. Чаще всего получалось красиво и пахло приятно.
–Это именно та маска, которая необходима вашему лицу, – бормотала я. – Действие ее рассчитано на двадцать пять – тридцать минут, и потом вы, глянув в зеркало, себя не узнаете!
Я гасила большую лампу, оставляла что-то вроде крошечного красного ночника, просила закрыть глаза и для верности придавливала веки смоченными в теплой воде марлевыми салфетками.
–Поспите, поспите, – шаманила я. – Сон так же необходим, как и зеленые яблоки. А масочка будет работать во сне…
Дыхание погружаемого в колдовство организма становилось глубоким и ровным. Иногда раздавалось посапывание, которое я хоть с трудом, но терпела. Но если спящий начинал громко и сладострастно храпеть или свистеть, как дачная электричка, я тихо дула на переносицу или переворачивала на веках марлевые салфетки, и неприятные, мешающие мне сосредоточиться звуки прекращались.
Была тишина, темнота, падал снег.
Я сидела на высоком табурете, крест-накрест обхватив себя руками, забыв о полуголом, беспечно спящем в моем присутствии краснолицем или синелицем человеке (состав моих масочек давал самые разные цветовые результаты!), и время затягивало меня в свою глубокую воронку, где вспыхивали, словно искры, минуты, уже пережитые мною… Это были не воспоминания и тем более не картинки прошлого, это были переживания, которые ждали своего завершения, словно тогда, когда они происходили в действительности, душе моей не хватило на них ни сил, ни жизненного опыта.
Я знала, что снег идет здесь и сейчас, и он пахнет хвоей, но только и снег, и еловый запах вдруг высвобождались из «здесь и сейчас»: они становились приметой Москвы, в которую навеки впечатался след моих детских санок…
Жизнь переплеталась внутри, как коса, узлы в ней развязывались, а все пустоты затягивались, наподобие ран.
Почему ничего подобного не происходило со мной в другие минуты? Почему нужно было забраться в этот подвальчик, нацепить на себя розовый халат, вооружиться чужим языком, чужим, вязким голосом, слегка устыдиться своей новой роли, и тут-то оно и пришло?
Мои переживания были такими сильными, чувство вины, почти не знакомое прежде, за все, совершенное в жизни, накатывало с такой беспощадностью, что я и боялась этих минут, и упивалась ими.
Мне казалось, что я долго бежала куда-то, задыхалась, спотыкалась, ободрала руки и ноги и вдруг оказалось, что все это зря: бежать было некуда.
А главное – незачем.
Оказалось, что за все время моего марафона я ни разу не осталась наедине ни с собой, ни с тем, что копилось внутри, пока санки царапали снег на Плющихе, пока из меня, чуть живой от потери большого количества крови, вытаскивали ребенка, и доктор, который сказал мне в палате: «Забудь обо всем, мы спасем тебя», – был сам потрясен, что мы с ребенком выжили: оба. И все это – санки, и снег, и взросление; и сын, мне доставшийся чудом и кровью; и столько ошибок, и столько любви, отпущенной мне; и смертей самых близких; и лес, где сначала растили меня, поскольку наш дом был у самой опушки, а после на этой же самой опушке я тихо качала коляску с ребенком; и все эти веточки, ветви, цветочки; весь шум поездов, запах мокрой травы; какие-то встречи, какие-то слезы и радуги радостей – жило внутри, но главного я так и не поняла: прошедшего времени нет у души.
Оно есть у тела, поэтому смерть – удел только плоти, бояться тут нечего.
Время поднималось внутри, как огромная волна на знаменитой картине Хокусая, который со своим чисто японским бесстрашием написал, как вода, вся в мелких и жадных когтях, вылупившихся из ее белой пены, стоит выше гор, выше всех их снегов и выше далекого облака в небе.
Это поднявшееся из глубины всей меня и остановившееся внутри меня время ощущалось, как особая, самостоятельная величина, к которой я никогда не привыкну, потому что она больше, чем я, и все, через что я прошла и пройду.
Сладко спящему под простынкой надлежало тем не менее проснуться, чтобы я, как с дитяти, стерла с него свою волшебную масочку и предложила последовать за мной по тому же коридору, в тот же уютный холл, где он, румяный и сладко выспавшийся, должен был заплатить строгой Дэнис за красоту и полученное удовольствие.
Был тут еще один, довольно щепетильный момент: а именно – чаевые, к которым я все не могла привыкнуть, несмотря на их очевидную практическую полезность. Поначалу я вела себя самым странным образом: а именно прятала руки за спину, делая их недоступными для людской благодарности, но оставался еще карман, в который, не обращая внимания на яркую краску, заливавшую меня, умело засовывали две-три бумажки.
Теперь и это не удручало: обида на судьбу, спустившую меня с широкой гарвардской лестницы, утрачивала свою силу.
Я уже не тяготилась своей работой и не вспоминала об унижениях, пережитых за месяцы учебы. Четыре вечера в неделю я, как подарка, ждала минуты, когда под простынкой заснет человек, а я стану думать, и думать, и думать.
То, что это состояние может привести к чему-то еще, кроме слез и наслаивающихся друг на друга воспаленных переживаний, не приходило мне в голову, пока однажды вечером – особенно снежным, особенно праздничным, словно бы ждущим того, что сейчас загорится на небе звезда Рождества, хотя до Рождества еще оставались какие-то дни, – этим вечером, подробности которого остались в памяти, как будто бы все это было вчера, я вдруг достала из сумки записную книжку, ручку и стала писать без единой помарки.
Сначала подкралось простое название: «Ляля, Наташа, Тома».
Потом вспыхнула перед глазами стершаяся фотография – именно вспыхнула, несмотря на свою тусклость: моя мама в венке из ромашек. Потом – опять она, полузакрывшая лицо огромной белой кошкой и улыбающаяся из-под пушистой кошачьей головы…
Я потеряла ее в трехлетнем возрасте, и тоска этой потери не успела прорасти глубоко: я слишком мала была для такой боли. Сейчас я ощущала тоже не боль – было что-то, что я порывалась успеть записать, но память моя была куцей, короткой, отдельные факты из маминой жизни, рассказанные мне другими, мешали, и я их отбросила.
Снег шел и шел.
Мерцающий снег, словно в детстве.
И стены салона «Элизабет Грейди» меня уже не защищали от детства: мы с мамой остались в нем наедине.
Потом я исчезла.
Она была в центре: в венке из ромашек и в еле заметном венке из моих непролившихся слез…
Через две недели оказалось, что повесть «Ляля, Наташа, Тома» дописана.
За это время я поняла, что несколько месяцев «эстетической» учебы и месяц на Ньюберри-стрит пора отодвинуть, как коврик у двери.
Они отыграли свое. Отработали.
А дальше были – глубина, синева.
Похвали меня, мать Анна
Елена Нестерина, прозаик, драматург
Начала писать еще во время обучения в Литературном институте им. М. Горького. По словам автора, ее творчество можно охарактеризовать как социальную фантастику с элементами чуда и волшебства. Успешно сочетает работу в издательстве, творчество и заботу о семье.
* * *
Мать Анна, ну ты-то помнишь, как маленький солдат всех спас?
Думаю, вряд ли это помнит твой жених, я, кстати, издалека наблюдаю за движением его творческой биографии. Его приечательную мандибулу и комическую фамилию я иногда вижу или на экране (по телевизору шла как-то передача про колдунов и загадки рейха) или на сцене – в самодельной актерской пьесе с продолжением. Пьеса слабенькая, да и он хоть и имеет роль начальника, а играет хуже всех, и на полюсе его черепа, противоположном мандибуле, уже образовалась плешь.
Мужчины тут у нас стареют, мать Анна.
И похвали меня из прошлого, потому что никто из тех, кто остался жив-здоров и продолжил учиться на актеров, этого тогда не сделал.
Ну вот, мать Анна, помнишь же, как твой курс, Машер, я и будущий доктор О, отправились на природу?
Артисты пели, артисты играли на гитарах, артисты расположились в лесу и продолжили петь.
Звали тебя тогда иначе, и ты, мать Анна, ходила в широченных шароварах и была самой талантливой на курсе. Я все думала: зачем тебе такие широкие штаны, подхваченные внизу резинкой, где ты их только откопала?..
Чего меня с вами понесло – молчать и слушать, как обычно? Безделье, наверно. Доктора О, видимо, тоже. Первое мая же, студенты не учатся. Мы с ней сидели себе тихонько, слушали, молчали.
И тут в лесу появились МЕСТНЫЕ.
Не все, разведчики. Остальных было только слышно – вдали ревели мотоциклы и доносилась свирепая речь.
Местные хотели бить артистов. Местным даже издалека их гитары не нравились. Местные уже выпили – и хотели отобрать городскую добычу.
Артисты надеялись, что все обойдется. Или – на добрых богов театра.
Но в лесу были только сосны, сумки с едой и бутылками да местные вида ужасного – и, наверное, их местные боги.
Девушки в предлагаемых обстоятельствах сжались в кучки. Тут кучка, там кучка, но кучки тоже можно бить и пинать ногами.
Кто-то из артистов вышел на переговоры. Этого местным было только и надо. Их спектакль начинался.
Бог защиты наивных? Или его ангел-заместитель? Кто-то из них попустил меня подойти к одному из местных и сказать: «Мотоцикл! Настоящий! Твой? А покатай меня? Я никогда не каталась».
Кто из нас в тот момент был артист? Кто изобразил детское восхищение – такое, что оно пробрало мордастого гопника на мотоцикле? Хвали же меня вот здесь, мать Анна!
Эти слова прозвучали так неожиданно, наверное, что оба местных замолчали.
–Покатай, а? Ты быстро ездишь? Но как – тут же одни деревья? Как вы только не врезаетесь…
И какой же местный выдержит подобное сомнение?
–Как мы не врезаемся? – местный переглянулся с местным. Погладил своего металлического коня. – Да мы – нормально. Поехали!
Он хлопнул по сиденью позади себя.
–И подруга моя тоже хочет. Покатаешь ее после меня? – доктора О пришлось тоже привлекать.
О – вот молодец – закивала: «Хочу, да, хочу»…
–Да чего после тебя – я давай покатаю! – ухнул другой местный.
Доктор О, явно первый раз в жизни, полезла на мотоцикл.
К третьему местному никто не сел. Он сначала мчался с нами, а потом свернул в сторону.
И они очень хорошо катали. Быстро.
В деревья не врезались.
Я громко спрашивала в ухо своего местного что-то такое, которое, видимо, у него никто никогда не спрашивал. Он интересовался, удобно ли мне.
И катал.
И когда он катил меня по трассе, появилась – хорошо, мать Анна, ты ее не видела – конкурирующая группировка местных.
Увидев моего местного (Серегу, а второго звали Мешков), конкурирующая группировка дала по газам и погналась за нами. Мешков, который сильно отстал, это тоже понял и резко развернулся. Мы влетели в лес – надо же было сообщить нашим!
«Наши» не сразу снялись с места. Но их было больше – и конкуренты об этом не знали.
Высадив нас с О недалеко от актерского лагеря, Сергей и Мешков умчались на войну.
–Класс, уехали! – обрадовались предводители артистов.
Как взревели и затихли мотоциклы – было слышно хорошо.
Темнело.
Шансов, что местные вернутся нам валять, становилось все меньше. В темноте по лесу на мотоцикле – это вам не тру-ля-ля…
Артисты снова пели, артисты развели костер и поставили две палатки, артисты вытащили еду и напитки.
Но мотоциклы вернулись. Два.
Бросив круговой танец, артисты напряглись.
Серега и Мешков появились с большим пакетом печенья и бутылью лимонада. Глаз у Мешкова не действовал, он был закрыт гематомным мешком. Заплыл глазик. Доктор О оттянула кровавую кожу затянувшую глаз и констатировала, что сам он цел и видеть должен.
Это было приятно.
–Мы их сделали, – сообщил Серега.
Этой радостью ему хотелось поделиться именно с нами.
–Поздравляю, – улыбнулась я, потому что смотрел он преданными глазами в лицо именно мне. – А остальные-то ваши где?
–На дискотеке.
–А вы чего не поехали?
–А мы к вам, – Серега сделал улыбку своим крупным детским лицом. И ткнул в меня пакетом с печеньем:
–Спасибо.
–За что?
–Да предупредили, чего за «что»? – рявкнул Мешков. – Мы на дороге-то их заметили. Ну и вот…
–Вовремя заметили, – добавил Серега. – А если бы на трассу кататься бы не поехали, то все.
–Они бы того… Раньше…
–Ага.
Люди, а особенно такие чувствительные, как артисты, быстро понимают, когда опасность минует. Артисты ощутили, что местные не опасны и подкрепление не придет, и для них Серега и Мешков перестали существовать.
Зазвенели бутылки, забренчала гитара.
А местные не уходили.
Серега из чьих-то тонких рук отобрал гитару, сыграл три аккорда, поглумился, как водится, выбирая песню, которую хотел бы заказать, артист стал исполнять, Серега слушал-слушал – да и быстро утомился…
От песен утомились все.
Кроме самих артистов. Они были неистощимы.
А утомленные все – я, О и двое местных – притаились у палатки и стали есть печенье.
Что хочет народный богатырь от того, от кого слышит связную речь?
Правильно, историй.
Серега и Мешков старательно не ругались матом – в те времена простые парни с понятием подчеркнуто не ругались матом при интеллигентных девушках. Они слушали про Слейпнира, восьминогого коня бога Одина (он их просто потряс, Серега несколько раз прослушал и постарался вызнать о нем все подробности); про Нибелунгов, про путешествия викингов в Гренландию; и как клады в старые времена закапывали, и какие приметы для того, чтобы их найти, существуют; и как морок водит по лесам, и что светится в болотных огнях, и что такое огни святого Эльма…
Доктор О добавляла про болезни, раны и боевые увечья.
А Мешков с Серегой все спрашивали и спрашивали…
Нам дали миску каши на всех, вина – но местным-то вино как слону дробина, они отказались в пользу нас с О.
Как раз лимонад кончился, печенье уже не лезло, чай не скоро, а с вином оказалось замечательно.
Быстро наступило утро, и стало так холодно, что все вспомнили про первый автобус.
Машер, О и меня на остановку отвезли Сергей с Мешковым.
А вы, мать Анна, брели пешком, и ты отсвечивала среди осин своими широченными шароварами. Они у тебя внизу намокли – и штаны съезжали под их тяжестью. Это было смешно: ноги, как груши, сверху тонкие, снизу наливные, но в автобусе ты села на колени к своему жениху, и груши спрятались.
Мать Анна, помяни в своих молитвах меня – и наш прекрасный русский язык, мое владение которым спасло нас от дубины народного гнева, зачаровав простого русского парня Серегу.
И Серегу помяни, и Мешкова.
Надеюсь, живы.
Сверкащий камень
Лариса Рубальская, поэт-песенник, прозаик, переводчик с японского
Я всегда любила слушать рассказы людей. А потом пересказывать их своими словами, попутно добавляя то, что, как мне казалось, сделает сюжеты более интересными. Так появлялись рассказы и стихи. Теперь это стало главным в моей жизни.
* * *
Помню, как в послевоенном дворе мы, дети, искали «сверкащий камень». Да-да, именно сверкащий – так мы говорили. Это были небольшие кусочки то ли мрамора, то ли булыжника, мы находили их на улице, чиркали друг об друга и ысекались искорки. Они сверкали в наших ладошках, не обжигая, и казалось, озаряли нас каким-то сказочным огнем. И вот так же я потихоньку-понемногу всю жизнь чиркаю мысленно прекрасные камешки, и искорки превращаются в стихи и рассказы. И ничего волшебнее для меня на свете нет.
– Митрофанова, покажи-ка грацию – в маленьком клубе, разместившемся в полуподвальном помещении дома с осыпающейся штукатуркой, где занимался наш танцевальный кружок, – командовал «балетмейстер». Он сам себя так обозначил. Он выделял эту Митрофанову за какую-то там плавность движений. И Митрофанова плыла лебедью под музыку, несущуюся с пластинки. Под эту музыку лучше бы было плясать Барыню или Цыганочку, какой там лебедь! Но Танька эта, дылда тощая, на цыпочки вставала, чтобы балетмейстеру угодить. Он был вообще-то хороший дядька, фронтовик. А до войны мечтал танцевать в Большом театре, а мечтать перестал, когда его ранило в ногу. И нога не сгибалась – какие уж тут танцы. Какие-какие? А вот такие – в клубе девчонок обучать. Он и слова балетные знал – батман, плие… После Митрофановой хвалил за гибкость рук Жаворонкову, за музыкальность Белову и так всех по очереди. А до меня эта очередь никак не доходила. Получалось, что я хуже всех. Я расстраивалась и, чуть не плача, просила: «А мне-то что продемонстрировать?» Балетмейстер ойкал, и, чтоб меня не обижать говорил – а ты, Лариса, покажи-ка нам настроение! И тут я пускалась в пляс – руки вместе, руки врозь, чечеточку путаную ногами, веревочку тоже – ножка за ножку. А лицом делала разные радостные гримасы, и все наши лебедушки моим настроением заражались, и учитель танцев радовался тоже.
Теперь я понимаю, что еще тогда, в далекие годы, я никаких надежд не подавала. Первая от хвоста. Но если нужно было настроение создать, то тут я пригождалась. И стало это для меня такой наукой: «Делай только то, за что тебя хвалят».
Бабушка с дедушкой мной гордились почему-то и объясняли всем, что я вундеркинд. У нас во дворе это слово замысловатое никто особенно не понимал. Но бабушка-то моя, Марьвасильна, в гимназии когда-то училась и знала много такого, чего никто, кроме нее, во всем дворе и слыхом не слыхивал. Вундеркинд, то есть я, как все дети, вставал при гостях на табуретку, складывал ручки на груди, глазки закатывал и декламировал «Однажды в студеную зимнюю пору». Причем при словах «был сильный мороз» так жмурился, что у всех, кто его, то есть меня, слушал, мороз этот просто шел по коже. Да, кстати, вундеркинду в ту пору было около трех лет.
А других талантов у меня не было совсем. И достигший школьного возраста вундеркинд оказался туповатым ребенком. И чем старше я становилась, тем непосильнее происходил процесс моего обучения. Ни одна наука мной не усваивалась. Я приводила в бешенство учителей, потому что им приходилось тратить на меня время, объясняя то, что все остальные уже давным-давно усвоили. Получать хотя бы тройки мне помогала наша сердобольная отличница Ритка, сидящая за первой партой. Она подсказывала мне громким шепотом правильные ответы и давала списывать контрольные. Учителя смотрели на это сквозь пальцы, потому что второгодники им были не нужны – РОНО требовал хорошую статистику. «На осень» я оставалась три раза – то по физике, то по химии, то по алгебре. Но все-таки я не была последним человеком в школе, потому что учеба учебой, но ведь бывали и утренники, а потом и вечера с танцами. И вот тут я – главная. «Рубала, покажи настроение» – и я показывала. Все свои умения – и стихи с выражением, и танцы – ножки веревочкой. Одним словом, целый концерт могла одна устроить. Даже учителям нравилось. «Если бы она так же училась… – сокрушались они вслух и сочувственно смотрели на мою маму: – «Куда ж дочка-то ваша после школы пойдет? Ах, в институт? Да туда таких не принимают. А-а-а, машинисткой устроится? – вот это правильно. Это ее потолок».
На выпускном Ритка танцевала со Славиком. А я ей завидовала. Потому что в моей тетрадке, в которой я составляла мужской идеал моей мечты, такие тетрадки были у всех девочек нашего класса, был изображен именно этот Славик – и рост в сантиметрах, и вес в килограммах, и цвет волос и глаз. Даже идеал этот у меня букву Л не выговаривал, говоря вместо нее В – шоковад, вампочка, шкова. Ну, сами понимаете, с кого был идеал полностью списан.
Славик, кстати, до золотой медали чуть-чуть не дотянул, а серебряную, конечно, получил. Так что они пара – отличники, умники оба. Идеал мой к ней щекой прижался, она вся красная стала. А я дура дурой, танцевать никто не приглашает, кому я нужна – опять на осень – в одиннадцатом-то классе.
Подружка моя, Наташка, сразу после выпускного с Витькой из параллельного класса расписалась и через полгода Катьку родила. Осенью почти все наши студентами в институты свои потопали, а я по призванию и по способностям – машинисткой.
Дальше, как говорится, шли годы, шли годы. Я, как муха, так и висела на своем «потолке». Правда, он чуть-чуть менялся. Но все равно оставался на одной высоте – машинистка, корректор, библиотекарша. Со своими школьными ребятами я почти не встречалась. Один только раз Наташку видела – мы в магазине, в очереди в кассу стояли, расплачиваться. У нее Катька на руках была, кошелек доставать неудобно. Ну вот я и заплатила за нее. Поговорить-то не получилось – Катька орала как резаная.
Я жизнь свою сравниваю с винтовой лестницей. Сто раз повернуть надо, пока наверх поднимешься. Если, конечно, сил и дыханья хватит. А еще она похожа на детскую игру – помните, такую – бросаешь кубик, сколько на нем точечек выпадет – от шести до одной. И по игровому полю – то вперед и вверх, то назад откатишься – смотря на какую картинку попадешь. Но, представляете, хоть мой кубик никогда не выпадал на шесть, а в основном на один или изредка на два, но назад я ни разу не откатилась. Потихоньку – вперед, вперед, вверх.