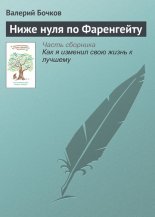Плешивый мальчик. Проза P.S. (сборник) Попов Евгений

Черт с ним, с морозом, когда рукавицы с шапкой есть и кровь молодая. Ай, да черт с ним! Я Сашу толкнул, а он отскочил, ногой трах-тарарах по дереву, и клочья мне за шиворот – белые, колючие, холодные. «Ой, хи-хикс!» Раздовольнехонький. Тут уж я тепло больше экономить не стал. Снежок лежалый из сугроба выхватил и Саше прямо в харю. Призадумался он.
Так-то вот с шуточками и прибауточками народными добрались мы до подстанции, где газы жидкие в неограниченных количествах по безналичному расчету выдают.
Девушка там работала. Нина. Ее нехорошие люди проституткой звали, но нам такая формулировка ее поведения ой-е-ей как не нравилась. Дура-то она была, уж это точно. А все остальное от глупости: пергидроль, мушка самодельная на физии, клипсы – чего не натворишь. Так ОН же потом, кобель, закурит немецкую сигаретку с фильтром. «Да, вот какая такая стервь», – говорит, а глазенки-то уж бардачные у него, у него самого. А остальные, что слушают, что рты поразевали: «Ну-ну… Это ж нужно… Прямо тсс, как не комильфо…»
Вот убивал бы гадов таких из автомата без малейшей жалости. Я Нинке галантно говорю:
– Здорово, полупочтеннейшая скиадрома.
А Саша губами «сип-сип-сип».
А Нинка:
– Ой, я усохну.
– Не сохни, – отвечаю, – кислород давай по безналичному для нужд.
А Саша:
– Да – э-э… девушка…
А она:
– Ой, я совсем усохну.
Кран открыла, шланг в баллон, дымится кислород. Дым белый, шип змеиный от кислорода идет, а она и не смотрит и не слушает, она на нас взирает, какие мы молодцы-петушки, Васи Теркины с мороза. И мы уже уходили, уже баллон с двух сторон за стылые ручки взяли, а она вдруг на крыльцо выбежала. Шаль набросила, рукой машет, а мне вдруг так горько стало, так больно. Думаю, пропадешь ты зазря, дура красивая, пропадешь…
Но я себя одернул, отнеся причину этой тихой грусти за счет тяжести баллона, за счет сорокаградусного мороза и вообще за счет этого чертова дня.
И тронулись дальше, захрустели по снегу. Молча идем, что-то думаем. Думающие люди-то мы, слышь? На все можем «нигил» начепить, а можем и не начепить. Это уж как возжелается.
Но смех-то смехом, а холод кусает, гадюка. Ручки эти будто в отрицательном пламени грели, прямо совсем отрицательно раскаленные, и, чтоб не нанести повреждения наружному кожному покрову, зашли мы погреться в гастрономический магазин, и Саша сел на баллон, чтобы не смущать народишко, который знай себе и знай снует и снует по магазину. Подходит мужичок в шапке. Одно ухо вверх, другое – вниз, как у овчарки нечистых кровей.
– Чо несете, ребята?
– А то несем, что тебе знать не положено.
– Тогда давай по рублику, что ли?
– Мы, может, сегодня масштабом выше, – закобенились мы поперву.
– Не свисти, – строго заметил мужик, и нам пришлось согласиться, что ж делать, не обижать же человека.
Саша хотел «гитлера» – емкость в 0,75 литра, «Я видите ли, вина давно не пил. Хочу. А то все водка да водка». Но мы с мужиком его устыдили – ты русский, говорим, или турок? Сейчас мороз, и надо водку пить, кто водку не пьет – изменник прямо идеалам. Внял Саша. Приобрели «гуся», пол-литра за два восемьдесят семь, и на пять копеек закуску «хор Пятницкого», или, по-официальному, «килька маринованная». И ходу в столовую напротив, туда, где вывеска висит «Спиртные напитки распивать строго воспрещается». Я стаканы организовал и два «лобио». Это – блюдо такое кавказское: фасоль, подливка жгучая, перец черный сверху, и все-то удовольствие стоит одиннадцать копеек.
Хватили мы по граненому, потыкали лобио, размякли, и начал мужичок свой рассказ:
– Я раньше сапожник был частный, потому что инвалид с войны. Имел около висячего моста мастерскую – будку фанерную под заголовком «МАСТЕРСКАЯ ЗАРЕЦКОГО. МОМЕНТАЛЬНЫЙ И ПОДНЕВНЫЙ РЕМОНТ ОБУВИ», имел инструмент сапожный и гармонию, собственноручно вывезенную из города Берлина в сорок пятом году, когда вы, значит, на свет-то и повылазили.
После множества событий в жизни нашего общества стал я вольнодумом: на одной стене повесил портрет Хрущева, на другой – Мао Цзэдуна и любил, сев в уголок, подмигивать то одному, то другому: знай, мол, наших.
И жил я безбедно и безоблачно, пока в один прекрасный день не явилась поутру дамочка с красными губками и заплаканными глазками, и туфелечка у ей в шпиличке сломана.
Но виду я не подал. Набрал в рот гвоздей медных, голову наклонил, набычился. Ремонтирую. А вот когда уж готово все было, тут я ее и осмелился. Спрашиваю: «Где же вы так туфельку подпортили?» А она и до этого мрачная была, а при словах вопросительных вдруг как зальется слезами: «Ах, все равно он негодяй, мерзавец…» Дала мне пятерку и убежала. А я-то с нее хотел один рубль поиметь…
И вот высунулся я в дверь, распрямился. Вижу, цокает она далеко-далеко. Косыночка развевается. Грустно так стало. Запер предприятие, взял гармонь, мужику по морде дал, который хотел меня заставить в такой грустный для меня час его вонючие ботинки чинить.
Водки взял. Пошел в рощу березовую. Иду меж дерев, наигрываю. Тихо. Пиджак на одном плече, душе сладостно так, аж плачу, сам себе играю, сам и плачу. Хорошо было. Ни о чем не жалею.
И дошел я до какой-то стены и стал там жить. Хлеб да огурцы на газетку положил, водочку попиваю да наигрываю. Только не дали мне спокою там. Под самую ночь пришел какой-то и погнал меня к маме – хотел вообще брать, да видит – калека, отпустил.
Я тогда на опушку пошел и там уснул, а утром солнышко пригрело, взбодрилась душа моя, рванул я меха и выхожу с опушки, потому что магазины в восемь открывают. Туман стелется еще. Солнце в нем дыры делает, и посреди этой обстановки встретил меня поэт один, мигом про меня стихи сочинил, воодушевившись, и мне же их прочел. Что-то помню, чушь там какую-то:
– И вся Россия, как гармошка…
Вот так гулял я неделю и все спать приходил к той самой стене, и сказали мне добрые люди такие слова, что за этой стеной атомный завод, а я, значит, через месяц умру, оттого, что у меня кровь свернется. И испугался я, потому что у меня тысяча двести скоплена на сберкнижке, а умру я через месяц. И раскинул я себе гулять по сорок рублей в день. Как гулял – не буду вам рассказывать, не дело это перед смертью, а только сегодня последний денечек мой.
Была взята еще водка, но лобио мужик есть отказался.
– Последний день мой, – завопил он, – желаю патиссонов.
И сильно пнул баллон с кислородом.
Выпили. Соляночки похлебали с маслинами. Сорок копеек проклятая стоит, но раз уж последний день – можно человека уважить.
И неизвестно откуда музыка взялась. Заиграла, запела. Я удивился. У меня всегда так: как выпьешь, музыка сразу «тренди-брень». Это я объясняю гипнозом алкогольного состояния, локальной ослабленностью организма в башке.
Мужик стал грустный и добрый.
– Давай споем, что ли? Ребята, а? Робертину Лоретти. ЖИ-МА-Й-КА!
И мы с Сашей подпевали, а потом взяли бутылку и, кажется, еще одну, и у буфетчицы выросли усы, а вскоре исчезли, и Саша все удивлялся – когда ж она побриться успела, вроде и не уходила никуда, а бутылки, тарелки, ложки и стаканы сами собой написали слово «МИР», а если прочесть назад, то получалось «РИМ». Появилось множество знакомых лиц, и главное из них – Куншин с академическим портфелем, Куншин, который попил с нами кофе, рассеянно почитал газету, но потом исчез так быстро, что я забыл спросить с него объяснения за давешние шутки с преподаванием математики.
Мужик-то все просил, чтоб ему гармонь дали, «да на ангела моего, жизнь мне переменившего и тем убившего посмотреть». Он немного порыдал, сокрушаясь о своей близкой смерти, но затем вдруг стал сухим, желчным и раздражительным. Высокомерно так заявил:
– Но, но, но, молодые люди. Я знаю вас, молодые люди. У вас в баллоне не что иное, как атом. Тот, кто познал атом через забор и привез из Берлина гармонию, может разгадать вас, сопляки.
И тут я встал и в восторге рыдающем сказал:
– Врешь, отец. Ты – отец. Мы – дети. Это есть не атом, а величайшее благо, газ жизни – кислород.
– Э-э, нет, – упрямился мужичок, – мне пятьдесят пять лет, а меня никакая физика, никакая химия не возьмет…
– И я дарю этот газ жизни всем присутствующим, включая дам, – галантно добавил я.
И все стали во фрунт: и буфетчица, и судомойка, и кассирша, и посетители, и ложки, и стаканы, и бутылки пустые, и бутылки полные – все замерло.
А правофланговым был Саша.
Достал я наш синий баллон, р-раз, р-раз по крантику, и повалил белый кислородный дым и разрумянились лица. «Ура, – все кричат, – слава, – все кричат». Целуются все.
Армию я свою взял, всех, кто во фрунт стоял. Бутылки, буфетчицы, низкорослые вилки, мусорные урны, два районных битла – все в движение пришло.
Только одно по сердцу резануло: Нинки нет с нами. Она ведь не дура теперь, раз такая армия, а впрочем…
- Позабудь, позабудь, солдат, про дом, ать-два!
- Участковый, участковый нынче пущен на дрова!
- Армия, и Саша – ротный.
- А мужик взводный.
Дошли мы до НИИ нашего, армию в окопы, а сами вызываем Тумаркина – начальника.
Я ему говорю:
– Во избежание пролития, давай с тобой один на один, как богатыри, по принципу Куликова поля.
Тот понимает, что конец ему и всей его лавочке настал, такую чепуху мне порет, кулачонками грозит.
Тут уж осердился я:
– Ах, ты так. Тогда смотри: вот нас три колдуна. Мы руками трогать не будем ни тебя, ни заведение твое, которому так кислород требуется, а для чего – это мы сами знаем.
– Да-да, – высунулся мужичонка, – никакая физика, никакая химия…
– Трогать не будем, а скажем лишь три слова, из которых одно нецензурное, и ты увидишь, что будет.
И мы сказали три слова, из коих одно цензурное, и зашатался дом, и молнии хлестать крышу стали, и все кирпичики, перекрытия разные стали превращаться из атомов в одну огромную молекулу, и я с радостью увидел, что это – этиловый спирт. А сотрудники все, кто хорошие – превратились в голубей и полетели парить, напевая про себя песню Исаака Дунаевского «Летите, голуби, летите», а кто были плохие – превратились, стыдно сказать даже, в дерьмо, и Тумаркин был, извиняюсь, самая большая кучка. Новый удар, гром, Куншин появился, построилось в каре наше войско, я рукой махнул, да вдруг и упал бездыханный.
Ох, как башка-то утром разламывалась, господи боже ты мой! Мать плачет, ты, говорит, совсем дурной сын стал, непослушный. Раньше ты не такой был. Ну, я слез мамашиных выносить не могу, ведь и у меня сердце есть, огромное сердце. Я говорю:
«Это мать, ничо, это так, случайно». А у самого аж помутнение в глазах, ничего не понимаю.
Надел штаны, пальто и вышел на улицу. Трудовой народ кувать идет, и я вместе с ним. Только вдруг что-то как закружит меня, как толкнет.
– Ага, – соображаю – остаточная деформация.
Народ на меня несколько с опаской смотрит, а вообще-то доброжелательно, как на родного.
А навстречу мне и сам Саша. Важный, степенный, в очках. Деформация у него всегда пластическая. Остановились мы и так хорошо заговорили, что все беды за экран, за море-окиян уплыли, и безденежье хроническое наше, и бедокурство наше. Вот мама только все упрямилась, головой качала седенькой, укоряла нас, да потом и сама развеселилась: «Черт с вами, ребята. Ох, и озорники ж вы мои». И так хорошо мы о чем-то заговорили, что народ даже шаг притормозил: завидно ему стало, что не спешим мы кувать, а вот стоим, по-человечески беседуем и в трамвай не лезем, пуговиц своих-чужих не рвем, не суетимся…
И, чтоб не смущать народ, пошли мы туда, где еще вчера наш НИИ стоял, где мы лаборантничали за семьдесят пять рублей минус всякое уважение.
Смотрим, ай, а он и сегодня на месте. И зазывает начальник нас к себе в кабинет, где кресло его, задницей вчера окончательно расплавленное, за ночь закристаллизовалось в форме того же кресла, и зачитывает приказ об увольнении по статье 47 КЗОТ за халатное отношение, нетрезвый вид и прочие каверзы.
Тут мы с ним немножко поборолись и добились, чтобы он изменил формулировку на «по собственному желанию», отчего и друзьями с Тумаркиным расстались, руки нам жал, напутствовал.
И вот идем по улице, думаем, куда пойти – учиться? Или работать? Кто его знает… А может, к сапожнику в пай? Он-то поди не умер еще, его ведь никакая физика, никакая химия не берет.
Легок на помине и сапожник появляется, вполпьяна уже, а может, и на старых дрожжах, со вчерашнего… Сообщает:
– Русский народ, вишь, по двум законам живет. Один – бу сделано, а второй – …с ним. «Пить не будешь больше?» – «Бу сделано». – «Уволим, ежели что еще такое». – «А ну и… с ним». – «Холодно. Пальто надо купить». – «Бу сделано». – «Эх, холода настали, а нету пальта». – «Ну и… с ним». Поняли, пацаны? Мы-то пока по второму закону поживем, а потом можем и по первому, это уж как возжелается.
И идем мы той же улицей, что вчера за жидким кислородом шли. Потеплело малость, снежок реденький стелется. А я все думаю: ну вот уволили нас – это ладно, но – НИИ-то наш, распроклятый научно-исследовательский, взрывался вчера или нет – хоть убей не помню.
А больше никто об этом не думает.
Поэтому одинок я на свете, как штырек проигрывателя посредине черной, черной, чернеющей пластинки.
Декабрь 1965 г.
Москва
Р.S. …горелки газовые фырчукают – волнами тепло ходит, Абиссиния прямо.
Этот рассказ тоже написан «сказом» да еще и с привлечением русского фольклора и городского жаргона. Естественно, что редактор мне его тоже весь исчеркал в рамках советской «литературной учебы».
«…как алкашей в отделении на седьмое ноября» – а вот это он, пожалуй, сделал зря, когда приписал на полях моей рукописи против такой реалистической фразы «Мелкие булавочные уколы против Советской власти!» Это, брат редактор, нехорошо, от такого редакционного заключения «Сибиром пахнет», по выражению В.В. Розанова (1856–1919). От таких вот редзаключений мне и пришлось тогда уезжать из Красноярска, чтоб ненароком не посадили.
Скиадрома – это что-то из кристаллографии, что ли? Совершенно забыл, может, мои коллеги по первой профессии геолога откликнутся и внесут ясность в мой замутненный временем ум.
…мигом про меня стихи сочинил, воодушевившись… «И вся Россия, как гармошка…» Я тогда тоже сочинил стихи. Вот они.
- Стою ли в очередь за пивом
- Иль слышу вечное «нельзя»,
- Но все мне кажется красивым,
- Поскольку – «русская земля».
- Вот дали по уху в трамвае,
- Или ведут уж в КПЗ…
- … Я плавниками приникаю
- К российской искренней земле.
- Вот я уж и совсем счастливый,
- Еще чуток и завоплю:
- «Благодарю тебя, Россия,
- За то, что так тебя люблю!»
А что, может быть, и неплохо. Может, конечно, похуже, чем у моего друга поэта В. Салимона (р. 1950), но я же был тогда так неопытен, так неопытен…
« – Давай споем, что ли? Ребята, а? Робертину Лоретти. ЖИ-МА-Й-КА!» Имеется в виду популярный шлягер тех лет «Ямайка» в исполнении суперзнаменитого тогда во всем мире мальчика-вундеркинда Робертино Лоретти. Его наши сначала хвалили за «Песню разносчика газет», где вундеркинд звонко горевал о судьбе своего сверстника при капитализме, но потом на него обиделись, когда он повзрослел и «в одном из своих бесчисленных интервью, данных буржуазной прессе, грязно отозвался о советских девушках». Недавно он побывал в преображенной из СССР России, но успеха уже никакого не имел. Только старухи-шестидесятницы целовали его в телевизор, когда бывшего «Робертину» по этому телевизору все же показали, пожилого мужика. «Sic transit Gloria mundi». «Так проходит мирская слава». Это касается решительно всех, безо всяких исключений.
Ящик Фетисова
Ящик Фетисова
Публикация с предисловием Евг. Попова
Многие не знают, что иногда рядом с нами живут замечательные, но никому не известные люди.
Я пишу эту фразу не только потому, что мне ее очень хочется написать, но главным образом из-за того, что у нас, в полуподвальном помещении, долгое время жил и лишь недавно умер Н.Н. Фетисов, который называл себя писателем, а ему никто не верил.
Это был прекрасный и оригинальный человек золотой души. Люди его часто спрашивали:
– Николай Николаич, а на кой ты живешь в подвале?
А он отвечал, застенчиво улыбаясь:
– Да мне и тут хорошо.
Имелись у него, конечно, и недостатки, что уж тут скрывать. Но ведь это и скрывать не надо, потому как совершенно справедливо заметил не помню кто – люди не ангелы.
Нервничал. Зафырчит, бывало, что-нибудь такое закричит во дворе, понимаете ли.
А также, к сожалению, пил Н.Н. Фетисов довольно много водки. Ловко так пил – пол-литру высадит и лишь тогда опьянеет.
А также лежало во всей его судьбе несомненно что-то явно роковое, потому что он, как я уже об этом слегка сообщал, недавно умер.
Естественно, что все его вещи забрали родственники – дядя Вася Фетисов и Марфа (не знаю, кто она ему).
Но, несмотря на то, что вещей у него и так было очень мало, я после их ухода тоже пошел полюбопытствовать – не осталось ли случайно кой-чего мне на память – и… наткнулся на деревянный, кубического облика… ящик, полный… грязных бумажек, которые оказались… литературным наследием покойника. Долгое время я ничего из обнаруженного не мог понять, так как написано все было химическим карандашом по обмусленным бумажкам.
Но уж больно любопытно стало мне. Целый ряд вопросов стал передо мной.
1) Мог ли писать Фетисов?
2) Что такое мог написать Фетисов?
3) Не изобразил ли он как-нибудь меня?
Поэтому я приложил максимум усердия и вскоре был вознагражден за свой воистину титанический труд: кое-что прояснилось. А именно: прежде всего мне стало понятно, что я открыл никому доселе не известного ГЕНИАЛЬНОГО МАСТЕРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА, который, несмотря на то что умер, имеет право на бессмертие.
Я прочел, с трудом разобрал его роман «Похождения Псеукова» и замер, и ахнул от мастерства и философской глубины Фетисова, как ахнете и замрете вы, прочитав.
Автор настолько смело, но с прирожденным тактом и хитринкой бичует сексуальные излишества, что поневоле забываешь о том, что действие романа происходит неизвестно черт знает где. Кажется – Фетисов занес осуждающий кулак над всеми нашими любителями «легкой» жизни.
Совершенно другим по плану и замыслу произведением является поэма о двух сердцах «Торжественное обещание». Автор с легкой грустинкой и, может быть, даже… с прирожденным смущением вспоминает свою молодость и неудачную любовь. Автор как бы предостерегает всех нас и говорит нам: «Молодежь! Не швыряйтесь любовью и молодостью!»
А про сатирический рассказ «Космические безобразия» я вообще молчу, потому что Фетисов проявил себя в нем сатириком, достойным пера Ф. Рабле и М.А. Булгакова.
Как видите, я разобрал всего три из произведений Николая Николаевича, а ведь ящик-то полон! Он полон до верхов, дорогие товарищи!
Конечно, очень грязные у Фетисова бумажки в ящике и поэтому противно их разбирать. Но, как шутят у нас в Сибири: «Однако ничо! Разберемся!»
Ради широкого круга читателей я, сосед Фетисова и, говоря без ложной скромности, его лучший друг, пойду и на это.
К сожалению, место, отводимое мне редакциями, истекло, и только поэтому я не смогу побольше рассказать вам что-либо из короткой, но невыразимо ярко-прекрасной жизни Н.Н. Фетисова.
Но я думаю и надеюсь, что широкому кругу читателей будут настолько интересны представленные образцы творчества гениального мастера, что я еще кой-чего опубликую из его оставшегося ящика, полного доверху литературным наследием. А уж тогда заодно сообщу побольше всяких сведений о писателе чисто биографического характера. А сейчас пожелаем же доброго пути первым публикуемым произведениям недавнего покойника.
Евг. Попов
Город К., стоящий на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан.
17 февр. 1969 г.
I. Похождения Псеукова
(авантюрный роман Н. Фетисова)
С душеволненьем к ней подходит…
Стеснилась грудь, дрожит слеза…
И на прекрасную наводит
Свои блестящие глаза.
Н.В. Гоголь
…и слезы. Их не от любви,
их от блаженства проливают.
Э. Парни[1]
Глава 1
Альфонса и Бетси
– Скажите, вы не знаете, случайно, некоего г-на Псеукова? – спросил Альфонса на светском рауте одного тучного приземистого господина с моноклем в левом глазу.
– Нет, нет, а что?! – Голос незнакомца дрожал от напряжения.
– А то, – сказал Альфонса, своим стальным взглядом пронзая Незнакомца и буквально пригвождая его к полу, – что вы… вы и есть… Псеуков?
– Нет, нет, я вовсе не Псеуков, – отступая говорил господин, – Вы ошибаетесь, мой добрый Альфонса. Эй, слуга! Мою карету сюда!
– Что ж. Нет, так… нет, – усмехнулся Альфонса, присоединившись к танцующим.
Взгляд его жгуче-черных глаз упал на кузину Бетси. Он подошел к ней и положил руку на ее горячее бедро.
Ее полураскрытые влажные губки затрепетали, юная грудь под корсетом напряглась, она прильнула к Альфонсе и прошептала в каком-то волшебном забытье:
– Мой! Навсегда!
Глава 2
Некий господин, он же…
По древнему городу Киеву, весело цокая копытами, скакала лошадь. На ней сидел некий господин в платье европейского покроя и с развевающейся бородой.
Лошадь обгоняла дивчин и парубков, дружной гурьбой спешащих на вечернее гуляние в дом m-lle de Elegance, известной всем француженки.
Господин весело приветствовал молодежь, разукрашенную монистами, снимая и надевая свой английский цилиндр. А так как ехал он на коне, то приехал в дом m-lle первым.
Он спешился и подошел к хозяйке дома, чтобы по обычаю предков поцеловать ее прелестные пальчики.
Но, не удержавшись, положил свою крепкую мужскую руку на ее трепещущее бедро и со стоном муки впился в ее раскрытые, ослепительно алые губки долгим поцелуем.
M-lle de Elegance, вся уже трепещущая, крикнула в каком-то волшебном экстазе, лихорадочными движениями расшнуровывая корсаж:
– О, мой златокудрый бог! О, мой…
– Тихо, не называть фамилий, – заметил господин, снимая фальшивую бороду и увлекая m-lle в пароксизме страсти на случившийся рядом диван в стиле Чиппиндейл.
Глава 3
Бетси находит друга
Гремел огнями и музыкой пышный бал высшего общества. Кружились в вихре танца пары в смокингах и фраках. А у окна одна, печально о чем-то задумавшись, стояла девушка, дама неземной красоты, в которой читатель без труда узнает Бетси.
Внезапно она вздрогнула, почувствовав присутствие мужчины за спиной.
– Кто вы и что вам нужно? – не оборачиваясь, глухо спросила девушка-дама.
– Я ваш друг, доверьтесь мне, – сказал высокий атлет в черном домино.
Бетси обернулась и посмотрела на него детски-доверчивым взглядом.
Мужчина, влекомый к ней неведомой силой, положил руку на ее волшебные полушария, вздымающиеся над корсетом и, тяжко задышав, вонзился в Бетси хищным поцелуем.
Бетси, прижавшись к нему всем своим дрожащим, как в лихорадке, телом, обняла его за упругий торс и прошептала как в сказке:
– О, мой кумир! О, мой владыка!
Глава 4
Поединок
Уж давно свивались они в клубок на прекрасном ложе старинной работы.
Свет красной лампы едва освещал измученные лица и прекрасно-обнаженные тела любовников, которые как бы слились в одно тело, которые как бы были сама Страсть, сама Нега в их лучшем проявлении.
Когда все затихло и любовников прошиб любовный пот, Бетси, вся еще влажная от любовного пота, положила свою прелестную кудрявую головку на плечо партнера и прошептала, стыдливо отводя свои очаровательные глазки от его не прикрытого простынями тела:
– Милый, я хочу еще…
Глава 5 (в которой многое становится ясным)
Соперник и соперница
Альфонса весь самое бешенство, куря гаванскую сигару, ходил по своему кабинету, устланному текинским ковром, и ломал тонкими холеными пальцами диковинные гигантские спички, присланные ему друзьями из далекой заснеженной Малороссии. Перед ним, прижимая к глазам кружевной платочек, мокрый от слез, сидела на низенькой скамеечке француженка, в которой читатель может без труда узнать m-lle de Elegance.
– Pseukoff, – говорила дама, не прерывая рыданий, – он – мой бог! Он – негодяй!
– Я отомщу этому животному, – крикнул Альфонса, прижав руку к костюму, где давно билось его пылкое, взволнованное сердце. Дама перестала рыдать и стала нервно пудрить свои пухленькие щечки.
– Он давно путает мне все карты, – не унимался Альфонса. – Он помешал моему акту с княжной Жужу, он почти силой овладел моей подругой леди Эдит, а сейчас он… с Бетси, с моей кузиной Бетси, и, может быть, именно сейчас, – сделал он упор на последние слова.
Альфонса подошел к m-lle de Elegance и упер в нее взгляд стальных с поволокой глаз.
M-lle de Elegance внезапно поднялась и в каком-то беспамятстве повалилась со скамеечки на пол, протянув руки навстречу Альфонсе.
Последний поднял ее, прижал ее, горячую, к своему, обиженному Псеуковым сердцу и напрягшемуся телу, и впился в ее бурно вздымающуюся и уже обнаженную грудь долгим поцелуем. Не разделяясь, они перешли на какую-то роскошную мебель, обитую кожей. Раздался треск нежной шелковой ткани, и перед Альфонсой предстали прелестной формы бедра, чуть подернутые золотым пушком…
Глава 6… и последняя
А через несколько дней в маленькой церкви Сан-Доминика на каком-то там черт его знает каком бульваре кой-кого венчали.
Эпилог
Обе пары жили долго и умерли почти в один день. Так им и надо. Так себя вести, как они себя вели – совершенно недопустимо.
Конец
II. Торжественное обещание
(поэма о двух сердцах сочинения Н. Фетисова)
1
Шли морозной крупчатой ночью.
Как в старой, как в жуткой сказке скрипел снег, «скырлы, скырлы».
Я боялся мыслей своих и голову поднять, потому что все кругом в кристаллах – кристаллы снежные на деревьях, снежинки на шапке ее, на ресницах ее, а под ногами «скырлы, скырлы».
– Знаешь сказку про медведя и липовую ногу? – спросил я.
Но она ничего не ответила, лишь ресницами полыхнула.
О, снег на ресницах! Белые кристаллы, которые ранят и трогают бедное сердце!
– Обещаем друг другу, – прошептал я.
– Быть! Быть свободными друг от друга, – прошептала она.
И снежинки таяли.
2
А потом я хохотал.
О, как хохотал я, когда она, маленькая, миленькая, со смешными косичками, приходила ко мне, умоляла и плакала, а потом осмелилась кулачком по столу хлопнуть.
Робкое сердце. Все так же хохоча, вынул я из верхнего правого ящика письменного стола бумажник свиной кожи, где черной китайской тушью по белой бумаге было вырисовано наше торжественное обещание.
Ах, как хохотал я.
3
А теперь я плачу. А почему – не скажу!
Так выпьем же, милые, за любовь!
III. Космические безобразия
(сатирический рассказ Н. Фетисова)
Едучи однажды в троллейбусе, некий гражданин собирал с народа деньги, чтобы за всех заплатить, передав деньги шоферу и получив за переданные деньги билеты. Делал он это потому, что касса, конечно, не работала, новомодная касса-автомат, куда кидаешь деньги, дергаешь за ручку и получаешь отрезанный билет для предъявления контролеру.
Собрав деньги, гражданин обнаружил всеобщее замешательство, ибо он не знал, кто передавал и сколько передавал, и среди народа уже многие запутались: слышались крики: «Кто передавал? Я пятнадцать не передавала. Я на два мне шесть копеек сдачи. Нет, не, не так – вы имя будете должны, а с их три копеечки им…»
– Ага, понятно. Растрата, – уныло сказал гражданин и на ходу вышел из троллейбуса.
Тотчас и шум стих, и троллейбус остановился.
И вышел из специально отведенного для него помещения рослый водитель, молча, не глядя на пассажиров, прошел к задней двери и там сказал угрявому подростку, робко державшемуся за никелированный поручень: