Кларица (сборник) Вальдберг Геннадий
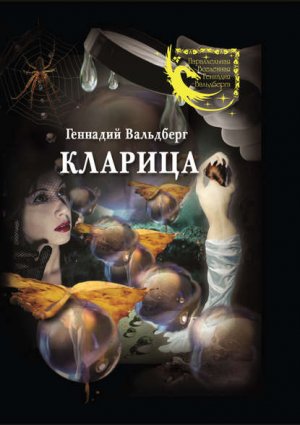
© Вальдберг Г. (Genadi Valdberg) 2015
* * *
Светлой памяти моего брата, Арнольда, посвящаю эту книгу
Кларица
…желая подражать вещи, обладавшей подлинной реальностью, мы забываем, что вещь эта была порождена не желанием подражать, а какой-то бессознательной и тоже реальной силой…
Марсель Пруст
I
Еще не раскрыв как следует глаза, и лишь наполовину скинув ноги с постели, – где-то должны быть тут тапочки? – Кларица приняла решение. Точнее приняла его вечером, но утро есть утро, не зря говорят, что оно мудренее.
– Отныне я знаю, чего я хочу, – сказала она себе вслух, – и грош мне цена, если хотение мое так и останется только хотением!
Но сначала – к врачу!
И уже через час сидела в кабинете у эскулапа, где выслушать пришлось неприятное.
– Вы не фригидны, – сказал эскулап. – Фригидность вообще – устарело, неверно. Сегодня есть новое тому объяснение… – и стал произносить слова, много слов, которые невозможно запомнить.
Только дело не в словах.
– Доступность, – растолковывал лекарь. – Все дело – в доступности. Одним это – просто. Как дождик весной. Другим же – событие, нечто из ряда…
И точно: у Кларицы было из ряда. Не ее в том вина. Но об этом кто спросит? В глуши, в какой она выросла, о какой доступности кто бы вел речь? Вот дождик весной – тут врач в точку попал. А доступность?! – да в голову как же то влезет? Чтобы завтра от мал до велика судили: да в сажу ее, совсем голой – и в сажу! А то – ишь! – по рукам! Стыдобища какая! – И с обрыва сигай, или петлю на шею. Это сидючи в Дорлине хорошо рассуждать, а в медвежьем углу припечатают – шлюха! И век не отмоешься. В шлюхах ходи.
Это когда родители перебрались в Дорлин, и Кларица вдохнула воздух столицы, на многое взгляд ее изменился. Но до взгляда еще предстояло дожить.
И от Вигды услышать:
– Когда, – говорит, – парня нет, есть приборчик такой, заменяет вполне.
Кларица думала: сквозь землю провалится! Язык ведь отсохнет такое сказать. А Вигде – что с гуся вода:
– В Дорлине, – говорит, – не такое услышишь.
И верно, услышала.
– Потому что гормоны, ты им не прикажешь, – продолжала развивать мысль Вигда. – Накопляются. Вредно их много копить.
И случай из жизни:
– Копила одна. Девятнадцать – все копит. Двадцать пять – она копит. Ну, и встретила парня, какого ждала. Только прежде – да что я тебе объясняю? – без постели и свадьба? – неслыханно нынче. Это наших прабабок так с рук отдавали. А сегодня сама все реши, постели… А наша скопидомка с мужчиною рядом – первоклашка, вчера за букварь усадили, и то ее больше в разы уже знает, – без опыта, в общем. А где его взять? Рискнула бы раз, второй-третий – ошиблась. А в четвертый, глядишь: получай, заслужила. А она все – в сундук. С сундуком и осталась.
– Или прыгун в высоту, – одного примера Вигде показалось недостаточно, – каждый день со скакалочкой прыгай: на правой ноге, и на левой, с прискоком. А если не прыгал – плохи твои шансы. Младенец – еще говорить не умеет, а губами – ему уже грудь подавай. А если не грудь, то хоть соску покамест. Учил его кто? Так природа велела. И ей поперек – только жизнь испоганишь.
И Кларица испоганила. Вот что от врача она вынесла.
И с этой мыслью отправилась дожидаться Далбиса, когда он из Лаборатории выйдет. Устроилась в небольшом стеклянном кафе, у самой витрины, чтобы двери в Лабораторию горшки с цветами не заслоняли. Выйдет Далбис из этих дверей – и я его сразу увижу.
Но поход к врачу, – хотя надо было пойти, и не сегодня, а полгода назад, – оставил осадок. Ведь шла туда с мыслью услышать другое. Сказал бы: – Больны. Вы, конечно, больны. А болезнь – есть болезнь, уважать ее надо. – Прописал бы таблетки, режим и микстуры. А то – не фригидна!? Здоровая, значит.
Второсортность во мне, – заключила Кларица. – Была и осталась во мне второсортность, от которой всю жизнь я бежала, бежала… Но поди-ка, сбеги, когда в поры впиталась.
Чему родители поспособствовали, серьезную лепту внесли, что не день или два, а годы расхлебывать. Дожидались, когда дочка школу закончит. Аттестат получи! Недоучкой останешься!.. Будто тот аттестат хоть бы в чем-то помог. Всякий день говорили: нам в Дорлине место, все нормальные люди туда перебрались, – а сами резину тянули, тянули. Мы от травмы ребенка тем, дескать, спасаем. Там уровень в школе – не всякой по силам. А нравы – вообще. Пусть узнает их позже.
И попала Кларица в Дорлин как кур в ощип. Что вокруг происходит – ничего непонятно. Вроде, люди как люди, но в чем-то иные, говорят меж собой – иностранцы как будто. Знакомый язык, все слова, вроде, знаю, а сложишь их вместе – и смысл ускользает. Одеваются так – попугаи как будто, под майку хоть что-то бы снизу надели. Что парням еще как-то, но то ж и девицы!.. Два шага пройдут – прыг в машину и газу, когда бы пешком и быстрее, и ближе. А ежели все же приспичит ногами, то не ходят, а с места в карьер – и галопом. Бросят взгляд на часы – опоздаем мы, дескать. А куда опоздаем? Никто не ответит. Да сами не знают. Таков, мол, стиль жизни. В ней ритм держать с детства нас приучили.
Но зачем приучили? На кой это нужно? Да и ритм такой – ведь не пляска как будто?
По сей день не разобралась с этим Кларица. Хотя пыталась. Ох, как пыталась. И о машине стала подумывать: сяду за руль – и тогда прояснится… Но какая машина, когда платья нормального на первых порах купить не могла, что от бабки досталось, донашивала. Вокруг – попугаи, глаз красками режут, а ты как цветок, что на клумбе завял. Лепестки все слиняли и дух нафталинный. Идешь, от стыда на щеках угли тлеют: невидимой стать, чтоб насквозь все смотрели, а то – усмехнутся и нос отворотят.
О том ли мечтала Кларица, когда в Дорлин стремилась?
И ни подруг, ни друзей, никого.
Устроили ее секретаршей в контору: поработала месяц – и хватит, спасибо. И в толк не возьмешь, отчего так случилось? Что поручат – справлялась, всё к сроку, хвалили. Клиенты придут – кофе, чай на подносе:
– Подождите немного, босс занят делами.
И сидели, и ждали – не в гости явились. Пока вдруг один, – вот ведь в голову влезло! – возьми и начни шуры-муры крутить:
– А как вечерком мы винца по бокалу?..
И послала его: на работе я, дескать!..
И босс не ругался, когда увольнял. Солидный, высокий, серьезный мужчина, – ведь мог объяснить, в чем провинность, какая? Но развел лишь руками: сочувствую очень.
Отец в Дорлине в гору пошел, зарплату приличную дали. И когда дочка домой заявилась:
– В услугах моих не нуждаются больше!..
– Прокормлю, – говорит.
Но на родительской шее сидеть не хотелось. Не затем из дыры меня в Дорлин тянуло. Умру! – а найду себе новое место!
Тогда и познакомилась с Вигдой. Если бывают на свете случайные встречи, то случайнее этой не выдумаешь. В забегаловке, рядом с бюро, куда безработные отмечаться ходили.
Работу Кларица искала через газеты, во всяком случае, пыталась найти, и зачем ей бюро? – оставалось неясным. Другие ради пособия туда наведывались. А ей с ее месячным стажем – отмечайся ли, нет, – ничего не заплатят. По идее, в бюро предлагали работу. Но опять же, специальность когда уже есть. А какая у Кларицы специальность? Печатать одним пальцем умеет. Бумажки с угла на угол стола перекладывать. По инерции, в общем, ходила, не надеясь ничуть, просто совесть очистить: и этот, мол, шанс я испробовала.
А как выйдешь из бюро, под тентом в цветистой рекламе, примостились несколько столиков и прилавок еще: сандвич, кофе купить. Или пачку печенья и банку с шипучкой. Безработные здесь не задерживались, с пакетом и банкой на улицу сразу, а Кларица за столик присела: претило у всех на виду. Еда – все же дело интимное. Да и мест хоть немного, садись – на всех хватит.
Но Вигде Кларицын столик приглянулся:
– Присосежусь к тебе. Возражений не будет?
Так сразу на «ты», что Кларице не понравилось, не привыкла она, чтобы так с нею запросто, и первым желанием было Вигду отшить. Но поздно. Вигда, не дожидаясь приглашения, села, и ее понесло, будто сто лет знакомы:
– Ко мне парень пристроиться хочет, прилип как репей. Отвязаться мне надо. Пусть к черту идет! Не желаю с ним больше.
И Кларица посмотрела на парня: и вправду репей, весь взъерошенный, потный, волосы в жизни не стриг, и морда в прыщах, подбородок небритый, и серьги в ушах – два шурупа завинчены, – Кларица бы такого тоже отвадила.
А он – то ли взгляд уловил, а может, и просто, плевал он на взгляды, – выбрался из-за стола, где его Вигда оставила, банку с шипучкой свою прихватил, и вразвалочку так: мол, сейчас осчастливлю!.. А у Кларициного стола еще один стул, то есть место не занято… И Кларица сама себе удивилась: сняла с плеча сумку и на этот стул, перед самым носом лохматого, бросила.
На что он рукою: а ну, мол, сними!
Если бы Кларице кто-то сказал, что она на такое способна – ни за что не поверила бы. Но, видно, коса наскочила на камень.
– Вы ко мне обращаетесь? – подняла она взгляд на лохматого.
– Твоя сумка мешает.
У него и на языке оказалась серьга, еще один болт, как ножом по стеклу по зубам его лязгнул.
– Ах, нет, не ко мне, – отвернулась Кларица. – Тогда я вас не вижу, не слышу.
Она думала, он сошвырнет сумку на пол, и вообще кулаки в дело пустит. У типов таких не задержится. Но он от Кларициного ответа застыл, словно на кол его посадили.
Что Кларицу подстегнуло, и она – давая понять, что всё, инцидент, мол, исчерпан, – заговорила с Вигдой. Вигда стала кивать, соглашаться. Хотя Кларицу – убей, – о чем завела, не припомнит. А тип все стоит, словно мало на кол, еще к полу прилип. А потом вдруг возьми и вверни: мол, примите меня в разговор… И Кларица снова на него посмотрела. И что уж такое в глазах ее было, но он – как серьгой подавился.
– Вы по-прежнему не ко мне обращаетесь, – с упором на «не ко мне» сказала Кларица, – а я по-прежнему вас не вижу, не слышу.
– Кто это такая? – уставился парень на Вигду. – Откуда взялась?
А Вигда вперилась в свою банку: мол, я тоже не вижу, не слышу.
– Не кто-то, а ближайшая подруга, – не меняя интонации, сказала Кларица. – Хотя отчитываться перед вами – кто вы такой? Или с мозгами у вас не в порядке? Тогда снизойду, еще раз объясню: мы вас не видим, не слышим. Вас просто нет. Вы – фантом. Вы отсутствуете.
– Она всегда вот так разговаривает? – отшатнулся тип. – Не по-человечески как-то…
И тут Кларица поставила точку. Из камня коса искру высекла.
– А ну, пошел вон! – помешивая шипучку соломинкой, сказал она. – Такой язык вам понятней?!
– Э-э, а полегче…
– А я не полегче. Сейчас запущу этой банкой!
И запустила бы. Как пить, запустила бы.
Что до лохматого наконец-то дошло. Он схватился за стул, будто загородиться стулом хотел:
– Я вечером тебе позвоню, – стараясь не смотреть на Кларицу, сказал он.
– Напрасный труд, – Вигда продолжала таращиться в банку, и вместо нее ответила Кларица. – Вечеринка у нас. А утром мы спим.
– Тогда завтра…
– Тоже напрасный. Мы за город едем. И вообще, вы для нас – не существуете. Или вы настолько тупы, что вам сотню раз повторять это надо?!
– Жалеть еще будешь…
– А ну-ка, катись! – начала подниматься из-за стола Кларица.
И тип про стул позабыл. И с кола сразу слез. Отпрянул, полязгал о зубы серьгой. Но стало понятно, теперь не вернется.
Кларица села на место, – внутри еще не все улеглось, и все же героиней себя ощутила, – и только тут увидела, что Вигда от смеха давится. Сжимает банку с шипучкой, будто раздавить ее хочет, а сама как пузырь – сейчас лопнет.
И Кларице тоже стало смешно. Но она, как и Вигда, свой смех придержала. Так и сидели какое-то время, соревнуясь, кто дольше продержится. Но Кларица первой не выдержала – ха-ха-ха! – закатилась. Из глаз слезы текут, в груди воздух иссяк – а еще хохотать, и сильнее, и громче, и еще бы чуть-чуть – да в истерике биться.
Только тогда к ней Вигда присоединилась.
Народ, безработные, вокруг что сидели, глаза стали выкатывать.
Один парень сказал:
– Может, скорую вызвать?
А Кларице с Вигдой – какой смех унять?! Вышли на улицу, но и там продолжали покатываться. Стали за платья друг друга хватать, по плечам и по спинам ладонями хлопать: сейчас слово скажу! Дай лишь воздуха чуть!.. – но попробуй, скажи, когда воздуха нет, когда он в тебя, хоть убей, не втекает, а зато из тебя – как струя из брандспойта. Ха-ха-ха, хо-хо-хо! – животы надорвали. Все поджилки болят. Никакой силы нет. Так что даже поговорить ни о чем не смогли. Обменялись телефонами, – на ладонях друг другу записали, – и все так же – ха-ха! – по домам разбрелись.
II
Вигда работала в фирме, где собирают статистику, занимаются всякого рода опросами: какой цвет предпочтете вы летом? Купальник открытый иль цельный? Безманжетные брюки, но в клеш и с разрезом, или нет, без разреза, в обтяжку на икрах?.. – Вопросы дурацкие. Зачем и кому это нужно? – Вигда не могла объяснить. Да и какая разница? Кто-то заказывает, деньги на счет переводит, сиди целый день и долдонь как сорока: – С клубникою лучше? Иль с привкусом вишни? – звони всем подряд, заноси на компьютер: «да» или «нет», или прочерк – «не знаю». Зарплата – гроши, и поэтому долго там никто не задерживался. Две девчонки учились, а другие искали, куда бы сбежать, и, как правило, находили – такую же дрянь, – но где платят побольше. А кто-то выскакивал замуж. Что негласно считалось конечною целью.
– Но ты не спеши, – с первого дня принялась наставлять Вигда Кларицу. – Работу сменить – дело плевое. Надоела, другую найдешь. А замуж скакнуть – это омут. Надолго.
И эта Вигдина прямота сперва испугала. Знаниями, каким в школе учат, Вигда не блистала. Умножить, сложить – калькулятор на то. Кларица не уверена, что Вигда вообще школу кончила. Но что ей не мешало разбираться в вещах поважнее: в мишуре, ерунде, из которых, по сути, и строится жизнь. Ее глаз моментально хватал, если что-то и с чем-то не сходится.
– Это платье смени, оно старит тебя. И вообще, перейди-ка на брюки. И удобства, – когда Кларица как-то пришла на работу в рубашке мужского покроя, по ее же, по Вигды, совету, – лифчик нужен лишь тем, кому есть что скрывать!
От подобных заявлений бросало в краску. Но, пережив стыд, Кларица всякий раз проникалась завистью: к той легкости, отсутствию тени боязни, с какими Вигда называет вещи своими именами.
– Да женская грудь – нам того не понять! – рассуждала Вигда с такою категоричностью, что поди, усомнись: обстоит, мол, иначе. – А мужчины – куда? На нее лишь и смотрят. И ты им покажи, пусть в штанах у них лопнет!
И Кларица не была одинока в таком отношении к Вигде. Девчонки, что сидели за перегородками (вся фирма была поделена на клетушки), улучив минуту, подбегали к ней:
– Как мой парень тебе? Ну, вчера мы, в кафе?..
И Вигда выносила приговор, порой судьбоносный:
– Гони его прочь. Да надует тебя. Поматросит и бросит. Не строй, в общем, планы.
И бывали обиды, бывало, по неделям одна иль другая с Вигдой не разговаривали, а потом приходили с повинной: что все так и вышло, как ты предсказала.
И совершая над собою усилие, Кларица следовала Вигдиным наставлениям. Сменила прическу… А точнее ее создала, потому что до этого в жизни не стриглась. Подрезала волосы, когда они отрастали чересчур длинные.
– В дорогую парикмахерскую не ходи. Зря деньги потратишь, – и в этом приняла участие Вигда. – Есть у меня знакомый. Много не возьмет. Много надо платить, когда три волосины на черепе. А с твоею копной – тут и делать-то нечего.
Но знакомый сделал… Такое сделал, что Кларица себя не узнала. И по улице шла, в землю пялясь, потому что на нее все оглядывались, ухмылялись, хихикали:
– Экая краля!
– Смотри, как идет!
– Себя выставляет!
– На подиум прямо!..
Вигдин знакомый постриг ее под мальчишку. До того коротко – только чуб на пол лба, и пробор – кожу видно. И покрасил еще, сделал яркой блондинкой. Разве там или сям рыжины подпустил, как солома в стогу, что сгорела на солнце.
– А с зарплаты серьги купи, – не унималась Вигда. – Я тебе помогу. Место знаю одно. Нестандартные вещи.
К этому времени от родителей Кларица съехала. Сняла квартирку на Седьмом этаже; такую же выше – в два раза дороже. Престижнее там – но когда денег нет. А съехать надо было. Отношения, что ни день, накалялись. Отец еще как-то терпел: перемелется, дескать, мука после будет… Хотя, что он имел в виду под «перемелется», а что под «мукой»? Что Кларица набьет вдоволь шишек и снова станет паинькой, какой привезли ее в Дорлин? Второсортной, короче, от чего ей хотелось избавиться. На что мама, скорая на выводы, иллюзий отнюдь не питала:
– Да не видишь?! От рук отбивается. Связалась, небось, черт-те с кем?!
И Кларица совершила ошибку: привела Вигду познакомить с родителями. И пока сидели за столом, и мама угощала всех пирогом, который сама испекла…
– Нестандартно! – узнав о происхождении пирога, не скрыла восхищения Вигда. – Такого в Дорлине с огнем не найдешь, чтобы кто-нибудь сам пироги дома пек.
Отец расспрашивал Вигду о фирме, в которой она работает (Кларица тогда еще только устраивалась), о перспективах на будущее. Не подумывает ли Вигда пойти учиться, получить специальность попрестижней – не век же в телефонистках сидеть? На что Вигда ответила: нет, планы ее много проще.
– Замуж я выйду, и медовый месяц проведу в путешествиях. Повидать надо мир. Пока нету детей.
И это, «детей», в маму словно заноза вошло. То есть так понимай: дети – жизни помеха!?
– А мы, вот, живем. Ничего ведь, не умерли!
Все это разыгралось после Вигдиного ухода. И будь Кларице куда уйти… Но не было. И пришлось все это выслушивать.
– Да совсем другое Вигда имела в виду, – тщетно пыталась объяснить она матери. – Просто молоды мы. Что не вечно, пройдет. И свободны пока, черпнуть хочется жизни.
Но папа в тот раз взял мамину сторону:
– Шлюха твоя Вигда!
Удивив, что с плеча рубанул. Обычно он о вещах судит мягче, умеет разглядеть в них и полутона. Но Вигде досталось одной черной краски:
– Профессиональная шлюха. Знает себя как подать, поднести. Путешествия, мир. Очень даже возможно. Но тот, кто рискнет с нею жизнь свою спутать, ее, этой жизни, лишится. Потому что зов шляться у твоей Вигды и после замужества никуда не денется. Есть такая порода людей – им бы только хватать, что поближе лежит. Присосутся как пиявка, всю кровушку выпьют, – и к другому айда. И неважно к кому. Было б только и там чем-нибудь поживиться.
Наверное, неделю Кларица с родителями не разговаривала. Только-только начала обживаться в Дорлине, понимать, что к чему, избавляться от своей второсортности, как такой вот удар! Появилась подруга – подругу гони!?.. А у самих – телефон по неделям молчит. Разве родственники из медвежьих углов в месяц разок раскошелятся. Нет бы, в Дорлин приехать. Но жди?! Прилетят?! Доходы не те, чтобы в столице проматывать. И чего же хотят: чтобы я, как они, заперлась в четырех стенах? Работа, семья, – ничего, мол, другого на свете и нет?!
Конечно, Вигда не эталон, и у Кларицы в мыслях не было ей во всем подражать. И Вигдины рассуждения о замужестве – надо правильно к ним относиться. Не самоцель это вовсе. Да и Вигда на том не настаивала: омут, в который придется скакнуть; хоти, не хоти – когда жизнь так устроена. Но у Вигды, в отличие от родителей, есть смелость омут омутом называть. А они: поступай, мол, как мы. Будто кто-то сказал, по-другому нельзя?! Мол, поступишь иначе – жизнь прахом пойдет.
В общем, хотели родители или нет, но к тому, что Кларица оставила дом, сами масла подлили.
– Попытайся. Еще приползешь! – на прощанье сказал ей отец.
Но Кларица не приползла. Хотя диву дается, что выстояла. Случались минуты – белугой хотелось завыть! Никогда прежде не оставалась она одна, всегда был кто-нибудь рядом. И о деньгах никогда не задумывалась. Скажет отец: – Денег нет! – и закусит губу: обойдусь я без куклы. А потом деньги появятся, и отец ее за руку и в магазин: – Выбирай, ты вот эту хотела? – И Кларица выбирала и радовалась, что деньги теперь, значит, есть. Но самой их добыть? Сделать что-то такое, за что деньги вот эти заплатят?.. И после ухода из дома – бывало, что в холодильнике шаром покати. Кроме банки с шипучкой, лишь лед там на стенках. Но потом как-то стало устраиваться: девчонки в том-сем помогали; лишнюю смену за кого-нибудь отдежуришь – и к зарплате прибавка. И в холодильнике сыр и масло стали появляться. А то и мяса кусок, и бутылка вина. Можно кашу сварить и котлеты пожарить. И на платья научилась выкраивать. И на серьги, как Вигда сказала… Да, собственно, благодаря Вигде – больше всех она участия приняла – и удалось продержаться. На любой случай у нее припасено что-то было: где дешевле купить, и рассрочку оформить. Без процентов почти. И хорошие вещи.
И жизнь стала, в общем, налаживаться. Квартирка – клетушка. Но это – пока. Стали появляться знакомые. Ухажеры не бог весть какие, но в кино иль кафе вполне можно сходить. Как в той конторе, откуда ей сказали спасибо, она их теперь не спешила отваживать. Понимать начала, что Дорлин – не медвежья берлога, из какой родители ее привезли, здесь другие уклад и порядки. Здесь кто побогаче, шустрей, половчей, такие соблазны – кричи караул! Казино, рестораны, концертные залы!.. Не просто, конечно, до всего этого дотянуться, но под лежачий камень вода не течет. Вопрос лишь в одном: как его с места сдвинуть? А покамест, не напрасно же время терять, вечером на улицу можно выйти: прогуляться по скверу, на рекламу взглянуть, за столик присесть, кофе чашечку выпить. А вдруг тебя кто на заметку возьмет.
У Кларицы красивая фигура… Что было откровением. Она это от Вигды узнала, а раньше считала: коряга корягой. Посмотришь на девчонок вокруг: ущипнуть есть за что, одна и другая уже лифчик носят, а Кларицу от зеркала ветром сдувало. Селедке, и той бы могла позавидовать: грудь не растет; руки, ноги как спички; всё в рост подалось, аж отца переплюнула. А мама и вовсе (без шпильки – как можно?): – С тобой говорить, очи к небу таращи.
Но когда с Вигдой познакомилась, все с головы на ноги перевернулось.
– Фигура – как шляпа, на всё своя мода, – объяснила подруга. – Раньше, – говорит, – такие шляпы носили, лица не видать. И одежки под стать: чем меньше покажешь, цена тебе выше. Любая кикимора нарасхват сразу шла, если ее приодеть умудрялись. Ну а нынче не так, товар должен быть виден. И когда складки жира, второй подбородок, и вымя коровье – плохи твои шансы. Раньше баба – рожать, в том ее назначенье. Значит, кровь с молоком – иль потомство гнилое. А теперь – не рожай, не заставит никто, лишь красивою будь, чтоб эстетики больше. И твоя худоба, – продолжала подруга, – загляни в магазин, на любой упаковке: тут калории две, там – одна, вовсе пшик. Все журналы полны, как диету держать. Книг других давно нет! – кто их станет читать? – подавай всем одно: то не ешь, то не пей. Лишь в две дырки сопи; прыгай, бегай, ходи. Вес сгоняй, уменьшай, как доска плоской будь. Повезло тебе, в общем, ценить это надо.
И Кларица оценила, и зеркала перестала чураться. И то, что поначалу представлялось уродливым, поднатужилась чуть – оказалось красивым.
И одеваться по-дорлински Вигда ее научила:
– Цветочки, ромашки – про это забудь. Рисунки на майку годятся. А в платье – фактура, и цвет чтоб один: не блеклый с гнильцою, а яркий, живой. В глаза чтобы бил, отвернуться нельзя.
И ходить, как положено. Хотя Кларица всегда считала, что нормально она ходит. Не спотыкается. Разве не носится как угорелая, но чтобы носиться – причина нужна.
– К черту причину! – отмахнулась Вигда. – Не вешалка ты. Платье купила – показать его надо. А носиться как угорелой и с красивой походкою можно. А ты словно на палубе, шторм за бортом. А в Дорлине штормов не бывает, и пол от тебя никуда не уйдет. Не вправо и влево, ноги ближе держи. Представь, что по струнке ступаешь.
И с этой стрункой Кларица ох как намучалась. Да людей насмешу. Или ноги сломаю.
– А ты бедрами больше крути!
И крутила, до того крутила, что в позвоночном столбе не раз и не два даже хруст раздавался…
И все-таки, научилась. Раз надо, так надо. Чтобы, когда по улице идешь, замечали тебя, в спину пялились.
А заметят, глядишь, пригласят, позовут: моделью, скажем, работать. Или на обложку журнала – почему бы и нет? Или, скажем, в кино, не смотреть, а сниматься.
О кино Кларица чаще всего задумывалась. И даже роль, какую сыграет, в журнале одном как-то вычитала: приезжает в Дорлин провинциалка, от которой сперва все шарахаются, неухоженная, в бабкином сарафане разгуливает. Что такое косметический кабинет – в жизни не слышала. А потом встречает она человека, чуть-чуть с сединой, но красивый до черта, и ведет он ее в магазин: – Выбирай, на что взгляд свой уронишь! – Дарит кольца и серьги, сажает в машину, и теперь все вокруг: – Где же раньше мы были!? – Соискателей тьма, табуном за ней ходят: – Всё к твоим мы ногам! Только «да» нам скажи. – А она: – Ну-ну-ну! Выбор сделан. Проспали. Только он – мой мужчина! Что серьги купил…
Ну а без журнала, и если фантазии разыгрывались не такие бурные, Кларица останавливалась у магазинных витрин, выбирая поярче и пошикарней. Вот это бы платье – зайду и примерю. И заходила, и примеряла, и сразу себя другим человеком чувствовала, когда продавец вкруг тебя суетится: – Отлично сидит! Ну, на вас, как влитое! – и пылинки сдувает, и полы одергивает. А рот чуть скривишь, тот же миг: – Есть еще! Вам с открытою грудью? И в талии уже? – И даже не купишь… А у Кларицы и в мыслях не было покупать в тех магазинах, где за каждое платье – полгода работай. Точно такое же, ну, может, чуть хуже, она купит совсем в другом месте, где витрины поплоше и продавец поугрюмей. Но принесешь это платье домой, кое-что в нем подправишь, подрежешь, надставишь, – и, поди, догадайся, где куплено было. А из того магазина, где все в зеркалах, воздух пахнет духами, где играет музыка томно и тихо: оставайся во мне, растворись в моих звуках… – В другой раз я зайду! – бросала Кларица продавцу на прощанье. И хотя не хотелось уходить, но нельзя, в самом деле, здесь век оставаться. Выходила на улицу, грустно чуть делалось, но потом эта грусть незаметно рассеивалась. Вспоминала отца: – Ты вот эту хотела? – когда он приводил ее покупать куклу, о которой мечтала, ночей не спала, но вот же, сбывается, стала моею. И от воспоминаний, от пережитого, пока мерила платья, продавец суетился: чем бы еще угодить? – на сердце начинало легчать, и грусть обращалась в предчувствие праздника. Придет такой день! Непременно придет. И вправду, зайду, загляну в зеркала, и музыка мне не покажется томной, и выйду с покупкой, да еще не одна. Для себя, что ль, старалась? Да нужно мне сильно!?..
Хотя тот, для кого старалась, представлялся смутно. С сединой и красавец – но это слова. На то и журнал, чтобы сказки рассказывать. А положа руку на сердце, не представлялся этот красавец, с сединой или без – не представлялся вообще. Понятно, мужчина, но дальше мужчины воображение упиралось как будто бы в стену. Платье, какое Кларица купит, умей она рисовать – тот бы миг набросала: какой материал, и фактура, расцветка. Видела она это платье, стояло оно перед глазами, – а вот человека, с которым захочет связать свою жизнь? Да и не просто жизнь, отдать себя всю, свою душу и тело…
И все-таки Дорлин – одно слово: Дорлин. Он обещал, и Кларица верила ему – не обманет.
III
Разрыв с родителями получился долгий, но не окончательный. Через полгода, а может, чуть больше, позвонил отец – родители первыми пошли на попятный: ты, мол, помнишь, что праздник у нас? Вся семья соберется.
Честно сказать, ничего Кларица не помнила. Никогда прежде семья не собиралась. Не было такой традиции. Но на всякий случай поддакнула. Ведь сам позвонил. Иль не дочь я, отталкивать.
А поводом оказалась серебряная свадьба. Что в переводе на нормальный язык – в Вигдиной интерпретации – означало, что двадцать пять лет люди терпели друг друга. И праздник теперь, что сумели, что сдюжили.
А мне двадцать два, – подумала Кларица. – То есть после того, как родители поженились, успели пожить. Не в первый же день меня бросились делать.
Из семейных преданий Кларица знала, что родни у нее пруд пруди. Но все разбежались, живут черт те где. Лишь дядька один, лет под двести ему, приехал из Колт-Пьери и снял гостиничный номер, а все остальные остановились в родительском доме, отчего он стал походить то ли на военный лагерь, то ли на стоянку кочевников. Кроватей не хватало, спали на полу. И Кларица нарадоваться не могла, что на ночь ей нет здесь нужды оставаться.
Тем не менее, свадьбу отпраздновали в ресторане. Отнюдь не дешевом. Во всяком случае, Кларица не бывала в таких. И жалела, что не смогла пригласить туда Вигду. Но с другой стороны, Вигда бы здесь оказалась чужой. Кларица сидела по правую руку от отца и разглядывала своих родственников, которых видела первый раз в жизни: двоюродных братьев, сестер, троюродных теток, племянников. И странные мысли забредали ей в голову: ведь если отмотать время назад, не на год или два, а на тысячу лет – какой ресторан мог бы это вместить? Всех золовок, дядьев и внучатых племянников? Как подобные вещи выстраиваются? Кто решает: когда ветвь засохла, рубить? А вот эту – лелеять, поближе держать?.. И пришла к заключению, что в основе всего тут лежит компромисс меж природой и что мы природе навязываем. Захотим – и на первом колене порвем, захотим – до десятого станем тянуть, рассуждать: не семья уже мы, а народ. Привлекать доказательства: внешность, язык. Словечки, в кругу этом только понятные. Манеры, ухватки. Как руки держать, если, скажем, в карманы решил их засунуть. Или волосы только назад всем зачесывать. И, ясное дело, во всем подсоблять: местечко получше, пристроить куда, ведь семейные связи – на то и семейные. И если бы так продолжалось – да жизни давно наступил бы конец. И значит, что связи обязаны рваться!
То есть, – продолжала размышлять Кларица, – нет здесь ничего обязательного, а все из меня, как сама я решу.
И она решила, что от этих людей отдалится. Видела, до чего они похожи на нее, на ту прежнюю Кларицу, какой ей не хочется быть. Женщины в платьях, что бабки носили. Пиджаки на мужчинах, нафталином пропахшие. Если галстук повязан, удавка как будто. Да и молодежь от старшего поколения не сильно ушла. Вызова больше, но вызов смешной. Вырядились во все самое лучшее, что не каждый день надевают, и сидит это лучшее на них как тряпье на огородных пугалах. Хотели блеснуть: мы столичных не хуже! – а вышло: деревня в квадрате. Потому что не в одежде дело. Хотя и в одежде тоже. Но перевешивает все отпечаток, что ни под каким платьем и пиджаком не спрячешь. Проще всего сказать, отпечаток провинциальности, но это не совсем провинциальность, во всяком случае, провинциальностью не исчерпывается, – эти люди отстали от времени. И молодежь точно так же, как старшие. Они не изведали вольницы большого города. Не гуляли по его скверам, не сидели на его скамейках, не заглядывались на многоцветье рекламы, перед их глазами не проходили тысячи лиц, незнакомых, чужих, каждый день – всегда новых. Они не останавливались у витрин магазинов, и их не одолевали фантазии: дорасту, заслужу – и однажды все это станет моим! Они думать не думали про обложку журнала, и не коротали досуг за чашкою кофе в предчувствии чуда, которое может, должно ведь случиться! Их завтра – точь-в-точь как вчера. Они по инерции спрашивают один другого: – Как жизнь? – и: – Что нового? – и так же, по инерции, отвечают: – Все то же и так же! – заключая этот якобы диалог дурацкою присказкой, что отсутствие новостей – хорошие новости. Они радуются прошедшему дню, радуются его пустоте, что день, вот, прошел, а со мной, слава Богу, ничего не случилось: здоровье в порядке, на жизнь хватает. Сравнить это можно с чем-нибудь законсервированным, с яблочным вареньем, к примеру, закатанным в банку. Открой эту банку лет через сто – и снова дыхнет той же осенью, садом. Увидишь себя, как собирала в корзину те яблоки, увидишь маму, режущую их на мелкие дольки и засыпающую сахаром. И еще мальчишку, что залез на забор и глядит на тебя, а ты нос воротишь: зря губу раскатал. Ты в этой берлоге будешь век куковать, а меня – увезут. Иль сама как-то вырвусь. – Мальчишка не был безымянным, у него было имя, но некрасивое, Кларице оно не нравилось, – Глэм его звали. Он дергал ее за косы на улице, а потом хохотал, если удавалось сделать Кларице больно. И Кларица его как-то огрела портфелем. И сильно огрела, так, что у него из носа кровь потекла. Но он не заплакал, утер нос рукавом, и тихо сказал: – Я своими руками автомобиль соберу, – (купить, никогда ему денег не заработать), – и тебя с ветерком прокачу!.. – Если я соглашусь. – Согласишься. – И прокатил, шею чуть не свернули. Этот Глэм давно вырос, и где он теперь? На заборы, небось, забыл лазать… А плоды сохранились, в них нету червей. Но пока они сохраняли себя, приключались на свете разные вещи: нарождалось, чего прежде не было, умирало, чье время прошло. Стало лучше ли, хуже? – другой разговор. Но живешь ты сегодня, сейчас. Всякий миг ожидаешь – не чуда, пускай, – но чего-то неведомого, что может прийти, и, конечно, придет, и все в тот же миг переменится. И это не каприз и не прихоть, а закон бытия. Пройдут еще годы, лет двадцать иль тридцать, и за тем же столом и на тех же местах будут сидеть другие люди, а эти – лежать все в могилах, гробах. Потому что ничто в жизни не повторяется, как не повторяется сама жизнь: она – одна, и все в ней – однажды.
И когда Кларица поняла это (для чего надо было прийти в ресторан, до ресторана о том не задумывалась), происходящее ей стало представляться иным. Она стала подмечать мелочи, на которые поначалу не обращала внимания. Что в чопорности официантов присутствует какая-то пренебрежительная развязность. Они каждый день обслуживают здесь посетителей, и праздник, подобный сегодняшнему, для них просто работа, рутина. Нечто настолько обыденное, как ей утром найти свои тапочки. И официанты смекнули уже, кто есть кто, и как себя подобает держать. – Вам кофе иль чай? Пиво? Можно и пиво… – они продолжали носиться с подносами, и все-таки ощущалось, что с другими клиентами они ведут себя по-иному. Пропускают вперед, опускают глаза. А с этими – нет. Кровь, повадка – не те. И даже двухсотлетний дядька из Колт-Пьери, который совал им в карман чаевые, не мог все равно стать для них чем-то большим, чем человеком, пускай и небедным, но не живущим в столице. Словно через зал пролегла стена, тонкая, эластичная и абсолютно прозрачная, которую обе стороны прогибают туда и обратно, но что стену не устраняет, она незримо присутствует, и когда веселье закончится, родственники, а значит, и Кларица, останутся по одну ее сторону, а официанты и ресторан – по другую. С его гирляндами ламп и зеркальными стенами, с полом, утыканным изумрудами, несомненно, поддельными, и неподдельно шикарными. С певицей в платье, осыпанном такими же изумрудами, не отходящей от микрофона и томно бубнящей про что-то свое. С толщенными глянцевыми меню, из которых не только что заказать, а просто прочесть все, что в них перечислено, нужно дожить не до серебряной свадьбы, а до золотой, а то и бриллиантовой.
И если Кларица что-то извлекла из этого вечера, – как сказал папа: чертовски удачного! – то только одно: в следующий раз она из кожи вон вылезет, но останется по другую сторону прозрачной стены. С рестораном, певицей. В том, другом мире, который не закатывали в банку, который, скорее всего, не напомнит об осени, саде и яблочных дольках. Не напомнит о Глэме с окровавленным носом. Кларица останется в мире скоропортящемся. Но как раз потому вдыхать его надо быстрей, в полной мере.
На родственников Кларица произвела впечатление. Наверное, тем, что они разглядели в ней что-то другое, чего в них самих нет, да и вряд ли появится. И они весь вечер осыпали ее комплиментами:
– Прическа!
– А серьги!
– А платье!
– А туфли!..
– На диете, небось?
– Молодец, держишь форму!
– И духи у тебя – поделись, где купила?
Но больше других обхаживал ее дядька из Колт-Пьери:
– Есть внучок у меня. Твой ровесник, чуть младше. Подскочила бы к нам. Познакомлю. Гульнешь с ним. Я его подзапряг. На заводе он главный. Но на случай такой – выходной обещаю.
Кларица не знала, как от дядьки избавиться, и в конце концов пошла танцевать с каким-то племянником, который уже на третьем такте завел ту же песню: что неверно живем, разбрелись кто куда. А должно быть не так, должны вместе держаться. – И сунул Кларице номер своего телефона, надеясь, что Кларица поступит так же. Но Кларица не поступила. Не хватало еще телефон раздавать! – И снова налетела на дядьку, который из металлической коробочки, на манер портсигара, (надо было видеть, как он это делает!) извлек визитную карточку и торжественно (не всякому, дескать, такое!) вручил ее Кларице:
– Не таись. Позвони. Все-то в жизни однажды: упустишь свой шанс, второй может не выпасть. А билет принесут. Я лишь пальцами щелкну. Ведь в конторе твоей, не криви, гроши платят.
Чем Кларицу больно задел: своей прозорливостью и прогнозом на будущее. И Кларица не позвонила, ни ему, ни племяннику, хотя визитную карточку не выбросила. Потому что красивая. Никогда никто Кларице визитных карточек не давал. Положила ее в кошелек и носила с собой: раскрываешь когда, кто-то может заметить.
И Вигде потом это все рассказала: какой ресторан, как и что подавали. И Вигда в очередной раз восхитила Кларицу, как сразу и точно она все хватает:
– Не звони, не езжай – засосет как в болото. Ведь Колт-Пьери этот – для медведей берлога. От столицы – ого! – через всю страну ехать. Устроишь там жизнь. Очень даже возможно. И до гроба потом будешь локти кусать, что все лучшее в жизни прошло меня мимо. А что до ресторана – сходим еще. Не в такие, в шикарнее сходим.
Притом что в тот момент, когда Вигда все это говорила, ничего у нее на примете не было. Это Кларица точно знает. Но Кларицин рассказ о родительской свадьбе разбудил у Вигды аппетит. А когда Вигда чего-нибудь сильно захочет – нет такого, чего не добьется.
IV
И добилась-таки. Кларица видела, как Вигда начала пошевеливаться: кому-то звонить, договариваться. Что, в общем, не новость. С парнями Вигда умела язык находить. Они на нее мотыльками на свечку летели. Даже в фирме – где их было всего ничего – сразу двое вокруг увивались. Чему Кларица завидовала и пыталась понять: ну, одевается с вызовом, лифчик не носит. Прическа, ресницы и серьги в ушах… Но назвать Вигду красавицей? Ухожена – да. Лак всегда на ногтях. Платья часто меняет: наденет раз, два – в третий раз не увидишь…
– Да с соседками я меняюсь, – не из чего не делала секрета Вигда. – У меня их пять, шесть… – припоминая, сколько этих соседок, стала загибать Вигда пальцы. – Мы что-то вроде коммуны организовали. Я бы и тебя в коммуну взяла, да ростом ты выше. Так что, извини, придется тебе других компаньонок искать.
Нет, если кто-то умел жизнь устраивать, из ничего, на гроши, и не хныкать, скулить, из любой ситуации выход найти, то лучше Вигды примера не сыщешь. И что бы ни говорили родители, а этому у Вигды могли поучиться.
– Завтра идем, – оправдала Вигда ожидания, когда через пару дней заглянула в Кларицын закуток. С наушником, микрофоном под носом, но микрофон тот рукою прикрыв. – На восемь договорилась. Так что если будут во вторую смену уламывать – отпирайся, не можешь, и все.
Но вторую смену не предложили, само обошлось. И все равно весь следующий день Кларица как белка в колесе прокрутилась: утром, до работы, – навести маникюр, а в пять, только смену сдала, – к Вигдиному знакомому, фен чтобы сделал.
С коммуной у Кларицы не получалось, хотя жила по соседству девица. Одевалась прилично. И Кларица к ней приглядывалась: в плечах чуть поуже и ноги короче. Но рост – прямо мой. Сантиметр плюс-минус. – То есть оставалось всего ничего: вступай, мол, в коммуну… – что Вигда давно бы уже предложила. А Кларица все не решалась. Да, наверно, и не решилась, если бы – в тот именно день – соседка сама не зашла:
– Извини, я вот стул попросить. Гостей нынче жду, одного не хватает.
– Какой разговор? Да, конечно, бери.
Тут же и познакомились, – ее Ророй зовут, – и соседка уж было ушла – то есть нерешительность Кларицы и здесь свои козни чинила, – но в последний момент внутри что-то ёкнуло:
– Ой! Да утюг я на платье забыла!
И соседка остановилась в дверях:
– Прожгла?
– Не совсем… Но пятно все же видно.
– Это из-за меня, – посочувствовала Рора. – Знаешь: я виновата – я тебя выручу, – и одной рукой прихватив стул, другой потянула Кларицу за собой.
Гардероб у Роры оказался так себе, поскромней Кларициного, но другой – и это самое важное.
– Я вот это, зеленое, сегодня надену, – сказала Рора. – Остальные – твои. Выбирай, что понравится.
И Кларица выбрала. Конечно, если бы сама покупала – без разрезов бы лучше, и так ведь короткое. Но потом, когда походила перед зеркалом: а может, и нет, не мешают разрезы…
Платье было ярко-красного цвета с серебряной ниткой, так что, когда поворачиваешься, по ткани пробегают словно бы молнии: сверху вниз, снизу вверх. Не слишком открытое, оно, тем не менее, не прикрывало шею, – хотя бы могло не прикрыть и побольше, – зато облегало фигуру, хорошо облегало, так что лифчик и вправду не нужен. И серьги к нему подошли. И туфли под цвет.
В общем, вышло вполне. Не стыдно в таком на глаза появиться.
И ровненько в восемь, на метро, Кларица приехала в назначенное место. В самый центр города, Десятый этаж. У входа в ресторан – «Розовый купол» – стояли два парня, но Вигда опаздывала, и Кларица не решилась к ним подойти. Хотя нисколько не сомневалась, что это именно те парни, с которыми условлена встреча.
В зеркальные двери заходили мужчины, пропуская вперед разнаряженных женщин. Напротив дверей то и дело останавливались машины: большие, шикарные. Когда они подкатывали, то из черных вдруг делались красными, из синих – зелеными, желтыми в блестках. Потому что козырек над входом в ресторан был усыпан лампочками, которые все время меняли цвета. А сразу над козырьком, тоже из лампочек, но совсем крохотных, складывались картины: пейзажи, ландшафты, каких не бывает в природе. Или появлялись чудища: звери, не звери, но что-то живое, – нисколько не страшные, но и не смешные. А потом набегала волна, смывала ландшафты и чудищ, и на их месте возникал контур Дорлина. Как бы в тумане, как будто смотришь издалека, как, наверно, когда подъезжаешь к столице. Пока, в какой-то момент, из всего этого мерцания – фрагментарно сначала, как бы из кусочков мозаики, – начинало складываться здание, и складывалось до тех пор, пока не увенчивалось розовым куполом. Что было, очевидно, намеком, откуда пошло название ресторана.
Хотя, если отвернуться от этих картин, никакого здания поблизости нет. Да и не может быть. И не только поблизости. Несмотря на купол, выглядело здание таким же нереальным, как ландшафты и чудища. Потому что в Дорлине здание – нонсенс. Как и то, что зовется домами. То есть слово «дома» существует, но подразумевается под ним совершенно другое: участок стены, за которым расположены, скажем, квартиры, магазины и офисы, – да все, что угодно, чему надо присвоить какой-нибудь адрес. Вот и у Кларицы: Седьмой этаж, Сто Тридцать Четвертая улица, дом номер восемь, квартира сто шесть. И скажешь кому – заблудиться нельзя: приедет, найдет, носом точненько в дверь. И страшно подумать, если бы было иначе. Ведь Дорлин, по сути, один большой дом. И права Вигда, когда говорит: выйди из этого дома – лишь пустыня вокруг, где ближайший оазис – часа три езды. – И, наверное, именно в этой обособленности Дорлина, отрыве ото всех и всего, кроется тайна его величия. Он как человек, порвавший со своим окружением. Он перерос другие города Флетонии, перерос настолько, что утерял с ними общий язык. И его обитатели тоже этот язык утеряли. Потому что избранное для жизни место, кем-то случайно, а кем-то намеренно, делает свое дело: дорлинец, живущий в городе без года неделю, и старожил – не одно и то же, отличить одного от другого ничего не стоит. Годы, проведенные в Дорлине, покрывают каждого словно бы патиной: одного лишь чуть-чуть, а другого настолько, что непросто понять, кем-то мог быть он прежде. Тем не менее, дорлинцы недолюбливают свой город, чем порою кичатся. День ли, ночь, его улицы залиты светом, по ним течет кондиционированный воздух, потому что другому сюда не попасть; телеэкраны вместо стен, полифроловые деревья на тротуарах, всюду толпы народу, потоки машин, бесконечные пробки, из которых не выбраться. Так что, с одной стороны, дорлинцев можно понять: какое любить, да просто испытывать симпатию к этой банке с сельдями?! Однако есть и другая сторона: Дорлин уходил в одиночество, никого за собой не зовя. А раз сами за мной увязались – принимайте таким, каков есть! И дорлинцы принимают. Да и выбора у них, собственно, нет: лилипуты мы рядом с ним, и попробуй-ка пикнуть – задавит, сотрет. О чем вслух вряд ли кто-нибудь скажет. Но Кларица научилась заглядывать людям в глаза, научилась слышать не только то, что они говорят. С тех пор, как сама стала дорлинкой, она сильно продвинулась. Обрядятся как в тогу: горды мы собой; в любом другом городе Флетонии мы зачахли давно бы – там почва и воздух не те, – а здесь мы растем. Кровь из носа, обязаны просто расти. В надежде, – уже от себя добавляла Кларица, – что однажды сравняемся с городом – и его отношение к нам переменится. И за тем, что сегодня кажется причудами этого одинокого исполина, откроется смысл, который покамест неясен. Что это будет за смысл? – хорошо бы, конечно, узнать. Но нельзя знать всего. Есть вещи, в которые можно лишь верить. И Кларица верит, – вопреки показному оптимизму дорлинцев, вопреки непременной улыбке, маской сидящей на их лицах, – верит и не сомневается, что все ее надежды однажды осуществятся. Я перестану быть лилипутом. Город одарит меня: за стойкость, за преданность, что тянулась к нему, дорожила его дружбой, даже когда эта дружба меня тяготила. И поделится знанием, которым делиться пока еще рано: вырвет из времени, смоет клеймо, что досталось мне от родителей, не позволит остаться яблоком в банке.
Вот какие мысли посетили Кларицу, пока она дожидалась Вигду. И не опоздай Вигда, кто знает, могли бы не посетить.
V
Парней…
Одного звали Доберман. Кларица со смеху прыснула:
– Да ведь это собачья порода!
– Для краткости – Доб, – представился парень.
А другого и вовсе не выговоришь, «Левобегущий» (придумал же кто-то такое?), но он разрешил называть себя Лебег.






