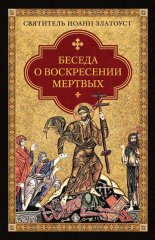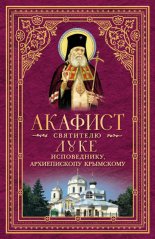Простые смертные Митчелл Дэвид

Мотоциклисты, которых мы недавно обогнали, пронеслись мимо.
– Да, в некоторых кругах я действительно известна под этим именем, – сказала я.
Ее лицо задрожало. Я обратила внимание, что щеки у нее все в рытвинах и шрамах – последствия могучего подросткового акне.
– Будь я проклята! – Она потрясла головой. – Но ведь вы же, черт возьми, вряд ли могли тогда уже родиться! Господи, нет, мне действительно необходимо покурить.
– Не отягощайте стрессом работу ваших бронхов, мисс Хангер. Лучше воспользуйтесь жвачкой. Итак, я жду ваших объяснений.
– Это не какое-то… – Она нахмурилась. – …Это не подстроено? Вы не выдаете себя за…
– Я бы хотела, чтобы вы мне все разъяснили, а то я никак не пойму, что происходит.
На лице Венди Хангер промелькнули подозрения, гнев и недоверие, но ни одно из этих чувств явно так и не одержало верх.
– Ладно, доктор. Вот вам моя история. В молодости, это еще в Милуоки было, я совсем сошла с рельсов. Семейные разборки, развод… насилие. Моя сводная сестра вышвырнула меня из дома, и под конец мамаши кидались через дорогу разбирать своих детишек, лишь бы они ко мне не подошли. Я была… – Она вздрогнула. Старые воспоминания все еще больно жалили ее душу.
– Наркоманкой, – спокойно сказала я. – Но это всего лишь значит, что вы сумели из этого выбраться и остаться в живых.
Венди Хангер уныло пожевала свою жвачку, потом сказала:
– Думаю, вы правы. Однако в 1983 году на Новый год огоньки светились так красиво – господи, тогда-то я выжить и не надеялась! Я, можно сказать, уже ударилась о самое дно. Короче, я вломилась в дом к моей сводной сестре, отыскала ее снотворное и проглотила все таблетки, что были в этом гребаном пузырьке, да еще и пинтой пива запила. Когда я отключилась, по телевизору шел этот фильм «The Towering Inferno»[231]…Вы его видели? – Прежде чем я успела ответить, мимо нас на бешеной скорости промчался спортивный автомобиль, и Венди Хангер сильно вздрогнула. – А очнулась уже в больнице, с трубками, торчавшими у меня из живота и из горла. Оказывается, сосед моей сводной сестры услышал включенный телевизор, зашел, чтобы его выключить, нашел на полу меня и сразу же вызвал «Скорую помощь». Люди думают, что снотворное действует безболезненно, но это неправда. Я и понятия не имела, что живот может так болеть. Я засыпала, просыпалась и снова засыпала. Затем я проснулась уже в приюте для престарелых и от этого чуть окончательно не спятила, потому что мне показалось, что я пробыла в коме лет сорок и успела стать древней старухой, – Венди Хангер горько усмехнулась. – Но там была одна женщина, и она часто приходила ко мне и сидела у моей постели. Я даже не знала, кто она – медсестра, или тоже пациентка, или волонтер. Она брала меня за руку и спрашивала: «Почему вы здесь оказались, мисс Хангер?» Я и сейчас слышу ее голос. «Почему вы здесь оказались, Венди?» Она говорила вроде как немного смешно, с каким-то таким акцентом… в общем, не знаю, из какой она была страны: вроде бы и не черная, но и не совсем белая. Она была похожа… вроде как… на такого грубоватого ангела, который, впрочем, никогда не станет ни обвинять тебя, ни судить за то, что ты сделала, или за то, что жизнь сделала с тобой. И я… сама себе удивляясь, вдруг стала рассказывать ей о себе такое… – Венди Хангер умолкла, изучая тыльную сторону своих ладоней, – …чего никогда и никому не рассказывала. Мы и не заметили, как проговорили до полуночи. И вдруг эта женщина улыбнулась и говорит: «Ну, теперь у тебя все худшее позади, Венди. С Новым годом!» И… я просто, черт побери, разревелась, как корова, сама не знаю почему.
– Она сказала вам, как ее зовут?
В глазах Венди блеснул вызов, но она не ответила.
– Может быть, ее звали Эстер Литтл, а, Венди?
Венди Хангер с силой вдохнула и затаила дыхание.
– Она сказала, что вы это поймете. Да, так она и сказала. Но ведь вам в 1984 году… вы тогда были совсем девочкой. Что же это происходит? Как… о господи!
– А Эстер Литтл не просила вас что-нибудь мне передать?
– Да, да, доктор! Она попросила меня – бездомную наркоманку, совершившую попытку самоубийства, с которой она была знакома всего несколько часов! – передать некое послание своему коллеге по имени Маринус. Я… я… я… я спросила: «А Маринус – это христианское имя, или прозвище, или ни то ни другое?» Но Эстер Литтл сказала: «Маринус – это Маринус» и велела мне передать вам… велела передать вам…
– Я слушаю, Венди. Продолжайте.
– «Три в День Звезды Риги».
Весь мир притих.
– «Три в День Звезды Риги»?
– Да. И больше ни слова. Вот так, слово в слово. Ни больше ни меньше.
Венди всматривалась в мое лицо.
Звезда Риги. Я знала, что когда-то слышала это словосочетание, и стала копаться в памяти, но смысл слов ускользал от меня. Нет, надо быть терпеливой…
– Слово «Рига» ничего для меня не значило. – Венди Хангер продолжала жевать ставший уже совершенно безвкусным комок жвачки. – Во всяком случае, там, на больничной койке в Милуоки. И я попросила ее сказать мне это по буквам: Р-И-Г-А. Затем я спросила, где мне искать этого Маринуса, чтобы передать ее послание, но Эстер сказала: нет, сейчас еще рано, время для передачи послания еще не пришло. И я, естественно, спросила, когда же это время придет. А она ответила… – Венди Хангер судорожно сглотнула и умолкла; я видела, как на шее у нее бешено бьется пульс. – Она ответила: в тот день, когда ты станешь бабушкой!
Типичная Эстер Литтл.
– От всей души поздравляю, – сказала я Венди Хангер. – У вас внучка или внук?
Похоже, мое поздравление ее еще больше встревожило, но Венди все же ответила:
– Девчонка. Моя невестка родила ее сегодня утром в Санта-Фе. Срок-то у нее еще не пришел, ей бы еще пару недель подождать, но тут уж ничего не поделаешь. Так что едва рассвело, на свет появилась Рейнбоу Хангер. Невестка-то у меня из хиппи. Но, послушайте, вы должны… Ну, то есть я тогда подумала, что, может, у этой Эстер бывают приступы слабоумия или она теряет память… Господи! Да разве человек в здравом уме станет просить кого-то о такой безумной услуге? И уж точно в последнюю очередь обратится с этим к наркоманке, проглотившей сотню таблеток снотворного! Я так у нее и спросила. И Эстер сказала, что та наркоманка во мне давно умерла, а настоящая я выжила, и теперь у меня все будет хорошо, начиная прямо с этого вот дня. Вот как она сказала. А еще она сказала, что это послание насчет Риги и точная дата его вручения написаны вечным маркером и в нужный день через много-много лет Маринус меня найдет, но имя у него тогда будет другим, и еще… – Венди Хангер захлюпала носом, из глаз у нее ручьем потекли слезы. – Господи, ну почему же я плачу?
Я сунула ей пачку бумажных носовых платков.
– Она все еще жива? Она ведь, наверное… совсем древняя?
– Та женщина, с которой вы были знакомы, давно скончалась.
Новоиспеченная бабушка кивнула, ничуть этим сообщением не удивленная.
– Жаль. А мне так хотелось ее поблагодарить. Я столь многим ей обязана.
– Это чем же «многим»?
Венди Хангер, казалось, была удивлена этим вопросом, но все же решила пояснить:
– После нашего разговора я уснула и проснулась только утром, когда Эстер давно уже ушла. Сиделка принесла мне завтрак и сказала, что позже меня переведут в отдельную палату. Я сказала, что это, должно быть, ошибка, у меня ведь даже страховки нет, но сиделка сказала: «Твоя бабушка уладила все вопросы и полностью оплатила твое лечение, детка», и я спросила: «Какая бабушка?», а сиделка улыбнулась, словно у меня не все дома, и сказала: «Миссис Литтл, конечно. Она ведь твоя бабушка?» А потом, когда меня уже перевели в отдельную палату, другая нянечка принесла мне… такую черную папку для бумаг, застегнутую на молнию. Внутри была карточка «Bank of America» на мое имя, ключ от какой-то квартиры и еще всякие документы. Как оказалось, – Венди Хангер судорожно вздохнула от избытка чувств, – это документы на владение домом в Покипси. И все документы были на мое имя. Через две недели меня выписали из больницы, я поехала к своей сводной сестре, извинилась за то, что пыталась покончить с собой прямо у нее на диване, и сказала, что уезжаю на Восток и попробую начать все сначала там, где меня никто не знает. По-моему, после моих слов сестра испытала большое облегчение. В общем, дальше было две поездки на автобусах «Greyhound», и я вошла в свой дом в Покипси… который мне подарила самая настоящая живая фея, как в «Золушке». Ну а потом как-то незаметно пролетело сорок лет, я по-прежнему живу там же, и мой муж до сих пор уверен, что дом подарила мне одна моя эксцентричная тетушка. Правды я никогда и никому не рассказывала. Но каждый-каждый раз, когда я поворачивала ключ в замке, я вспоминала ее слова: «Три в День Звезды Риги»; но особенно часто я стала вспоминать это с тех пор, как узнала, что моя невестка беременна; я все думала: а что, если я и впрямь встречусь с этим Маринусом… А сегодня утром я, черт побери, была совсем уж не в себе! Она же сказала: «В тот день, когда ты станешь бабушкой!» Мой муж уговаривал меня остаться дома, я так и поступила. Но тут мне позвонила Карлотта, она у нас теперь управляет нашей компанией такси, и сказала, что Джоди вывихнула локоть, а у ребенка Зейнаб высокая температура, и не могу ли я – пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, Венди! – всего лишь съездить на вокзал и встретить доктора А. Фенби? И, знаете, ведь не было никаких причин думать, что именно вы окажетесь этим Маринусом, но стоило мне вас увидеть, и я… – Венди решительно тряхнула головой, – все сразу поняла. Вот потому-то я сперва и вела себя как ненормальная. Вы уж меня извините.
Пятнышки солнечного света на земле вздрогнули от порыва ветра.
– Ничего страшного. Забудьте об этом. И спасибо за переданное послание.
– А эти слова о Риге… они вообще-то имеют смысл?
Мне следовало быть осторожной, и я сказала:
– Отчасти. Вполне возможно, что это окажется важным.
В голове Венди Хангер явно бродили мысли о криминальных сетях, о ФБР, о «Коде да Винчи», но она все же застенчиво улыбнулась и сказала:
– Ну, это, конечно же, не мое дело! А знаете, мне стало… гораздо легче! – Она потерла глаза кулаками, заметила на руках следы туши для ресниц и посмотрелась в зеркальце. – Господи, ну и вид! Прямо какое-то существо из Черной Лагуны! Можно мне немножко привести себя в порядок?
– Конечно! Не спешите, я пока с удовольствием подышу воздухом.
Я вылезла из машины, подошла к скамье, села и стала смотреть на важную реку Гудзон и на горы Кэтскил; а потом покинула свое тело, вернулась в автомобиль, проникла в мысли Венди Хангер и для начала «отредактировала» все то, что с ней случилось с тех пор, как она вышла из больницы. Затем проследила ее воспоминания в обратном порядке до того момента – сорок один год тому назад – когда она оказалась в больнице города Милуоки. Удалять воспоминания об Эстер было больно, но я решила, что так будет лучше. Посланница забудет о переданном ею послании, которое так долго носила в себе, и обо всем, что сейчас мне рассказала. У нее, конечно, возникнут в дальнейшем странные мгновения, когда она наткнется на необъяснимые провалы в памяти, но вскоре к ней явятся новые мысли и новые заботы, и они, точно сказочный Дудочник из Гамельна в пестрых одеждах, уведут ее нетренированный мозг в дальнейшую жизнь…
Венди Хангер высадила меня у ворот кампуса, где раскинулись клумбы с цветущими нарциссами; чуть дальше виднелся увитый плющом дом ректора.
– Спасибо, Айрис, мне действительно было очень приятно с вами познакомиться.
– И вам большое спасибо, Венди, – и за поездку, и за рассказ об этих местах.
– Да я и сама люблю все здесь людям показывать, особенно тем, кто способен ценить красоту. А сегодня еще день такой замечательный, первый по-настоящему весенний денек.
– Послушайте, я знаю, что мой ассистент уже расплатился с вашим агентством картой, но я бы хотела… – и я вручила ей двадцатидолларовую банкноту, – чтобы вы купили бутылку хорошего вина и отпраздновали начало вашей новой жизни в роли бабушки. – Она колебалась, но я все же сунула ей деньги.
– Это очень щедро, Айрис. Ладно, я непременно это сделаю, и мы с мужем выпьем за ваше здоровье. Вы уверены, что нормально доберетесь обратно?
– Отлично доберусь. Мой друг отвезет меня прямо в Нью-Йорк.
– Тогда желаю отлично провести вашу деловую встречу и немножко отдохнуть в такой чудесный денек. Наслаждайтесь солнышком, потому что потом несколько дней погода будет довольно пасмурной.
Она развернулась и, помахав мне рукой, поехала прочь. А я услышала, как Ошима мысленно спрашивает меня со своими характерными протяжными интонациями: Ищешь университетский женский клуб?
Я попыталась определить его местонахождение, но заметила только студентов с папками для бумаг и сумками для книг, пересекавших хорошо ухоженные лужайки. Четыре человека тащили пианино. Ошима, я только что получила знак от Эстер Литтл, – сказала я.
Парадная дверь ректорского дома открылась, и Ошима – хрупкая фигура с засунутыми глубоко в карманы руками и в какой-то длинной, чуть ли не до колен, бандитского вида куртке с капюшоном, – появился на крыльце ректорского дома. Что за знак?
Ключ. Особым образом зашифрованный в памяти посланца, ответила я, направляясь к дому. Ветви ивы были все покрыты чуть влажными «пушками». Я пока еще не разгадала эту загадку, но непременно разгадаю. На кладбище есть еще кто-нибудь? Я расстегнула пальто.
Только белки. Прыгают и стрекочут, – Ошима скинул с головы капюшон и повернул седоусое лицо семидесятилетнего кенийца навстречу щедрым лучам солнца. – Во всяком случае, так было всего четверть часа назад. Ступай по тропе, ведущей налево от того места, где я стою.
Я подошла на расстояние в несколько метров. Там… кто-то, кого мы знаем?
Иди, иди. Сама увидишь. У нее на голове ямайская шаль.
Я пошла по указанной им тропе. Что еще за ямайская шаль?
Но Ошима, закрыв за собой входную дверь, уже двинулся в противоположную сторону. Вызовешь меня, если понадоблюсь.
Под ногами шуршала старая листва, потрескивали сухие ветки, а над головой уже вылезали из лопнувших почек новые листочки; лес от птичьего гомона так и звенел, точно полный людских голосов Bluetooth. У основания дерева толщиной с ногу динозавра я увидела могильную плиту. Затем еще одну, и еще, и еще. Плиты поросли плющом. Значит, кладбище в Блитвуде – это не регламентированное некими рамками поселение мертвых, а просто лес, где могилы, устроенные между живыми деревьями, питают корни этих сосен, кедров, тисов и кленов. Видение Эстер было точным: «Могилы среди деревьев». Обогнув плотно заросшее падубом дерево, я наткнулась на Холли Сайкс и подумала: Ну, кто же еще мог тут оказаться? [232] Я не видела ее с тех пор, как меня четыре года назад вызвали в Рай к тяжело больной Холли. Ее рак по-прежнему пребывал в стадии ремиссии, но выглядела она почему-то еще более изможденной, чем обычно, сплошные кости и нервы. Голова Холли действительно была обмотана шарфом цветов ямайского флага – красного, зеленого и золотого. Я нарочно стала шаркать ногами и хрустеть ветками, чтобы предупредить о своем приближении. Холли Сайкс услышала и мгновенно надела темные очки, скрывавшие большую часть лица.
– Доброе утро, – первой осмелилась поздороваться я.
– Доброе утро, – нейтральным тоном откликнулась она.
– Извините, что потревожила вас, но я ищу могилу Криспина Херши.
– Это здесь. – И Холли указала на белую мраморную плиту.
КРИСПИН ХЕРШИПИСАТЕЛЬ1966–2020
– Коротко и хорошо, – заметила я. – И никаких клише.
– Да, он отнюдь не был поклонником цветистой прозы.
– Я просто не могу себе представить более мирного, более эмерсоновского[233] места упокоения, – сказала я. – А ведь его работы были типично урбанистскими, и ум у него тоже был урбанистским, а вот душа – пасторальной. Сразу вспоминается Тревор Апворд из его «Эхо должно умереть», обретающий покой только в лесбийской коммуне на острове Мак[234].
Холли изучала меня сквозь темные стекла очков: в последний раз она видела меня через дымку медикаментозного тумана, так что вряд ли была способна сейчас вспомнить, но я все же оставалась в боевой готовности.
– А вы были коллегой Криспина здесь, в колледже? – спросила Холли.
– Нет, нет, я работаю совсем в другой области. Хотя я его поклонница. Я много раз читала и перечитывала его «Сушеные эмбрионы».
– Он всегда подозревал, что эта книга его переживет.
– Достигнуть бессмертия легче, чем соблюдать все предъявляемые им условия.
Голубая сойка камнем упала на пенек, скрывающийся в густом папоротнике, совсем рядом с могилой Херши. Сойка сперва несколько раз что-то пронзительно выкрикнула, а потом издала длинную трель, такую красивую, что перехватывало дыхание.
– В тех местах, откуда я родом, таких птиц не бывает, – сказала Холли.
– Это голубая сойка, – сказала я, – или Cyanocitta cristata. Индейцы-алгонкины называют ее sideso; а якама – xwashhxway, но ареал их распространения кончается где-то над Тихим океаном. Это я сейчас бахвалюсь своими «великими» познаниями.
Холли сняла свои темные очки.
– Вы что, лингвист?
– Заочный. Просто любитель. Я – врач-психиатр, а сюда приехала ради встречи с одним человеком. А вы?
– Просто хотела отдать дань уважения. – Холли наклонилась, подняла с могильной плиты дубовый листок и сунула его в сумочку. – Ну что ж, приятно было с вами побеседовать. Надеюсь, ваша встреча пройдет успешно.
Голубая сойка полетела куда-то сквозь полосы света и зеленоватого, как мох, лесного полумрака. Холли тоже собралась уходить.
– Пока с этим все хорошо, но вскоре, боюсь, станет гораздо сложней, – сказала я.
Холли остановилась, явно пораженная столь странным ответом.
Я откашлялась и сказала:
– Мисс Сайкс, нам нужно серьезно поговорить.
Лицо ее, казалось, снова целиком скрылось за темными очками, как за шторами. Откуда-то вдруг появился ее неописуемый грейвзендский выговор.
– Я не даю интервью представителям СМИ и не участвую ни в каких общественных сборищах и фестивалях. – Она слегка отступила от меня. – Я давно ото всего этого отошла. – Ветка сосны коснулась ее волос, и она испуганно вздрогнула и присела. – Так что никаких разговоров. Кто бы вы ни были, вы не можете…
– В данный момент я Айрис Фенби, но вы также знаете меня как доктора Маринуса.
Она так и застыла. Задумалась, потом нахмурилась. Потом на лице у нее появилось какое-то брезгливое выражение, и она воскликнула:
– Ой, ради бога, не надо! Ю Леон Маринус умер в 1984 году, и он был китайцем! А если вы скажете, что у вас в роду тоже кто-то был китайцем, то я в таком случае скажу… что я – Владимир Путин! Ради бога не вынуждайте меня быть с вами грубой! Ведь все это весьма грубое вранье, не так ли?
– Нет, не так. Доктор Ю Леон Маринус действительно был бездетным, Холли, и то его тело действительно умерло в 1984 году. Но его душа, вот это мое «я», которое и обращается к вам сейчас, это тоже Маринус. И это чистая правда.
Прилетела и улетела стрекоза, быстрая, как смена мысли. Холли медленно повернулась и пошла прочь. Кто знает, сколько фальшивых Маринусов встретилось ей на жизненном пути – от душевнобольных до простых обманщиков, – и все они жаждали урвать хотя бы часть тех денег, которые она заработала, написав свою книгу.
– Помните, 1 июля 1984 года у вас как бы выпали из памяти целых два часа? – крикнула я ей вслед. – Это случилось на дороге, ведущей от Рочестера на остров Шеппи. Я знаю, что с вами тогда случилось.
Она остановилась.
– Я и сама знаю, что со мной тогда случилось! – Она невольно снова повернулась ко мне лицом, но теперь была уже по-настоящему рассержена. – Я подняла на шоссе руку. Какая-то женщина подобрала меня и подбросила к мосту, по которому можно было добраться до Шеппи. Пожалуйста, оставьте меня в покое!
– Вас тогда подобрали на шоссе Йен Фейруэзер и Хейди Кросс. Я знаю, что вам известны эти имена, однако вам неизвестно, что вы находились в одном доме с ними и тем утром, когда они оба были убиты.
– Да говорите что угодно! Отправьте пост с вашей историей на bullshitparanoia.com. Эти психи с удовольствием уделят вам столько внимания, сколько захотите. – Где-то шумно заработала ожившая газонокосилка. – Вы переварили моих «Радиолюдей», выблевали их, замесили эту мерзкую массу на собственном психозе и создали этакое оккультное реалити-шоу, сделав себя его главной звездой. В точности как та спятившая девица, которая застрелила Криспина, будь она проклята. Все, я ухожу. И не ходите за мной, иначе я позову полицию.
Птицы неумолчно щебетали, порхая с дерева на дерево в полосах солнечного света и тени.
Ну что ж, в целом неплохо, мысленно сказал мне Ошима, Невидимый и Ироничный.
Я села на тот же пенек, где только что сидела голубая сойка, и мысленно ответила ему: Ничего. Это еще только начало.
4 апреля
– Это мое самое любимое блюдо во всем меню, дорогая, богом клянусь! – Нестор поставил передо мной тарелку. – Люди приходят, садятся за стол, видят в меню название «вегетарианская мусака» и думают: если в мусаке нет мяса, то это не мусака; и они заказывают стейк, свиную грудинку, бараньи ребрышки, не понимая, чего они себя лишают. Давайте. Пробуйте. Этот рецепт создала моя родная мать, да упокоится с миром ее душа. Дьявольская была женщина! «Морские котики», ниндзя, мафиози по сравнению с греческой женщиной-матерью – просто выводок дрожащих котят. Вот! Это она в рамке над кассой. – Он указал мне на портрет седовласой женщины-матриарха. – Она создала это кафе. И она же изобрела мусаку без мяса. Это было, когда Муссолини вторгся в Грецию и перестрелял здесь всех овец, кроликов и даже собак. Маме пришлось – как это? – импровизировать. Мариновать папоротники в красном вине. Отваривать чечевицу на медленном огне. Тушить грибы в соевом соусе – правда, соевым соусом она стала пользоваться после того, как переехала в Нью-Йорк. Грибы куда питательней, чем мясо. И обязательно белый соус со сливочным маслом, пшеничной мукой и взбитыми сливками. И много-много сладкого перца. Это просто шедевр! Bon appetit[235], моя дорогая. – Он подал мне стакан с водопроводной водой, где позвякивали кусочки льда. – Но только непременно оставьте место для десерта. Вы слишком худенькая.
– Худенькая? – Я похлопала себя по животу. – Вот уж худоба у меня беспокойства точно не вызывает.
Но Нестор уже отбыл восвояси, ловко огибая стремительных молодых официантов. Я поддела вилкой папоротник, обмакнула его в белый соус, подцепила заодно и гриб и сунула в рот. Вкус был таким, что мгновенно вызвал самые яркие воспоминания: 1969 год, когда Ю Леон Маринус еще преподавал всего в нескольких кварталах отсюда, а Старый Нестор был еще совсем Молодым Нестором, и седовласая дама-матриарх, портрет которой теперь висел в рамке на стене, узнав, что «этот китаец, говорящий по-гречески», является «настоящим доктором», представила меня, то есть тогдашнего доктора Маринуса, своим сыновьям как воплощенную американскую мечту. Она каждый раз угощала меня квадратиком пахлавы, бесплатно прилагая десерт к кофе, хотя приходила я сюда очень часто. Мне хотелось спросить у Нестора, когда она умерла, но подобное любопытство могло вызвать ненужные подозрения. Я просмотрела сегодняшний номер «New York Times» и переключилась на кроссворд. Но это не помогло.
Я не могла перестать думать об Эстер Литтл…
В 1871 году Пабло Антею Маринусу исполнилось сорок. Он унаследовал достаточно латинской крови от своего отца-каталонца, чтобы сойти за испанца, так что нанялся судовым хирургом на борт одного американского клипера, уже почти вышедшего в тираж. Клипер носил имя «Пророчица» и отправлялся из Рио-де-Жанейро в Батавию, столицу голландской Ост-Индии, через Кейптаун.
Пережив бурю, подобную тем, что описаны в Ветхом Завете, эпидемию корабельной лихорадки, которая убила более десяти матросов, и схватку с корсарами с острова Панай, мы дотащились до Батавии как раз к Рождеству. Собственно, Лукас Маринус некогда, лет восемьдесят назад, уже посещал эти места, и я хорошо помнила тот зараженный малярией военный гарнизон, который теперь превратился в большой зараженный малярией город. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Я совершала вылазки в глубь страны, чтобы собрать образцы растений вокруг Буйтензорга, но жестокость, с которой европейцы на Яве обращались с местными жителями, лишала меня всякого удовольствия от общения с яванской флорой, и когда в январе «Пророчица» подняла якорь и направилась в молодую английскую колонию на реке Суон, что в Западной Австралии, мне было совсем не жаль покидать эти места. Я никогда прежде не бывала на этом южном континенте, хотя моя метажизнь была уже достаточно долгой, так что, когда наш капитан сообщил, что нам придется недели на три задержаться во Фримантле для кренгования, решила, что две из них непременно проведу в Бичер-Пойнт в Ветландии, и наняла услужливого местного проводника по имени Калеб Уоррен, которого сопровождал его долготерпеливый мул. До начала золотой лихорадки 1890-х город Перт представлял собой всего несколько сотен деревянных домишек, так что выйти за его пределы не составляло туда, и уже через час мы с Уорреном оказались практически в диком краю, с трудом пробираясь по глубоким колеям совершенно раздолбанной дороги. Вокруг расстилался пейзаж, видимо не менявшийся многие тысячелетия. Когда раздолбанная дорога стала практически воображаемой, Калеб Уоррен вдруг помрачнел и стал чрезвычайно молчаливым. В наши дни я бы определила этого человека как типичного «биполярника». Мы шли по холмам, поросшим жесткой растительностью, мимо болотистых оврагов, мимо ручьев с соленой водой, мимо жалких рощиц худосочных деревьев, точно сделанных из картона. Я была очень довольна этим путешествием. В моем альбоме за 7 февраля 1872 года – немало интереснейших зарисовок: шесть разновидностей лягушек, набросок и точное описание бандикута, набросок королевской колпицы и вполне сносная акварель бухты Джервис. Спустилась ночь; мы разбили лагерь среди скал на вершине невысокого утеса. Я спросила у своего проводника, не могут ли аборигены, увидев свет нашего костра, подойти к нам. Калеб Уоррен похлопал по прикладу своей винтовки и грозно заявил: «Пусть они только попробуют, эти ублюдки! Мы будем наготове». Я, в тогдашнем обличье Пабло Антея Маринуса, сидела у костра и записывала свои впечатления, вызванные огромными океанскими волнами, которые, обрушиваясь на берег, поднимали тучи водяных брызг; гудением и царапанием бесчисленных насекомых; странным гавканьем местных млекопитающих; незнакомыми голосами птиц. Мы поужинали местным хлебом «буш-дафф», кровяной колбасой и бобами. Проводник мой пил ром, как воду, и на все вопросы отвечал одинаково: «Да кому, черт побери, какое до этого дело?» Короче, Уоррен являл собой проблему, которую мне пришлось решать уже на следующий день. Я смотрела на звезды и думала о других жизнях. Я не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я заметила, как маленькая мышка преспокойно бежит по руке Уоррена, по его ладони, а потом и по той палочке, на которой мы жарили на огне жирные куски колбасы. Я точно не вводила этого человека в хиатус. Глаза Уоррена были открыты, но он даже не пошевелился…
…когда четыре высоких аборигена с охотничьими копьями выскользнули из-за скал в круг света, отбрасываемого костром. Тощая собака с обрубленным хвостом крутилась рядом, настороженно принюхиваясь. Я встала, не зная, то ли убежать, то ли заговорить с ними, то ли пригрозить им ножом, то ли прибегнуть к эгрессии. «Гости» не обратили на Калеба Уоррена никакого внимания, а он по-прежнему пребывал в полном оцепенении, словно начисто выпал из времени. Аборигены были босы, а их одежда являла собой странную смесь местных набедренных повязок, плащей из шкур и европейских штанов и рубашек, явно позаимствованных у поселенцев. У одного сквозь носовую перегородку была продета кость, и у всех лица и тела были покрыты ритуальными шрамами. Подобная скарификация свидетельствовала о том, что они воины. Да это, собственно, сразу становилось понятно и по их повадкам – вне зависимости от внешнего вида и временного контекста. Я подняла руки вверх, показывая, что у меня нет оружия, но пока совершенно не понимала, каковы истинные намерения этих людей, и мне было страшно. Эгрессия, то есть выход души из тела, в те времена занимала у меня от десяти до пятнадцати секунд – гораздо больше, чем потребовалось бы этим четверым копьеносцам, чтобы покончить с перипатетической жизнью Пабло Антея, а смерть от пронзившего тебя копья достаточно быстрая, но очень неприятная. Затем в круге света возникла бледная женщина, состоявшая, казалось, из одних костей, обтянутых кожей. Волосы у нее были собраны на затылке в пучок, а одета она была в некое подобие бесформенной рясы; примерно такие рясы раздавали туземцам миссионеры, столкнувшиеся с необходимостью прикрыть слишком большое количество обнаженного тела. Возраст женщины определить было трудно. Шла она как-то странно, то ли была кривобока, то ли ее кренило. Она приблизилась ко мне, остановилась и стала весьма критически меня изучать, словно я была лошадью, а она сомневалась, стоит ли ей эту лошадь покупать.
– Не дергайся, – вдруг сказала она мне. – Если бы мы хотели вас убить, вы оба уже несколько часов были бы мертвы.
– Вы говорите по-английски! – вырвалось у меня.
– Мой отец меня научил.
Она повернулась к воинам и заговорила с ними на языке, который, как я потом узнала, назывался нунгарским. Затем она села на камень у огня, а один из воинов извлек из пальцев Калеба палочку с надетым на нее куском колбасы, понюхал и осторожно куснул раз, потом другой.
– Твой провожатый – плохой человек. – Женщина, казалось, разговаривала с костром, но обращалась явно ко мне. – Он собирался напоить тебя спиртным, стукнуть по голове, забрать твои деньги, а тебя сбросить вот с того утеса. Учти: у тебя будет еще больше денег, и он снова встретится с тобой через два года. Ясно тебе? Для него это большое… – она поискала нужное слово, – искусание? Так, да?
– Может, искушение?
Женщина кивнула и прищелкнула языком.
– У него был план: рассказать белым людям с реки Суон, что из буша ты больше никогда не вернешься. А он украдет все твое добро.
– Откуда тебе все это известно? – спросила я.
– Летала. – Одной рукой она коснулась лба, а второй изобразила трепетание крыльев. – Ты знаешь, как. Да? – Она следила за моей реакцией.
Я испытывала целую бурю чувств.
– Значит, ты… психозотерик?
Она наклонилась ближе к огню. Я видела европейский абрис ее носа и подбородка.
– Большое слово, мистер! – Ну да, я ведь тогда была в мужском теле Пабло Антея Маринуса. – Я мало говорю по-английски. Забываю слова. Но пятно моей души светится ярко. – Она слегка похлопала себя по лбу. – У тебя тоже так. Boylyada maaman. И с духом юрра ты говоришь.
Я старалась сохранить в памяти каждую мельчайшую подробность. Четверо воинов рылись в заплечном мешке Уоррена. Пес с обрубленным хвостом продолжал все обнюхивать. Кусок плавника, горящего в костре, плевался искрами. Значит, я в обличье Пабло Антея Маринуса совершенно случайно наткнулась на западном краю малоизученного Австралийского континента на женщину-аборигена, которая, безусловно, является одаренным психозотериком! Ничего себе! А эта загадочная полукровка сунула в рот кусок колбасы, прожевала, рыгнула и спросила:
– Как называется эта… палка из свиного мяса?
– Колбаса.
– Колбаса. – Она словно пробовала это слово на вкус. – Мик Литтл делал колбасу.
Подобное заявление тут же вызвало у меня вопрос:
– Кто такой Мик Литтл?
– Отец этого тела. Отец Эстер Литтл. Мик Литтл убивал свиней и делал колбасу, но он умер. – Она изобразила сильный кашель и вытянула вперед руку. – Кровь. Много крови.
– Значит, отец твоего тела умер от туберкулеза? От чахотки?
– Да, так это называли. Потом люди продали ферму, и мать Эстер, женщина из племени нунгар, вернулась обратно в буш. И взяла с собой Эстер. Эстер умерла, и я вошла в ее тело. – Она нахмурилась, покачиваясь взад-вперед на пятках.
Некоторое время я молчала, потом сказала:
– Имя этого тела – Пабло Антей Маринус. Но мое настоящее имя – Маринус. Зови меня просто Маринус. А у тебя есть настоящее, истинное, имя?
Она грела руки над костром.
– Мое нунгарское имя – Мумбаки, но у меня есть и более длинное имя, которое я никому не скажу.
Теперь я понимала, как Кси Ло и Холокаи чувствовали себя, когда – за пятьдесят лет до этих событий – вошли в гостиную семейства Косковых в Санкт-Петербурге. Вполне возможно, что эта Вневременная личность, приспособившая данное тело для своего временного пребывания, не захочет иметь с Хорологами ничего общего и ей будет совершенно безразлично, что существуют и другие, такие же, как она, тонким слоем разбросанные по всему миру; но меня согревала мысль, что мы с ней принадлежим к одной разновидности живых существ и теперь мне грозит, пожалуй, уже меньшая опасность, чем пятнадцать минут назад. Я задала своей гостье следующий вопрос, на этот раз мысленно: Так как мне называть тебя: Эстер или Мумбаки? Прошло какое-то время, ответа так и не последовало. Огонь перебирал догорающие кости плавника, и время от времени вверх спиралью взмывали искры; воины, устроившись неподалеку, разговаривали друг с другом тихими голосами. И как раз в тот момент, когда я окончательно решила, что даром телепатии эта женщина не наделена, она мысленно ответила мне: Ты – wadjela, белый человек, так что для тебя я – Эстер. Будь ты из народа нунгар, я для тебя была бы Мумбаки.
– У меня это тридцать шестое тело, – сказала я Эстер уже вслух. – А у тебя?
Те вопросы, которые Эстер считала, так сказать, несущественными, она попросту игнорировала, и на этот вопрос я ответа не получила. После чего мысленно спросила: Когда ты впервые прибыла в эту страну? В Австралию?
Она погладила собаку и сказала: Я всегда здесь.
Даже Вневременным, тем, кто является на Земле, так сказать, постоянным резидентом, иногда выпадает подобная роскошь. Значит, ты никогда не покидала Австралию?
– Да. Я всегда оставалась на земле Нунгар, – сказала она вслух.
Я ей позавидовала. Для таких, как я, разведчиков, каждое новое возрождение – это лотерея и в выборе точки на земном шаре, и демографии, и пола. Мы умираем и пробуждаемся, невинные как младенцы, через сорок девять дней и чаще всего – в совершенно ином месте и окружении. Я попыталась представить себе, что всю свою метажизнь проведу на одном месте, мигрируя из одного тела, старого или умирающего, в новое, молодое и здоровое, но никогда не нарушая связь с неким кланом, с определенной территорией.
– Как ты меня нашла? – спросила я.
Эстер отдала последний кусок колбасы собаке.
– Буш говорит, разве ты не знаешь? А мы слушаем.
Я заметила, что четверо воинов снимают с мула седельные сумки.
– Вы что, крадете мой багаж?
Женщина-полукровка встала. Мы понесем твои сумки. В наш лагерь. Ты идешь?
Я посмотрела на Калеба Уоррена и с тревогой сказала ей мысленно: Кто-нибудь его съест, если мы оставим его здесь.
– Или, – сказала я уже вслух, – на нем может от костра вспыхнуть одежда; или он просто растает на солнце.
Эстер изучала свою руку. Вскоре он проснется, и голова у него будет как улей с пчелами. Он подумает, что уже убил тебя.
Мы шли большую часть ночи, пока не достигли скалистого выступа, название которого на языке народа нунгар означало «пять пальцев»; неподалеку находился нынешний Армадейл. Сопровождавшие нас воины были уроженцами этих мест, ну а Эстер прибыла туда только на лето. Уже со следующего утра я очень старалась принести хоть какую-то пользу своим хозяевам, но хотя в своих прошлых жизнях мне довелось быть членом племен ицекири, кавескар и гуредж, я все же успела привыкнуть к более обеспеченной жизни, будучи Лукасом Маринусом, Кларой Косковой и Пабло Антеем; прошло уже как минимум два века с тех пор, как я со своими соплеменниками добывала себе пропитание охотой и грабежами. От меня было больше толку, когда я помогала женщинам скоблить шкуры кенгуру, или лечить кому-то сломанную руку, или собирать в буше мед. Я также развлекалась тем, что с наслаждением удовлетворяла свое любопытство протоантрополога: мои дневники сохранили записи о том, как очищали землю, выжигая кустарник; как тем же способом выкуривали из чащи дичь; как нунгары почитали тотемных животных; как с юга явились пятеро мужчин, чтобы выменять красную охру на ценное дерево burdun; как происходил торжественный обряд родительства, учрежденный Эстер, которая, покинув свое тело, проникала в зародыш и осуществляла психозотерический тест ДНК. Группа племенных сородичей Эстер продемонстрировала мне пример сострадательного отношения к слабоумному дядюшке; они, правда, с большим недоверием относились к моему европейскому происхождению, но все же оказывали должное уважение как «коллеге» Мумбаки, Boylyada maaman. За детьми практически никакого присмотра не было. Один мальчик по имени Кинта любил, позаимствовав у меня куртку и шляпу, важно во всем этом разгуливать; а еще дети очень любили демонстрировать мне – точнее, тогдашнему Пабло Антею, неуклюжему бледнолицему европейцу, – свои многочисленные умения коренных жителей буша. Мои попытки разговаривать с ними на их языке вызывали бесконечное веселье, но с помощью соплеменников Эстер мне все же удалось составить словарь языка нунгар, безусловно, далекий от совершенства, но лучший из существующих в настоящее время.
Нунгары не считали Мумбаки божеством; ее воспринимали как хранительницу племени и его коллективной памяти, как целительницу, как самое надежное оружие и как главного судью. Она постоянно перемещалась с места на место и жила то в одном поселении сородичей, то в другом, отводя на пребывание в каждом несколько месяцев из шести нунгарских времен года и помогая каждой из этих больших семей всем, чем только могла; одновременно она старалась внушить соплеменникам мысль, что чересчур яростное сопротивление европейцам может привести лишь к еще большему количеству жертв среди аборигенов. Она сама призналась мне, что из-за этого некоторые называют ее предательницей, однако в последнее время, к началу 1870-х, ее доводы оказались вполне доказаны конкретными примерами. Европейцев было слишком много, они обладали поистине ненасытным аппетитом, чрезвычайно неустойчивой моралью и очень метко стреляющими ружьями. Хрупкая надежда племени нунгар на выживание могла быть связана только с тем, что они сумеют как-то приспособиться к новым условиям, и любые негативные перемены во взаимоотношениях с европейцами означали бы, что у аборигенов этой надежды больше не осталось. Впрочем, нунгары и теперь толком не знали, что на уме у этих «людей-с-кораблей», именно поэтому Мумбаки когда-то и выбрала для своего нынешнего пребывания десятилетнюю девочку-полукровку. С той же целью она пригласила и меня, то есть Пабло Антея, в стойбище Пять Пальцев – ей хотелось, чтобы нунгары получили возможность узнать о широком мире и населяющих его людях что-то еще.
Ближе к ночи мы с Эстер уселись напротив друг друга у костра, горевшего перед входом в ее маленькую пещеру, и стали мысленно беседовать о возникновении империй, об их возвышении и крахе, о больших городах, о том, какие теперь строят суда и какое развитие получила промышленность. Говорили мы и о работорговле, о вывозе людей из Африки, о геноциде автохтонного населения на Земле Ван Демена[236], о возделывании земли, о брачных союзах, о фабриках, о телеграфе, о газетах и журналах, о математике и философии, о юриспруденции и деньгах, а также о сотне других вещей. Я чувствовала себя примерно так же, как Лукас Маринус со своими просветительскими выступлениями в домах ученых Нагасаки. Я рассказывала Эстер о том, кто такие поселенцы, высадившиеся во Фримантле, почему они совершили столь далекое путешествие, во что они верили, чего желали и чего боялись. Я попыталась также объяснить, что такое религия, но в племени нунгар не доверяли священникам, особенно после того, как те роздали одеяла, «присланные Иисусом», людям из нескольких кланов, живущих выше по реке Суон; не прошло и нескольких дней, как люди там начали умирать от страшной болезни – судя по описаниям Эстер, это более всего было похоже на черную оспу.
Впрочем, почти на всех «подопечных» территориях Эстер в первую очередь считали Учителем. Ее поразительный метавозраст стал мне очевиден, когда во время нашей очередной ночной безмолвной беседы она стала перечислять имена всех своих предыдущих реципиентов, а я выкладывала в ряд по камешку на каждое названное имя. Камешков набралось 207. Мумбаки обычно вселялась в тело своего очередного «хозяина», когда тому было лет десять, и оставалась до его смерти, что наводило на мысль о том, что ее метажизнь продолжается уже не менее семи тысячелетий. Это было в два раза дольше, чем у Кси Ло, старейшего из всех Вневременных, до сих пор известных Хорологам; но даже Кси Ло при своем «весьма почтенном» возрасте в двадцать пять веков казался просто юношей по сравнению с Эстер, душа которой существовала до возникновения Рима, Трои, Древнего Египта, Пекина, Ниневии и Ура. Она учила меня кое-каким своим молитвам, которые я пыталась идентифицировать с различными формами почитания Глубинного Течения задолго до Раскола. В некоторые вечера мы с ней совершали Акт Трансверсии, и Эстер как бы развертывала мою душу внутри своей, чтобы я могла получить необходимые мне знания гораздо быстрее и в гораздо большем объеме, чем просто задавая вопросы в привычном обличье. Когда же она проникала в мою душу и сканировала мои мысли, я чувствовала себя третьесортным поэтом, который принес показать свои жалкие стишата самому Шекспиру. А уж когда Эстер позволяла мне сканировать ее мысли, я и вовсе казалась себе жалким мальком, которого выплеснули из привычного аквариума в глубокое море.
Через двадцать дней я распрощалась с гостеприимными хозяевами и отправилась вместе с Эстер в долину реки Суон; нас сопровождали все те же четверо воинов, вместе с которыми мы и пришли на стойбище от бухты Жервезы. От Пяти Пальцев мы двинулись на север, в сторону Пертских холмов. Мои провожатые безошибочно ориентировались среди лесистых склонов – примерно столь же хорошо мой нынешний «хозяин» Пабло Антей ориентировался на улицах и переулках своего родного Буэнос-Айреса. Ночевку мы устроили в русле высохшего ручья рядом с бившим из-под земли родником. Поужинав вареным ямсом, дикими ягодами и мясом утки, я уснула, но каким-то прерывистым, скользким сном и спала до тех пор, пока меня мысленно не разбудила Эстер, а такие вещи всегда бывают связаны с некоторой потерей ориентации во времени и пространстве. Было еще темно, но предрассветный ветерок уже шевелил ветви деревьев, словно беседуя с ними. Передо мной на фоне куста банксии виднелся силуэт Эстер. Еще не успев толком очнуться, я мысленно спросила у нее: Все ли в порядке?
Эстер ответила: Следуй за мной. И мы прошли через полоску ночного леса, где шуршали листьями женские особи дубов, затем поднялись по известняковому гребню холма, как бы отмечавшему границу леса и разделявшемуся на три зубца. Каждый зубец был всего в несколько футов шириной, но длиной в несколько сотен метров, и края этих странных «пальцев» были такими отвесными, что спотыкаться и терять равновесие что-то совсем не хотелось. Эстер сказала, что это место и называется соответственно: Коготь Эму, и повела меня куда-то вдоль центрального «пальца». В итоге мы вышли к точке, с которой открывался вид почти на всю долину реки Суон. Извилистое русло реки посверкивало серебром в свете звезд, а земля по берегам выглядела как лоскутное одеяло из неровных кусков более светлого и более темного серого цвета. Примерно в дне ходьбы оттуда, на западе, обозначала границу земли и океана белая полоса прибоя, и я догадалась, что темное, резко очерченное пятно на северном берегу реки – это Перт.
Эстер села; и я тоже села с нею рядом. Личинка пилильщика пела свою хриплую песенку внутри ствола эвкалипта. Я собираюсь научить тебя моему истинному имени, сказала Эстер.
Ты же говорила, мысленно ответила я, что для этого понадобится целый день.
Да, это верно, но я произнесу его прямо внутри твоей головы, Маринус.
Я колебалась. Это такой дар, за который мне вряд ли удастся отплатить. Мое истинное имя – это всего лишь одно слово, хотя и довольно длинное, и ты его уже знаешь.
– Разве ты виновата, что такая дикая? – сказала она. – А теперь помолчи-ка. И открой свою душу.
И душа Эстер вошла в меня, и она вписала в мою память свое длинное-предлинное имя. Имя Мумбаки прирастало другими именами десятки, сотни, тысячи лет с тех пор, как в селении Пять Пальцев появилась на свет мать Мумбаки – тогда, правда, это место называлось Две Руки. Хотя большая часть слов, составлявших истинное имя Эстер, и находилась за пределами моих познаний в языке нунгар, постепенно я все же начинала понимать, что ее имя – это еще и история ее народа, нечто вроде знаменитых гобеленов Байо, которые сплетают миф с любовью, рождениями, смертями, охотой, битвами, путешествиями, засухой, пожарами, бурями; в это имя были вплетены также и имена всех тех, в чьих телах Мумбаки временно проживала. Слово «Эстер» было в ее имени завершающим. Когда она совершила эгрессию, я открыла глаза и увидела на горизонте узкую полоску восходящего солнца, уже успевшую воспламенить пышный ковер растительности, расстилавшийся под нами и теперь вспыхнувший ослепительно-зеленым цветом; скалистый обрыв сразу засверкал золотом, и заалели легкие узкие облака на горизонте, похожие на ребра кита, и сразу вокруг запели, закричали, заворковали тысячи птиц.
– Ничего себе, неплохое у тебя имя! – восхитилась я, уже испытывая боль расставания и утраты.
Криволистный эвкалипт кровоточил смолой, а на его ветвях звездами сияли цветы Corimbia calophylla.
– Возвращайся когда захочешь, – сказала мне Эстер. – Или пусть приходят другие, те, о которых ты говорила.
– Я непременно вернусь, – пообещала я. – Но лицо мое, наверное, будет уже другим.
– Мир меняется, – сказала она. – Даже здесь. Невозможно это остановить.
– Как же мы найдем тебя, Эстер? Я, или Кси Ло, или Холокаи?
Разбейте лагерь здесь. Вот в этом месте. На Когте Эму. Я буду знать. Мне моя земля скажет.
Меня ничуть не удивило то, что она вернулась назад. А сама я направилась в Перт, зная, что бесчестный человек по имени Калеб Уоррен вскоре испытает там самый сильный испуг в своей жизни.
На двадцать седьмом слове из тех, что составляли ее имя, я остановилась и перестала перебирать воспоминания – закружилась голова; потом я подняла глаза и обнаружила прямо перед собой собственное отражение: на меня смотрела Айрис Маринус-Фенби, отражаясь в темных очках Холли Сайкс. Сегодня голова Холли была замотана сиреневым шарфом. Видимо, догадалась я, волосы у нее все же не вполне восстановились после той тяжелой «химии», которую она прошла пять лет назад. Платье цвета индиго с глухой застежкой под горло и юбкой до лодыжек полностью скрывало ее тело.
– Учтите, я лучше всех в мире умею игнорировать тех, кто пытается заставить меня обратить на них внимание! – Холли хлопнула по столу каким-то конвертом. – Но вы действуете так грубо, так навязчиво и так странно, что это просто ни в какие ворота не лезет! Итак, считайте, что победили. Я здесь. Я шла по Бродвею и на каждом перекрестке думала: зачем тратить даже минуту размышлений на такую чушь, да к тому же сбивающую с толку? И бесчисленное множество раз я была почти готова повернуть назад.
– Ну, и почему же вы не повернули? – спросила я.
– Потому что я хочу знать: если Хьюго Лэм так мечтает выйти со мной на связь, то почему не сделал это, как все остальные: не послал электронный адрес через моего агента? Зачем было посылать вас и эту… – она постучала по конверту, – эту подделку? Неужели он думал, что подобная фотография может произвести на меня какое-то впечатление? Или заставит вспыхнуть былое пламя? Ну, если он действительно так думает, то его ожидает жестокое разочарование.
– Может быть, мы все же сядем и закажем ланч, а я все вам объясню?
– Не думаю, что это возможно. Я ем только с друзьями.
– Тогда кофе? Кофе можно пить с кем угодно.
С едва скрываемой неохотой Холли приняла мое предложение. Повернувшись к Нестору, я изобразила руками чашку и одними губами прошептала «кофе», и он тут же закивал: сейчас-сейчас.
– Во-первых, – сказала я Холли, – мы надеемся, что Хьюго Лэм ничего об этом не знает. Он, кстати, уже много лет существует под именем Маркуса Анидера.
– Значит, если Хьюго Лэм вас не посылал, то откуда вам вообще известно, что мы с ним встречались много лет назад на богом забытом швейцарском лыжном курорте?
– Один из нас принадлежит к Темному Интернету. Подслушивать самые разнообразные вещи – это его хлеб насущный.
– А вы чем занимаетесь? Вы по-прежнему врач-китаец, умерший в 1984 году? Или в настоящее время вас следует считать вполне живой особой женского пола?
– Я и то, и другое, и третье, и четвертое. – Я положила на стол свою визитку. – Доктор Айрис Маринус-Фенби. Психиатр-клиницист, постоянное место жительства – Торонто, хотя консультирую во всех странах мира. И я действительно до 1984 года я была Ю Леоном Маринусом.
Холли сняла темные очки, изучила мою карточку, потом перевела взгляд на меня; на ее лице читалось отвращение.
– Мне, я вижу, придется все проговорить очень четко раз и навсегда. Итак, слушайте: я не видела Хьюго Лэма с утра 1 января 1992 года; ему тогда было лет двадцать пять. Значит, теперь ему пятьдесят пять. Почти как мне. Однако с помощью фотошопа или еще каких-то уловок на этой фотографии Хьюго Лэму по-прежнему двадцать пять плюс-минус год-другой, хотя снят он на фоне башен-спиралей, построенных в 2018 году, на груди у него висят электронные темные очки и он в майке с надписью «Qatar 2022 World Cup». Да, и еще эта его машина! Таких машин в 1990-е годы просто не было. Я это очень хорошо помню. Так что эта фотография – вульгарная подделка. Фотошоп. В итоге у меня к вам два вопроса: «К чему было столько хлопот?» и «Кто именно так хлопотал?».
Ребенок за соседним столиком играл на 3D-приставке: заставлял кенгуру прыгать с одной движущейся по спирали платформы на другую; за ловкий прыжок начислялись очки.
– Эта фотография сделана в июле прошлого года, – сказала я Холли. – И с тех пор к ней никто не прикасался.
– Значит… Хьюго Лэм отыскал источник вечной молодости?
Молодой официант с таким же, как у Нестора, внушительным носом прошел мимо с мини-жаровней и тарелкой, на которой шипели две отбивных на косточке.
– Нет, не источник. Он нашел некое место и был подвергнут некой процедуре. В 1992 году Хьюго Лэм стал Анахоретом Часовни Мрака. С тех пор, как он вступил в ряды последователей Слепого Катара, он ничуть не постарел.
Холли выслушала меня, презрительно фыркнула и сказала:
– Ну что ж, я очень за него рада. Теперь мне наконец стало ясно, что мой случайный партнер на одну ночь стал… скажем так, «бессмертным»!
– Да, бессмертным, но лишь при определенных условиях и соблюдении определенных правил, – уклончиво заметила я. – Он бессмертен только в том смысле, что внешне не стареет.
Холли так разозлилась, что у нее даже дыхание перехватило.