Пляска смерти Кинг Стивен
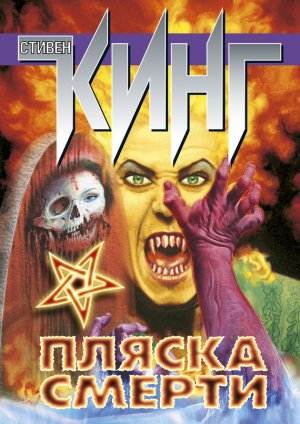
Первый фильм, который я посмотрел еще ребенком, назывался «Тварь из Черной лагуны» [Creature from the Black Lagoon]. Кинотеатр был «драйв-ин»; мне тогда, вероятно, было около семи лет, потому что картина, в которой снимались Ричард Карлсон и Ричард Деннинг, вышла в 1954 году. Она демонстрировалась в стереоварианте, но я не помню, чтобы надевал очки, так что, возможно, это был вторичный прокат.
Из этого фильма я ясно помню только одну сцену, но она произвела на меня неизгладимое впечатление. Герой (Карлсон) и героиня (Джулия Адамс, которая выглядела совершенно сногсшибательно в слитном купальнике) участвуют в экспедиции где-то в дебрях Амазонки. Они пробираются по узкому болотистому ручью и оказываются в широком бассейне, который выглядит идиллической южноамериканской версией райского сада.
Но в этом раю таится чудовище – естественно. Это чешуйчатая земноводная тварь, очень похожая на дегенератов-полукровок Лавкрафта – безумное и святотатственное отродье богов и земных женщин (я вас предупреждал, что трудно уйти от Лавкрафта). Чудовище медленно и терпеливо перегораживает ручей дамбой из веток и стволов, потихоньку запирая антропологов в ловушку.
Я тогда едва научился читать, а до ящика с отцовскими книгами было еще несколько лет. Смутно помню маминых приятелей в это время – примерно с 1952 по 1958 год; воспоминаний достаточно, чтобы понять: она общалась с мужчинами, – но недостаточно, чтобы представить ее интимную жизнь. Одного звали Норвилл; от него пахло сигаретами «Лаки», и летом он включал в своей двухкомнатной квартире три вентилятора; другой был Милт, он водил «бьюик» и летом носил гигантские синие шорты; был еще третий, очень маленького роста; кажется, он работал поваром во французском ресторане. Насколько мне известно, ни с кем из них о браке речь даже не заходила. Матери, видно, хватило одного раза. К тому же в то время было принято, чтобы замужняя женщина утрачивала способность принимать решения и зарабатывать на жизнь. А я помню маму упрямой, неподдающейся, мрачно упорной; ее почти невозможно было переубедить; она приобрела вкус к самостоятельности и хотела сама определять, как ей жить. У нее были приятели, но никто из них не задерживался надолго.
В тот вечер у нас был Милт, тот самый, с «бьюиком» и в больших синих шортах. Казалось, мы с братом ему нравились, и он не возражал, если время от времени мы оказывались на заднем сиденье его «бьюика» (когда входишь в спокойные воды сорокалетнего возраста, идея о поцелуях в машине за просмотром фильма уже не кажется такой привлекательной… даже если у вас «бьюик» размером с крейсер). К тому времени как появилась Тварь, мой брат сполз на пол и уснул. Мама с Милтом курили одну на двоих сигарету с ментолом и о чем-то разговаривали. Впрочем, они не имели значения – по крайней мере, в этом контексте; ничто не имело значения, кроме больших черно-белых фигур на экране, когда отвратительная Тварь загоняла героя и сексапильную героиню в… в… в Черную лагуну!
Глядя на экран, я вдруг понял, что Тварь стала моей Тварью; я ее приобрел. Даже для семилетнего мальчика Тварь выглядела не очень убедительно. Я тогда не знал, что это добрый старый Рику Браунинг, знаменитый подводный каскадер в костюме из латекса, но догадывался, что это какой-то парень в костюме чудовища… и точно так же догадывался: он еще навестит меня в черной лагуне моих снов – и будет выглядеть гораздо правдоподобнее. Он может ждать в шкафу, когда мы вернемся домой; может затаиться в темной уборной в конце коридора, от него будет нести водорослями и болотной гнилью, и он будет готов закусить маленьким мальчиком. Семь лет – возраст небольшой, но вполне достаточный, чтобы понять: ты получаешь то, за что платишь. Ты владеешь этим, ты это купил, оно твое. Ты уже достаточно взрослый, чтобы ощутить, как внезапно оживает в твоих руках лоза, наливается тяжестью и поворачивается, указывая на скрытую воду.
Моя реакция на Тварь в тот вечер, вероятно, была идеальной, именно той, на которую надеется всякий писатель или режиссер, когда снимает колпачок с ручки или крышку с объектива камеры: полная эмоциональная вовлеченность, не ослабленная никаким мыслительным процессом, – а ведь вы понимаете, что для того чтобы разрушить очарование, достаточно заданного шепотом вопроса приятеля: «Видишь молнию у него на спине?»
На мой взгляд, только люди, работающие в этой области, понимают, насколько хрупко это впечатление и какое удивительное воздействие оно способно оказать на взрослого читателя или зрителя. Когда Кольридж писал о «приостановке неверия», мне кажется, он понимал, что неверие – не воздушный шарик, который можно запустить в воздух с минимальными усилиями; оно обладает свинцовой тяжестью, и его нужно поднимать рывком. Неверие – тяжелая штука. Возможно, произведения Лавкрафта и Артура Хейли пользуются различной популярностью потому, что в существование машин и банков верят все, но требуется значительное усилие, чтобы хоть на время поверить в Ньярлатотепа, Слепого Безлицего, Воющего в Ночи. И когда я встречаю человека, который говорит что-нибудь вроде: «Я никогда не читаю таких книг и не смотрю таких фильмов, потому что этого не существует в действительности», – я этому человеку сочувствую. Он просто не выдерживает веса фантазии. Мышцы его воображения слишком ослабли.
В этом смысле дети – идеальная аудитория для произведений ужасов. Парадокс заключается в следующем: слабые физически, дети с необыкновенной легкостью справляются с тяжестью воображения. Они жонглируют невидимыми мирами – феномен вполне понятный, если вспомнить о том, с какой перспективы они смотрят на вещи. Дети искусно манипулируют логикой прихода Санта-Клауса в канун Рождества (он может спускаться по узким каминным трубам, а если камина нет, то есть прорезь для писем, а если нет и ее, то всегда есть щель под дверью), с пасхальным зайцем, Богом (рослый старец, седая борода, трон), Иисусом («Как, по-твоему, он превратил воду в вино?» – спросил я своего сына Джо, когда ему – Джо, а не Иисусу – было пять лет; по мнению Джо, у Иисуса имелось нечто «вроде волшебного «Кулэйда»[75], понимаешь»?), с Рональдом Макдоналдом, с Бургером Кингом, эльфами «Кибблера», Дороти и Тотошкой, Одиноким Рейнджером и Тонто[76] и тысячью других аналогичных персонажей.
В большинстве случаев родители переоценивают свою способность понимать эту открытость и стараются держать детей подальше от всего, что связано со страхом и ужасом, – «рекомендовано к просмотру с родителями (или «без возрастных ограничений», как в случае «Штамма “Андромеда”» [The Andromeda Strain]), но действие может оказаться слишком напряженным для детей младшего возраста», как гласит реклама «Челюстей»; по-видимому, такие родители считают, что позволить детям пойти на настоящий фильм ужасов – все равно что принести гранату в детский сад.
Тут имеет место один из странных доплеровских эффектов: люди забывают, что процесс взросления заключается в том, что дети младше восьми лет способны испугаться чего угодно. В подходящем месте и в подходящее время дети боятся собственной тени. Рассказывают о четырехлетнем мальчике, который отказывался ложиться в постель без включенной лампы. Родители в конце концов поняли, что он боится существа, о котором часто говорил отец; существом оказался вечерний бейсбольный матч с искусственным освещением[77].
В свете этого кажется, что даже фильмы Диснея представляют собой минные поля ужаса, и хуже всего те из них, что, по-видимому, будут демонстрироваться до конца времен[78]. По сей день встречаются взрослые, которые на вопрос о том, что в детстве показалось им самым страшным, ответят: сцены, когда мать Бемби убивает охотник или когда Бемби с отцом убегают от лесного пожара. Другие кадры диснеевских фильмов, которые сравнимы с ужасом обитателя Черной лагуны, это марширующие метлы, вышедшие из-под контроля в «Фантазии» [Fantasia] (на самом деле для маленького ребенка истинный ужас ситуации – подразумеваемые отношения отец – сын между Микки-Маусом и старым колдуном; метлы все приводят в полный беспорядок, а когда колдун/отец вернется, последует НАКАЗАНИЕ… Такая сцена вполне может вызвать у ребенка строгих родителей приступ ужаса); ночь на Лысой горе из того же фильма; колдуньи из «Белоснежки» [Snow White] и «Спящей красавицы» [Sleeping Beauty], одна с соблазнительно красным отравленным яблоком (а какого ребенка не приучают с самого младшего возраста бояться яда?), другая – со смертоносным веретеном; так можно продолжать до относительно безвредных «Ста одного далматинца» [One Hundred and One Dalmatians], в котором выступает внучка диснеевских ведьм 30–40-х годов – злобная Стервелла де Виль, с отвратительным костлявым лицом, громким голосом (взрослые иногда забывают, как пугаются дети громкого голоса даже своих родителей) и зверским планом убить всех щенят-далматинцев (настоящих «детей», если вы сами ребенок) и пошить из них шубы.
И все же именно родители гарантируют выпуски и перевыпуски диснеевских фильмов; при этом у них самих бегут по спине мурашки, когда они вспоминают, как дрожали от ужаса в детстве… потому что хороший фильм ужасов (или жуткие эпизоды в «комедии» либо «мультфильме»), помимо всего прочего, сбивает нас со взрослых подпорок и возвращает в детство. И тут наша собственная тень снова может превратиться в злобного пса, зияющую пасть или манящую темную фигуру.
Возможно, наиболее четко осознание этого возвращения к детству приходит в удивительном фильме ужасов Дэвида Кроненберга «Выводок» [The Brood], в котором обеспокоенная женщина буквально рожает «детей гнева», одного за другим убивающих членов ее семьи. В середине фильма отец сидит в отчаянии в комнате на верхнем этаже, пьет и оплакивает жену, которая первой испытала на себе гнев этого выводка. Мы видим саму кровать… и неожиданно из-под нее показываются когтистые руки и впиваются в пол рядом с туфлями обреченного отца. Так Кроненберг возвращает нас в прошлое: нам снова четыре года, и оправдались наши самые мрачные догадки о том, что может прятаться под кроватью.
Ирония заключается в том, что дети гораздо лучше взрослых приспособлены к тому, чтобы иметь дело с фантазией и ужасом на собственных условиях. Слова «на собственных условиях» я выделил курсивом не просто так. Взрослый способен справиться с катастрофическим ужасом – вроде «Техасской резни бензопилой», – потому что понимает: все это не по-настоящему; когда съемки кончатся, мертвецы встанут и пойдут смывать сценическую кровь. Дети не способны провести такое различие, и «Резня» вполне справедливо отнесена к категории R[79]. Детям действительно такие сцены ни к чему, как ни к чему им и заключительные кадры «Ярости» [The Fury], где Джона Кассеветиса буквально разрывает на куски. Но если вы посадите в первый ряд смотреть «Резню» шестилетнего ребенка и взрослого, который временно теряет способность различать вымышленные и «реальные» вещи (как выражается Дэнни Торранс, маленький герой «Сияния» [The Shining]) – допустим, вы дали взрослому за два часа до сеанса дозу ЛСД, – я полагаю, ребенку неделю будут сниться кошмары. Взрослый же проведет не меньше года в комнате с обитыми резиной стенами, откуда будет писать домой письма цветными мелками.
Определенная доля фантазии и ужаса в жизни ребенка присутствовать должна. Воображение помогает справиться с ними, а благодаря своему уникальному положению в жизни дети способны заставить такие чувства работать. К тому же они сами хорошо понимают уникальность своего положения. Даже в таком относительно упорядоченном обществе, как наше, им ясно, что их выживание практически не зависит от них самих. Дети до восьми лет «зависимы» во всех смыслах этого слова; от отца и матери (или какого-нибудь их подобия) зависит не только наличие пищи, одежды и жилища, но и то, что машина не попадет в аварию, что они вовремя сядут на школьный автобус, что их приведут домой из «Каб-скаутс»[80]



