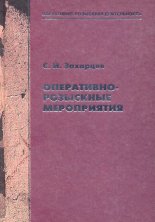Дебютантка Тессаро Кэтлин
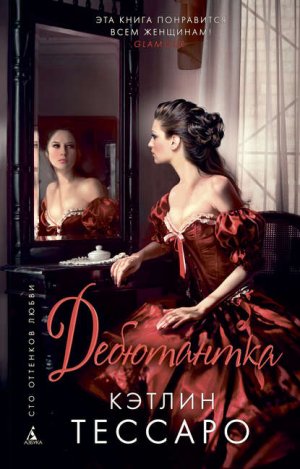
Мобильник продолжал звонить.
– Вам звонят. Не хотите отвечать? – спросил он.
– Никак не ожидала, что здесь есть связь.
Телефон наконец умолк.
– От кого-то скрываетесь?
Кейт так посмотрела на него, что Джеку показалось, будто в лицо ему плеснули ледяной водой.
– Простите, я лишь…
– Не важно, – сказала она и встала. – Здесь что-то очень жарко. Пойду наверх, распакую вещи. Дайте знать, когда начинать работу.
– Послушайте, мне очень жаль, если я…
– Пустяки, – перебила она. – Если бы вы только знали, какие это все пустяки.
Подхватив сумочку, Кейт медленно пошла по лужайке. Джек молча наблюдал, как она шагнула, раздвинув прозрачные, покачивающиеся на ветру занавески, которые закрывали проем стеклянной двери, и исчезла в полумраке дома.
Рю де Монсо, 17
Париж
13 июня 1926 года
Моя дорогая Рен!
Маман прислала мне копию статьи из «Таймс» с твоей прекрасной фотографией. Мисс Ирэн Блайт – одна из лучших дебютанток этого сезона! И вполне заслуженно! Как тебе удалось сделать такую прическу? Ты что, подстриглась? Имей в виду, я хочу знать все, самые мельчайшие подробности твоей жизни, особенно о том, что в ней ПРОИСХОДИТ, – даже неловкое рукопожатие в коридоре способно взбудоражить мне душу, пока я целый год пребываю В ИЗГНАНИИ.
Что касается меня, то, несмотря на то что я живу в романтичной атмосфере величайшего города Европы (мадам Галльо не устает повторять нам это), я буквально умираю от скуки. «Вы совершенно испорченные девчонки! Вы живете в Париже – величайшем городе Европы! Да родители потратили на вас целое состояние!» И так далее, и тому подобное, без конца. Разумеется, мадам Галльо совсем никуда нас не пускает, и это очень досадно. Кроме уроков рисования, походов в «Лядюре» (кстати, французы совсем не умеют прилично заваривать чай) и бесконечных посещений церкви – представляешь, как она из кожи вон лезет, чтобы сделать из меня образованного человека! – мы не смеем высунуть нос на улицу, а уж тем более прогуляться по Парижу, сходить в театр или ночной клуб, не говоря уже о «Фоли-Бержер». Кроме того, мадам Галльо постоянно оттачивает на мне колкости, которые специально приберегает для такого случая. Например, заявляет что-нибудь вроде: «Тут есть некая неуловимая тонкость, которой научиться невозможно!» Эти слова сопровождаются язвительной усмешкой – разумеется, тонкий намек на то, что мы с тобой не родились членами привилегированного общественного класса, что мы выскочки. Для нее такие, как мы, всегда будут ненастоящими. Именно поэтому я обожаю оставлять везде вырезки из «Таймс», пусть она видит!
Под ее опекой я усвоила ровно три вещи:
а) как правильно есть устриц;
б) под каким именно углом следует носить шляпку, чтобы все мужчины оборачивались мне вслед;
в) как тайком обменяться с мужчиной на улице взглядами, поскольку французы всегда рады случаю с вожделением пожирать тебя глазами.
В пансионе у мадам Галльо живут еще две молодые англичанки: Энн Картрайт, очаровательная, невероятно забавная и нисколько не задавака (она научила меня курить, и я теперь не кашляю, когда затягиваюсь), и Элеонора Огилви-Смит – ты даже представить себе не можешь, какая она жуткая зануда. Она до смерти боится малейшего намека на удовольствие, и всякий раз, когда мы с Энн начинаем борьбу хотя бы за крохотный глоток свободы, немедленно бежит к мадам Галльо и просится на прогулку куда-нибудь в церковь. И в ванной способна сидеть часами. Мы с Энн даже поспорили, что она там делает, но я не стану тебе это рассказывать, чтобы не оскорбить твои понятия о пристойности.
Итак, прошу тебя, ну пожалуйста! Сообщай мне о каждой новости сезона, о каждом мужчине, с которым ты танцуешь, о каждом платье, которое ты надеваешь, и о каждом блюде, которое ты ешь за ужином. А также: сколько предложений руки и сердца ты получила на этой неделе, вставали ли мужчины перед тобой на колени, краснели ли они от смущения, заикались ли от волнения и т. д., созерцая твою потрясающую красоту, или же сразу брякались в обморок. И еще, прошу, прошу, прошу тебя: дай мне здесь, в Париже, какое-нибудь крохотное порученьице, чтобы у меня был законный повод отправиться в одну из Запретных Зон. Например, не испытываешь ли ты острой нужды в перчатках, которые продают на площади Пигаль? Не умираешь ли без чулок, какие можно увидеть в кабаре «Лидо»?
Я очень горжусь тобой, дорогая моя! Думаю, и папа тоже гордился бы. Но как мне оправдать ожидания и надежды своей прекрасной сестры? J’ai malade de jalousie![1] (Видишь, какие успехи у меня во французском!)
Передай мой горячий привет Маман, которая наверняка считает, что отчаянная борьба за то, чтобы сохранить наше целомудрие и с головокружительной скоростью выдать замуж, есть потрясающая нравственная проблема. Она, как всегда, продолжает писать фантастически скучные письма. Не письма, а какие-то хозяйственные отчеты. И как только удается столь недалеким женщинам так удачно выходить замуж? (Энн говорит, что у нее, скорее всего, есть какие-то тайные страсти. По-моему, это отвратительно, особенно если учесть, как наш отчим выглядит без одежды. Я сказала ей, что пожилым людям подобные вещи надо запретить законом, тем более что наша дражайшая Маман – большая поклонница воздержания, так что ее бедный супруг должен теперь удовольствоваться лишь общением с Иисусом. Странно, почему она не приобрела и не повесила над кроватью Распятие в натуральную величину, ведь мы теперь страшно богаты?!)
О, как мне хочется оказаться в Лондоне!
Я просто жажду снова встретиться с тобой и окунуться наконец в гущу жизни!
Всегда твояДайана
P. S. Только что попробовала сама подстричь себе волосы портняжными ножницами и теперь выгляжу как мальчишка, которого посылают в мясную лавку. Энн была столь добра, что одолжила мне шляпку-колпак. Молись за меня.
По центральной лестнице Кейт поднялась на второй этаж особняка. Широкая открытая площадка представляла собой галерею, огороженную декоративными перилами и обставленную роскошными, обитыми красным бархатом диванами с приставными столиками. Кейт присела на один из диванов, чтобы собраться с силами. «Не надо было грубить Джеку, – думала она, подперев голову ладонями. – Совсем распсиховалась, это никуда не годится».
А все дело в том, что она ожидала встретить старичка, ровесника самой Рейчел, этакого старомодного дядюшку, не имеющего пола, которому надо будет несколько дней помогать описывать имущество. А Джек оказался молодым мужчиной, который сломя голову гоняет в шикарной машине с откидным верхом, пялится на нее своими бездонными синими глазищами и задает бестактные вопросы.
«Ну чего ты боишься: ты в Англии и тебе ничто не угрожает, – напомнила она себе. – Нью-Йорк далеко-далеко, за тридевять земель. Тебя словно посадили в машину времени и перенесли в другую эпоху, более утонченную и пышную. Ты укрылась в этом красивом богатом доме и сейчас находишься под его защитой. Кто тут может причинить тебе боль? Уж точно не этот симпатичный мужчина, с которым ты едва знакома».
Какая все-таки роскошь – иметь на втором этаже столько открытого пространства. Должно быть, здесь когда-то, перед тем как спуститься вниз к ужину, гости – непременно в изысканных вечерних туалетах – беседовали, флиртовали, смеялись и курили. Кейт попыталась представить себе этот легкий, изысканный светский разговор, этот воздух, в котором смешались аромат французских духов и резкий запах табачного дыма (сигареты тогда были без фильтра), утонченные комплименты, головокружительный флирт. Кейт провела рукой по мягкой, но уже местами истершейся бархатной обивке, и сердце ее сладко сжалось.
И все-таки некое напряжение, подсознательное беспокойство не покидало ее. Кейт встала и прошлась по галерее, заглядывая во все комнаты подряд, пока не нашла спальню покойного хозяина: да, это, без сомнения, она, с дорогой кроватью красного дерева и темной, по-мужски основательной мебелью. Девушка повернулась и направилась в противоположную сторону. Спальня леди Эйвондейл оказалась в самом конце длиннющего коридора. Покои ее светлости, состоявшие из нескольких смежных комнат, были убраны уже совершенно иначе: все в светлых тонах, мебель легкая и изящная. На стенах, оклеенных лимонного оттенка обоями, – множество акварелей; кровать в стиле французского ампира; за полузадернутыми ситцевыми занавесками в бело-голубую полоску – эркер; из одного окна виден сад, из другого – море. Кейт отметила про себя, что кто-то уже успел открыть окна. На туалетном столике аккуратно сложены чистые полотенца.
Ее здесь ждали.
Она присела на край кровати и попыталась успокоиться. Но тщетно. Интересно, неужели так будет всегда: несмотря на все ее старания уехать как можно дальше от Нью-Йорка, он всегда остается рядом с ней?
Кейт открыла сумочку и достала мобильник. Номер не определился. Экран вспыхнул красным: эсэмэска. Она сунула телефон обратно в сумочку. Легла на кровать и свернулась калачиком, обхватив колени руками.
Какая красивая, просто роскошная спальня, но и здесь ей нет покоя. Она перевернулась на спину. За окном засвистала какая-то незнакомая птичка. Но ее мелодичное пение не только не успокоило мятущуюся душу Кейт, но, напротив, показалось ей слишком назойливым. Она привыкла к звукам автомобильных клаксонов, реву транспорта за окном, толпам народу на улицах, тесноте подземки. Природа казалась Кейт черной дырой, в которую она стремительно падала, не ощущая собственного веса.
Крепко закрыв глаза и глубоко дыша, она постаралась расслабиться и уснуть.
Но как только веки ее сомкнулись, перед глазами поплыли все те же картины. Это всегда начиналось одинаково: вот его пальцы касаются ее кожи, в ноздри бьет мускусный запах его туалетной воды, губы его мягко ласкают ее обнаженное плечо…
«Еще…»
Он окунает палец в бокал с коньяком и проводит им по своим губам: «Ну-ка, попробуй».
Он наклоняется к ней, его дыхание согревает ей щеку. «Поцелуй меня».
Сколько раз Кейт обещала себе прекратить это раз и навсегда! Она больше не будет отвечать на его звонки и приходить к нему и уж точно не станет пить.
Он вел себя с ней как солдат вражеской армии на чужой территории: хотел не столько любить ее, сколько обладать ею. Но самое ужасное, что Кейт и сама страстно жаждала, чтобы ее сгубили и уничтожили, чтобы спалили дотла. Она открыла глаза. О, эти грезы для нее очень опасны!
Память сохранила и другие картины, не столь приятные, даже пугающие, страшные. Но почему же тогда именно эти видения преследуют ее, не дают ей покоя? Как сильны эти колдовские чары соблазна, как несокрушима сила его желания, его влечения!
Кейт села на кровати и увидела у противоположной стены, в зеркале туалетного столика, свое отражение. На нее смотрела красивая стройная блондинка, почти не знакомая даже ей самой. В Нью-Йорк уезжала брюнетка с волосами почти до пояса, такими густыми, что в них можно было спрятать лицо. Она опустила плечи, согнувшись чуть не пополам и склонив голову к солнечному сплетению. И испытала очень странное ощущение – какую-то сладкую, нежную боль.
О, это вечное желание перемениться, стать совсем другим человеком. Быть кем угодно, только не собой.
Между прочим, обрезать и осветлить волосы ей посоветовал Дерек Константайн.
– Смени имидж. Тебе пойдет что-нибудь такое вечное, классическое. Стань блондинкой.
– Мне это не по карману.
– Тебе не по карману оставаться брюнеткой, – возразил он. – И знаешь… – Дерек вздохнул и критически оглядел ее длинную, почти до пят юбку, – надо в конце концов что-то придумать и с одеждой. В черном ты выглядишь как… как вдова итальянского мафиози. В Нью-Йорке тоже придают значение социальным различиям, но они здесь очень тонкие, практически неуловимые. Деньгами теперь никого не удивишь, так что ценится не богатство, а родословная – ценится исключительность человека. А ты у нас сейчас, девочка, словно дебютантка, которую предстоит вывезти в свет, на первый бал. И если как следует поработать над твоим внешним видом, а потом вовремя представить кому надо, ты можешь пойти очень далеко.
Слова Дерека отдавали какой-то замшелой архаикой, и Кейт не понимала, что он имеет в виду.
– Ты хочешь сказать, в искусстве?
Голубовато-серые глаза его были непроницаемы, взгляд отстраненный.
– В жизни, – ответил Дерек, сложив руки с длинными пальцами под подбородком.
– Ах, в жизни!
Кейт прищурилась, разглядывая себя в зеркало: там виднелась маленькая фигурка, с ног до головы закутанная в хрустящую льняную простыню. Интеллигентная, изящная девушка, умеющая держать себя в руках. В дымке проникающего сквозь занавески дневного света она казалась окутанной золотым сиянием: ну просто спустившийся с небес ангел.
Вот бы научиться избавляться от темных сторон своей натуры так же легко, как менять платье.
Кейт вспомнила, как уверенно и убедительно звучал голос Дерека, с каким интересом и участием он отнесся к ней. Мысль о том, что ей покровительствует этот столь успешный, столь умудренный жизнью мужчина, так кружила ей голову, что невозможно было сопротивляться. Она и не сопротивлялась. Напротив, шаг за шагом отрекалась от своих еще нетвердых, находившихся в зачаточном состоянии понятий о себе и о мире, уступая и подчиняясь его куда более ясным представлениям, доверяя его опыту.
Но дебютантка, которую Дерек Константайн видел перед собой, подвела его, как, впрочем, и общество, в которое он ввел ее.
Кейт порылась в сумочке, достала пачку сигарет, закурила и подошла к открытому окну. Она сдалась без боя. Она отказалась от многого, что не вписывалось в новое положение вещей. Это далось ей нелегко. Постепенно возникало такое чувство, особенно в последнее время, будто пытаешься остановить морской прилив чайной чашкой.
«Я хочу покоя! Пожалуйста, дай мне покоя! – молча молилась она сейчас неизвестному богу, делая глубокие затяжки. – Вот я здесь, в тысячах миль от Нью-Йорка. Рядом со мной какой-то странный человек, я собираюсь заниматься работой, в которой ни черта не понимаю. Надо собраться с мыслями и привести их в порядок. Надо решить наконец, что делать дальше с собственной жизнью».
Кейт отбросила волосы назад. Ну до чего же жарко. И на душе кошки скребут.
Внезапно она ощутила неодолимое желание пуститься во все тяжкие, забыться, совратить кого-нибудь, переспать с кем-нибудь, все равно с кем. В голове, как в порнографическом фильме, замелькали соблазнительные картины: куча обнаженных тел, множество переплетающихся конечностей… Вот кто-то лижет ее плоть, а ее собственные губы жадно шарят по чужому телу… Замирает сердце, перехватывает дыхание.
Что это: разыгралось воображение или снова нахлынули яркие, как галлюцинации, воспоминания о прошлом?
Вот она, совершенно голая, стоит перед ним на коленях. Обеими руками он держит ее за голову и дергает взад-вперед бедрами…
Она отчаянно закусила губу. О, как больно! Даже кровь брызнула. А желание растет, усиливается, уводит все дальше от нынешней реальности.
«Остановись же!»
Нет, не получается, никак.
Интересно, каков из себя Джек, если его раздеть догола? Они ведь здесь одни. Она ему нравится, этого нельзя не почувствовать. И этот человек ей абсолютно чужой. Почему всегда легче переспать с мужчиной, которого совсем не знаешь?
Кейт глубоко вздохнула.
«Нет, не ходи туда!»
Но сладострастие уже охватило ее всю, медленно поползло по членам. Картинки, угодливо подсовываемые воображением, кружили голову, она не могла больше контролировать себя. Не могла не думать о том, о чем не должна была думать.
Кейт перевернулась на другой бок. Постель разобрана, простыни отброшены, два совсем чужих друг другу человека, два обнаженных тела тянутся друг к другу… Ах, как хочется ощущать, что тебя уничтожили, насадили на кол до самых печенок, распяли на этой постели…
Кейт закрыла глаза. Картины распаленного воображения куда-то пропали. Она в последний раз затянулась, погасила сигарету и выбросила ее в окно, прямо на дорожку.
Кое-как доковыляла до ванной, плеснула в лицо холодной водой и уселась на стульчак. Вспомнила, что в мобильнике ее ждет эсэмэска, и не одна.
Рано или поздно она ответит, на все ответит.
«Я схожу с ума, – подумала Кейт. – Я больна и никогда больше не стану нормальной».
Закрыв лицо руками, она разрыдалась.
Джек допил чай, встал из-за столика и направился к дому. Подойдя к машине, открыл багажник и начал доставать вещи: сумку, фотоаппарат, записные книжки и все остальное, что понадобится в работе. Вдруг он почувствовал слабый запах табачного дыма, поднял голову и увидел на втором этаже открытое окно. Джек улыбнулся. Так, значит, Кейт потихоньку курит!
Выходит, она не такая уж пай-девочка, какой выглядит на первый взгляд.
Мысль показалась ему забавной; вообще, приятно было думать, что она совсем близко и тайком делает что-то такое, чего делать не положено.
Джек вошел в дом – каблуки гулко стучали по мраморному полу – и поднялся по лестнице. Очутившись наверху, он услышал, как где-то справа по коридору закрылась дверь. Тогда он пошел налево, в противоположную сторону. Отыскав самую большую спальню, свалил вещи на кровать и снял пиджак. Выглянул в окно: внизу раскинулась лужайка.
И все-таки в атмосфере этого дома, несмотря на всю его красоту и изысканность, словно бы ощущалась некая напряженность. Джека охватило странное предчувствие – ничего подобного он не испытывал уже много лет. А может, эта девица так на него действует, совершенно выводит из равновесия? Нет, нельзя допустить, чтобы из-за нее нарушался привычный порядок вещей. И совсем уж недопустимо с таким нетерпением ожидать встречи с ней, мечтать поскорее услышать ее голос. Но он уже обдумывал, о чем станет говорить с Кейт за ужином, сочинял для нее вопросы, изобретал собственные умные, немногословные замечания, которые произвели бы на нее впечатление. Джек отчаянно волновался и сам понимал это.
Господи, ну разве можно быть таким глупцом!
Положа руку на сердце, как все-таки страшно снова что-то чувствовать.
Он давно уже привык к одиночеству. Так жить спокойней и безопасней. У него есть ежедневные обязанности, установился определенный распорядок дня, выработались свои привычки. Он ходит в одно и то же кафе, сидит за одним и тем же столиком, заказывает одну и ту же еду. Официантка знает, какой он любит кофе, хозяин не прочь поболтать с ним, обсудить книгу, которую он читает. (О, эти люди умеют вести себя с постоянными клиентами!) И вообще, в жизни много такого, что можно делать если и без особой радости, зато спокойно и мирно: бродить по картинным галереям, ходить на концерты, сидеть одному в темноте кинотеатра. В этом и заключалась теперь вся его жизнь.
Но вот сейчас, по крайней мере на какое-то время, место рядом с ним занято. Джек до сих пор ощущает запах ее духов.
«Только не дай обольстить себя этим романтическим флером, – напомнил он себе. – В конце концов все сводится к сексу, простому, как мычание, животному сексу в чистом виде. Так было, так есть и так будет всегда. Начинается все прекрасно. Ах, какие яркие краски: романтическое увлечение, любовь, страсть… Но рано или поздно позолота опадает, а из-под нее проступает все то же тупое и наглое мурло секса».
Внезапно сквозь эти благоразумные мысли, призванные защитить его от опасности, пробилось мучительное воспоминание. Сердце Джека сжалось, он хотел отбросить мысли, но не смог. Вот он протягивает руку, кладет ее на руку жены и видит ее лицо, ее огромные темные глаза. В них бездна печали и, что самое ужасное, покорности. Он все-таки отогнал воспоминание, но чувство тревоги осталось.
С сексом у них было плохо, что правда, то правда. Все сводилось к коротенькой, наспех исполненной порнографической игре, где каждый старательно исполнял свою роль. Хуже всего, что, хотя акт совершался по-настоящему, подлинной близости между ними не было.
Обсуждать с женой эту проблему, чтобы хоть как-то исправить положение, Джек почему-то не хотел. И это было ужасно. Что-то в душе мешало, словно кто-то нашептывал, что так будет проще: пусть, мол, все идет, как идет, главное – не забивать себе этим голову. Словно он сам желал, чтобы жена не была с ним близка.
Он самоустранился, вот в чем его преступление. А она увидела это и отпустила его.
И эта мысль тоже не давала ему покоя.
Джек отвернулся, чтобы не видеть буколический пейзаж за окном.
Спальня была поистине огромна, вся его квартира в Лондоне примерно такого размера. Только тут, за пределами большого города, и можно найти подлинный простор, красоту и свободу.
Нет, надо что-то делать. Еще не поздно начать все сначала, с чистого листа.
Он сел на кровати, зевнул и протер глаза.
Впереди так много работы.
Пожалуй, в автомобиле, в его любимом «триумфе», нельзя ездить так далеко. От долгого сидения за рулем разболелась спина. Джек растянулся на кровати во весь рост и закрыл глаза.
И все же как ни крути, давненько он не испытывал такого счастья и радости, как в эти несколько часов, когда машина мчалась по дороге среди прекрасных пейзажей, а рядом сидела Кейт. Солнце, скорость, изумительная музыка Моцарта, и совсем близко она, такая спокойная, такая холодная. Это чувство бодрило и возбуждало его. Было ощущение, что впереди робко маячит надежда на реальное счастье, возможность которого мерцает где-то на горизонте. Джеку казалось, что именно туда они мчатся вдвоем на бешеной скорости. Он сам не понимал, как давно уже живет без всякой надежды на счастье, не живет, а уже не один год существует по принципу: «День прошел – и слава богу; день да ночь – сутки прочь». Только теперь он осознал эту постоянную боль в груди, со всей ясностью ощутил в себе животное желание телесной близости с другим человеком, желание найти свою дорогу, пробиться сквозь стену инерции, в основании которой лежит скорбь тяжелой утраты.
Он снова сел, запустил пальцы в прическу, взъерошил волосы.
Нет, это чистое безумие, нельзя так поддаваться обаянию этой девушки. Ведь он совсем не знает ее.
Господи, ну до чего же он устал, до чего одинок. Какая тоска.
Но никто не отменял и физических законов, законов природы; нельзя же серьезно утверждать, что не существует силы взаимного притяжения тел – столь загадочной, непонятной и неудобной.
И неспроста эта совершенно чужая ему женщина, что отдыхает сейчас в противоположном крыле дома, самым необъяснимым образом все сильнее, все ближе притягивает его к себе.
Рю де Монсо, 17
Париж
24 июня 1926 года
Моя дорогая Птичка!
Тебе будет приятно узнать, что я наконец-то в совершенстве освоила искусство прижиматься во время танца к мужчине так, чтобы он почувствовал все мое обаяние и прелесть, и при этом сохранять на лице выражение явного и полного равнодушия, граничащего с презрением. Энн утверждает, что владеть этим искусством крайне важно; мы с ней тренировались целую неделю. Теперь осталось только найти мужчин.
Как поживает твой удалой и неотразимый баронет? Не сомневаюсь, что под его застенчивостью скрывается пылкая страсть, которую он очень скоро не замедлит перед тобой явить (напоминаю о своей сердечной и настоятельной просьбе сообщать малейшие подробности, касающиеся всех ваших плотских отношений).
Вероятно, ты права, утверждая, что светская жизнь – занятие гораздо более трудное и утомительное, чем я могу себе представить, и мне, как ты говоришь, было бы действительно полезно узнать на сей счет точку зрения более серьезных людей. Но мы с тобой прекрасно понимаем, что серьезность никогда не была сильной стороной моей натуры. Увы, Бог не наградил меня твоим прирожденным здравым смыслом, вместо этого Он отвел мне роль скорее нелепую и смешную. Утешаю себя тем, что ты идешь впереди, успела завязать множество светских знакомств и очаровать всех вокруг так прочно и непоколебимо, что, когда я приеду, мною сначала позабавятся, как диковинной вещицей, а потом спровадят куда-нибудь подальше, в какую-нибудь дыру на окраине нашей империи, всучив меня престарелому, полупарализованному мужу.
Я согласна, мои замечания насчет нашей с тобой матери слегка грубоваты. Мне не хватает твоей доброты. Особенно по отношению к ее Дражайшему Супругу, нашему Благодетелю, который сделал для нас столько Добра.
Я понимаю, Ирэн, что нам с тобой очень повезло. У нас теперь есть гораздо больше, чем мы когда-либо имели в жизни. И все-таки я скучаю по папочке и, если уж говорить до конца откровенно, просто ненавижу Париж и всех, кто стремится в него попасть. Я совсем на тебя не похожа, дорогая моя. Во мне нет ни естественной, природной доброты, ни выдержанности и спокойствия, ни здравого смысла. И где бы я ни оказалась, меня не покидает чувство, что я фальшивка. Мне кажется, будто я актриса, которая бродит по сцене, пытаясь играть в пьесе, которую она не читала и из которой не знает ни единой строчки. Ты ведь все понимаешь, Ирэн. Так ответь мне, почему я такая дура?
Всегда твояглупышка-сестра
Кейт пыталась хоть немного вздремнуть, но беспокойство не покидало ее. Она села на кровати. Комната была огромна: пожалуй, даже в Нью-Йорке ей редко приходилось бывать в квартирах размером с эту спальню. Из просторных, во всю стену, окон открывался прекрасный вид на холмистую местность, живописно спускающуюся к морю.
Так кто же здесь когда-то жил? Кто заказывал эти лимонного цвета обои и ситцевые занавески с узором из голубых глициний и зеленого плюща? Эту красивую орехового дерева кровать в стиле ампир? Кейт осторожно провела пальцами по прохладной ткани подушки. В углу наволочки перламутровыми шелковыми нитками была вышита монограмма: «И. Э». Может, это был свадебный подарок?
Она потянула на себя ящик прикроватного столика, и он протестующе задрожал, словно сопротивляясь насилию. Что там внутри? Два аккуратно сложенных хлопчатобумажных носовых платка, полупустой тюбик мази от экземы, несколько разнокалиберных пуговиц, расписка от некоего Питера Джонса со Слоун-сквер в получении шерсти, датированная 1989 годом.
Кейт снова задвинула ящик, потянулась к стопке книг на столе. Взяла с самого верха довольно потрепанный томик стихотворений Томаса Мура и открыла его. На чистой странице в начале книги энергичным почерком со множеством завитушек было написано: «Бенедикт Блайт, Тир Нан Ог, Ирландия». Она наугад открыла страницу, заложенную красной шелковой ленточкой.
Вперед
- Вперед, мой челн! Пусть ветер гонит нас;
- К какой бы мы стране ни мчались дальной,
- Но не видать нам более печальной
- Страны, чем та, что вырвалась из глаз.
- И волны мне как будто бы журчат:
- «Хоть смерть порой под нашей лаской скрыта,
- Но те, кем жизнь твоя была разбита,
- Нас холодней, коварней во сто крат!»
- Вперед, вперед! Пусть море без конца…
- Несись, челнок, и в тишь и в день ненастный:
- Как отдыху, и буре рад опасной
- Покинувший коварные сердца!
- Но если б где-нибудь еще найтись
- Мог уголок пустынный, ни враждою,
- Ни ложью не запятнанный людскою, –
- Тогда, но лишь тогда, остановись[2].
Удивительно безрадостное и унылое стихотворение. Странно и тревожно было думать, что именно его заложила красной ленточкой престарелая женщина, в одиночестве доживающая свои последние дни на берегу моря.
Кейт отправила книгу обратно в стопку к остальным и заглянула в платяной шкаф. Он был пуст, только несколько голых проволочных плечиков висело на перекладине. Да на полках лежало несколько стопок запасных шерстяных одеял. Примерно такую же картину явил перед ней и комод. Пожелтевшая оберточная бумага с цветочным узором и несколько выцветших пакетиков с лавандой – вот и все, что там осталось.
Она повернулась к туалетному столику. Серебряная щетка и гребень, фарфоровое блюдце с побуревшими проволочными шпильками, покрытая слоем пыли коробочка – тальк с ароматом ландыша. И старая черно-белая фотография, скорее всего, на ней были сняты Ирэн и ее муж. Кейт взяла снимок, чтобы хорошенько рассмотреть. На фото супругам было уже, наверное, за семьдесят; оба стояли прямо, словно аршин проглотили, довольно близко, но не касаясь друг друга. Ирэн худая как щепка (ну просто кожа да кости), в темном, прекрасно скроенном костюме, на голове элегантная соломенная шляпка. Муж ее – в полном мундире своего полка, смотрит горделиво, даже молодцевато; в одной руке трость с серебряным набалдашником, а под мышкой – шляпа. Слегка вздернув подбородок, Ирэн улыбается; глаза ясные, голубые, в молодости они наверняка были ярко-синими. Хотя супругов явно снимали в солнечный день, но фотография все-таки получилась не очень хорошо, с дефектами. У полковника на правой стороне головы какое-то странное пятно… Или это тень? У Ирэн в руке какой-то значок с надписью, но буквы настолько мелкие, что разобрать невозможно. Похоже, лорд и леди Эйвондейл запечатлены во время очередного съезда ветеранов.
Интересно, где этот значок теперь? Где все эти символы, знаменующие филантропическое служение Ирэн Эйвондейл на благо Империи, которому она посвятила всю свою жизнь?
И комната эта олицетворяла собой идею порядка, столь старомодно милого и на удивление не бросающегося в глаза, словно театральные декорации. Такое чувство, словно чья-то большая и сильная рука взяла и сгладила здесь все неясное и двусмысленное. Интересно, была ли на самом деле жизнь Ирэн столь приличной и респектабельной? Или просто кто-то сумел убрать отсюда все интимное, что могло характеризовать человеческие слабости хозяйки?
Кейт вышла из комнаты и двинулась по коридору, одну за другой открывая двери и исследуя верхние помещения дома. Такие же просторные спальни, из которых открывался вид на море и на сад, с ванными комнатами, гардеробными; одни были декорированы растительными мотивами, другие – морскими… Она старалась двигаться бесшумно, понимая, что если Джек отдыхает, то не нужно ему мешать. Вдобавок Кейт хотелось самостоятельно понять дух этого дома: так животное осторожно осматривается в незнакомом месте. Повернув в противоположную сторону, она пошла по разделяющему два крыла здания длинному коридору второго этажа. Пятна солнечного света дрожали на ковровых дорожках с восточными узорами, полинявших и истершихся за долгие годы службы. Кейт обнаружила еще две гостевые спальни, большую семейную ванную и, в самом конце коридора, комнату, дверь в которую оказалась закрыта. Она повернула шарообразную ручку. Да, заперто. Но у Джека должен быть ключ.
Кейт наклонилась и пригляделась к старинному замку. Довольно простой. Справиться с ним будет нетрудно.
Она отправилась обратно к себе, выудила из сумочки пилочку для ногтей и кредитную карточку. Конечно, проще всего было бы дождаться Джека. Вряд ли он одобрит свою помощницу, если узнает, что она вскрыла замок подручными средствами. Но бес своенравия и упрямства оказался сильнее благоразумия. Такова уж Кейт была с детства: если что в голову втемяшится – вынь да положь, и все тут. И нет чтобы попросить в такие минуты помощи – какое там, ни за что! Трепеща от нетерпения, Кейт вернулась к запертой двери и ловким, быстрым движением открыла замок.
Этому искусству ее обучил отец, когда ей было всего одиннадцать лет. Он постоянно показывал дочери всякие любопытные штуки, называя их маленькими житейскими хитростями. Благодаря ему девочка умела быстро свернуть сигарету, соорудить безупречный бутерброд с ветчиной и так очаровать любого человека, чтобы без труда стрельнуть у него денег, не имея абсолютно никакой перспективы вернуть долг. После развода отец жил в крохотной квартирке неподалеку от станции метро «Бонд-стрит». В юности он был многообещающим гитаристом. Однако карьера музыканта не состоялась по многим причинам, не последней из которых стало пьянство. Когда-то он был писаным красавцем, но с годами поистаскался, красота его поблекла, он опустился, перестал следить за собой. Всякий раз, снова встречаясь с отцом, Кейт видела, что его ярко-рыжие волосы еще сильнее выцвели и поредели, некогда выразительные серо-зеленые глаза все больше утрачивают блеск, а гордая самоуверенность и легкость движений сменяются неуклюжестью и медлительностью, что всегда бывает с человеком, который находится в состоянии непрекращающегося похмелья. Кейт продолжала навещать отца, и, если заставала трезвым, он приглашал ее куда-нибудь позавтракать. Они могли часами сидеть вдвоем за столиком, а потом отправлялись на какой-нибудь дневной концерт, билеты на который продавали за полцены, или в кинотеатр «Одеон». В такие дни отец был искренне рад приходу дочери, курил сигарету за сигаретой, непрерывно, взахлеб говорил о том, куда они сегодня пойдут, разглагольствовал о том, что скоро у него будет работа, что с первой же получки они с Кейт отправятся путешествовать. Куда-нибудь на южное побережье, в Брайтон, или в Европу, или даже в Африку, на сафари. И каждый раз его планы были все красочней и очаровательней, а каждое новое обещание казалось более искренним и серьезным, чем предыдущее. Он улыбался, и Кейт считала, что мужчины красивее не было не только в заведении, где они сейчас сидели, но и в целом мире.
«Ну, уж эта новая работенка у меня совсем не то, что раньше, – говорил он. – На этот раз у нас все непременно наладится, вот увидишь».
И она ему верила.
Но постепенно, часам к трем дня, отец вдруг приходил в возбуждение, становился раздражительным. Кейт изо всех сил старалась завладеть его вниманием, рассказывала всякие смешные истории, но все без толку. И в конце концов – Кейт и сама не понимала, как это получалось, – они неизменно оказывались в пабе. Отец выпивал порцию, потом другую, третью, пятую, десятую. Лицо его мрачнело, язык начинал заплетаться, настроение менялось буквально на глазах. Отец ронял ключи, куда-то совал бумажник и потом долго не мог его найти, задирал незнакомых людей только потому, что якобы услышал что-то обидное. Вот тут маленькие житейские хитрости и служили ей добрую службу: когда, например, Кейт удавалось не позволить отцу совратить нелепую пожилую толстуху-барменшу, над которой он еще два часа назад вовсю потешался; или когда, выбиваясь из сил, она тащила его на себе домой, не давая упасть и защищая от кулаков обидчиков.
Они так никуда и не съездили: ни в Африку, ни даже в Брайтон. Всю жизнь отец только обещал, но обещанного, как говорится, надо ждать много лет, и Кейт так и не дождалась. И все-таки она любила его упрямой, болезненной, необъяснимой разумом любовью, которой все дети любят своих родителей. Несмотря на долгие годы вранья, она продолжала верить, что когда-нибудь, в самый последний момент, отец все-таки сдержит свое слово. Когда он умер, у нее было такое чувство, будто она всю жизнь простояла на перроне вокзала, то и дело поглядывая на часы и ожидая, когда же придет его поезд. Но отец, видимо, сел не в тот поезд и отправился совсем в другом направлении. И никто, ни одна живая душа не удосужилась сообщить ей об этом.
Вот если бы она была человеком более интересным, была умна и красива…
Похоже, Кейт унаследовала его моральную неприхотливость и гибкость, его мрачное, угрюмое беспокойство, порождаемое все тем же самым постоянно углубляющимся несоответствием между собственными словами и поступками. Теперь и она то и дело ловила себя на том, что только обещает, а сдержать обещаний, даже данных самой себе, не может.
В замке что-то щелкнуло.
Дверь тихо распахнулась.
Ослепленная ярким светом, Кейт сощурилась.
Перед ней открылась просторная квадратная комната с высоким потолком, окнами во всю стену и застекленной дверью на балкон, под которым располагался розарий. Повсюду сияла позолота: позолотой были покрыты и тончайшей работы лепнина, и декоративные карнизы, и изысканные венки, и вьющиеся по нежно-кремовым стенам гирлянды. Ну надо же, какая красота, какое ослепительное великолепие!
Кейт покинула прохладный полутемный коридор и шагнула в комнату. Там оказалось очень душно, даже трудно было дышать. Она распахнула застекленную дверь на балкон; петли ее ужасно скрипели, наверное, в последний раз эту дверь открывали очень давно. Внутрь ворвался свежий ветерок, и Кейт показалось, что комната словно бы облегченно вздохнула, глотнув свежего воздуха, словно человек, который был вынужден сдерживать дыхание. «Интересно, как долго эта комната была заперта?» – подумала Кейт.
Мраморный камин, украшенный сверху тонкой резьбой. На стене – обюссонский ковер, выцветший на солнце чуть не до белизны: пятна и кружочки, когда-то изображавшие цветочки и ягоды, теперь лишь едва видны. Вокруг потолочной розетки тоже вились позолоченные гирлянды, наполняя комнату мягким сиянием. Эта похожая на миниатюрный бальный зал, богато украшенная, невероятно гармоничных пропорций комната наверняка была самой красивой во всем доме.
Но почему же ее заперли на замок?
У стены односпальная кровать и комод с зеркалом. Повсюду толстый слой пыли. Когда Кейт выдвинула ящик комода, в воздухе повисло столь густое ее облако, что она закашлялась. Комод оказался пустым.
У противоположной стены книжные стеллажи. Кейт просмотрела корешки, все сплошь детские книги: «Ветер в ивах» Кеннета Грэма, «Дети вод» Чарльза Кингсли, «Неверный попугай» Чарльза Беннета, «Дети нового леса» Фредерика Марриета, сказки братьев Гримм и Ганса Христиана Андерсена, довольно много произведений Льюиса Кэрролла. Она вытащила «Ветер в ивах», открыла. Жесткий корешок поддался со скрипом. Книга оказалась новехонькой, если что и могло попортить ее, так только пыль и многолетнее стояние на полке.
А что это там внизу? Кейт опустилась на колени. Здесь стояло собрание сочинений Беатрис Поттер, но оно занимало лишь половину полки. А рядом, подпирая книжки и не давая им упасть, лежала старая обувная коробка. Кейт осторожно сняла ее. Светло-коричневого цвета, с тисненой поверхностью, словно из крокодиловой кожи, перевязанная розовой ленточкой. Довольно тяжелая.
Сбоку на коробке приклеена этикетка. «Ф. Пинэ. Дамская обувь», – прочитала Кейт. А снизу, старинным почерком карандашная приписка: «Размер 4».
Кейт развязала истрепанную ленточку и открыла крышку. Ну-ка, ну-ка… Завернутые в мятую газету, в коробке лежали изящные, серебристого цвета бальные туфельки. Сплетенные из множества мельчайших петелек, они венчались небольшими пряжками, украшенными искусственными бриллиантами. Замечательная ручная работа: на задниках и на носках поблескивала сложным узором вплетенная в ткань серебряная нить. Судя по фасону, эти туфельки с закругленными носками были изготовлены еще до войны, в конце двадцатых или в начале тридцатых годов. И наверняка стоили немалых денег. Неужели они когда-то принадлежали самой леди Эйвондейл?
Кейт посмотрела на подошвы. Эту обувь надевали всего несколько раз: кожа почти не истерлась. Она провела пальцем по гладкой поверхности. Какие они маленькие! Кто-то, скорее всего сама старая леди, использовал коробку, чтобы подпереть стоявшие на полке книги. Но зачем? Зачем вообще кому-то обращать внимание на такие пустяки в комнате, где почти нет мебели, да еще и запертой на ключ?
Кейт снова взяла в руки коробку: под мятой газетой лежало что-то еще. Она отложила ее в сторону.
Господи, да тут целая коллекция!
Девушка по очереди стала вынимать из коробки предметы.
Потертый бархатный футляр, в котором обычно хранят ювелирные изделия. Открыв его, Кейт не сдержала восхищенного возгласа:
– Боже мой!
Она держала в руках небольшой браслет, украшенный жемчугом, бриллиантами и изумрудами. «Тиффани и К°. Риджент-стрит, 221, Западный Лондон» – было напечатано на белой сатиновой обшивке крышки. Кейт расстегнула браслет и поднесла его к свету. Чрезвычайно изящная вещица: цветочки из жемчуга перемежаются маленькими изумрудами, такими же небольшими, овальной формы жемчужинами и еще бриллиантами. От пыли и времени бриллианты слегка потускнели, зато изумруды так и сверкали на солнце. Она попробовала примерить браслет на руку. Он налез с большим трудом. Невероятно тонкая работа и, наверное, стоит очень больших денег.
Снова сцепив застежку, Кейт положила украшение обратно в футляр.
Так, что там у нас еще? Узенькая серебряная коробочка с искусно выгравированной и окруженной бриллиантами буквой «Б» посередине. В ней лежал облупленный зеленый значок, на котором была изображена горящая свеча. Кроме того, имелась надпись: «Надежда велика, награда справедлива», а в центре три буквы – ОСГ. В уголок коробочки закатился крохотный ключик из потускневшей от времени меди, такой маленький, что он вряд ли подошел бы к какой-нибудь двери. Кейт положила его на ладонь и подумала, что нечто похожее наверняка испытывала Алиса, оказавшись в Стране чудес. Может быть, им можно открыть ящик письменного стола или комода? И в самом низу обувной коробки лежала фотография, на которой был заснят красивый молодой человек, темноволосый, в морской форме. Правильные черты лица, живые черные глаза. Снимок явно не любительский, а сделан в фотоателье. Моряк стоял на фоне бутафорской античной колонны, одна рука его покоилась на подставке, задрапированной какой-то плотной тканью, а другая упиралась в бедро. Несмотря на молодость (ему было лет двадцать, не больше), вид у юноши был уверенный и чрезвычайно бравый. На фуражке было вышито: «Линкор „Яркий“. ВМФ Великобритании». Внизу были обозначены и координаты фотографа: «Дж. Грей, Юнион-стрит, 33, Стоунхаус, Плимут».
Кейт почувствовала, как взволнованно заколотилось у нее сердце. Нет, это не случайно собранные в коробке вещи; тут что-то глубоко личное, интимное. Все эти предметы – балетные туфельки, браслет, фотография – наверняка каким-то образом связаны между собой. Кто-то специально собрал их вместе в обувной коробке и спрятал на полке между книг. Но кто и зачем это сделал?
В открытую дверь с балкона влетела пчела. С громким жужжанием она летала по комнате, ища выход обратно на волю.
Кейт с интересом разглядывала фотографию красивого юноши: его смеющиеся глаза смотрели вызывающе.
Да уж, это был совершенно особый мир, где юные девушки в бриллиантах от «Тиффани», надев изящные туфельки с серебряным шитьем, кружились в танце в объятиях мужественных красавцев-моряков…
Внезапно перед внутренним взором Кейт поплыли картины недавнего прошлого. Вот она идет по длинному коридору в бальный зал отеля «Сент-Реджис», тускло освещенный, с позолоченными зеркалами во всю стену. Люди оборачиваются ей вслед – совсем незнакомые люди, улыбаются, с любопытством разглядывают. Обвиваясь вокруг ног, шелестит нежный зеленый шелк ее платья. Джазовое трио исполняет «Please Don’t Talk About Me When I’m Gone».
Мир бриллиантов от «Тиффани», изящных туфелек, мужественных красавцев…
Вот он здесь, стоит прямо перед Кейт. Блестят гладко зачесанные волосы, резко проступают черты лица, внимательно смотрят темные, почти черные глаза. Нет, он не красавец, но есть в этом мужчине что-то такое, что заставляет повиноваться его воле.
«Попадаются иной раз люди, которые боятся успеха. Боятся жить на полную катушку. – В его интонации звучит нечто вызывающее, он словно забавляется, глядя на нее. – Похоже, и вы из их числа?» – спрашивает он наконец.
«Вот еще не хватало… Я ничего не боюсь», – холодно отвечает она, отворачиваясь.
Кейт закрыла глаза. На самом деле она тогда очень боялась: боялась всего и всех. Однако храбро соврала. Вот Кейт поворачивается и гордо идет прочь, он следует за ней. Они входят в толпу мужчин в строгих костюмах и женщин в вечерних платьях. Пары кружатся в вальсе, и отражения их дрожат в зеркалах, закрывающих стены.
Пчела нашла наконец выход и, обретя свободу, вылетела в сад.
Кейт следила за ней до тех пор, пока та не исчезла из виду.
Ах, если бы знать тогда, что совсем скоро уходить станет он, а она, спотыкаясь, будет бежать за ним вслед.
Послышался какой-то шум.
Кейт напряглась, прислушиваясь: это Джек прошел по коридору до самого конца.
Он ищет ее.
Кейт быстро сложила все обратно в коробку для обуви и, торопясь, перевязала ее розовой ленточкой.
Может, лучше запихнуть коробку туда, где она стояла? А может, стоит показать свою находку Джеку?
Да, так и надо сделать.
– Кейт! Кейт! – Джек спускался по лестнице вниз. – Кейт! Вы где?
Внезапно переменив решение, она сунула коробку под мышку и, стараясь не шуметь, быстро проскользнула по коридору в свою комнату.
Работу они начали с передней части дома, точнее, с холла, скрупулезно и изнурительно медленно изучая все находящиеся здесь предметы. На каждый нужно было прилепить этикетку с номером. Под диктовку Джека Кейт заносила номер на специальный бланк и сопровождала его кратким описанием объекта. Потом они обязательно фотографировали вещь, иногда делали несколько снимков, под разными углами. Каждая статуэтка, каждая картина, в свое время принадлежавшая жившим здесь людям, была описана и оценена таким образом, чтобы ее можно было поскорее продать.
У каждого предмета имелась своя оценочная стоимость. Несвойственным ей аккуратным, четким почерком Кейт проставляла в последней графе цифру и быстро подсчитывала общую сумму. Она скоро устала от этой арифметики. Так грустно было при мысли, что вся красота и изысканность этих предметов, которыми пользовалось и которые наверняка любило не одно поколение обитателей Эндслей, вмещаются в несколько сухих стандартных строчек. Когда-то этот дом был для многих людей надежным убежищем, где можно было укрыться от жизненных бурь и невзгод окружающего мира. А теперь вот они с Джеком явились, словно разбойники, разоряющие чужое родовое гнездо. Они здесь совсем посторонние люди, и до этого дома с его историей им нет никакого дела. Да и друг другу они тоже чужие. Скоро они уедут отсюда, и мощные бульдозеры снесут с лица земли низенький коттедж миссис Уильямс, чтобы освободить место для роскошного курорта, а здесь, в холле, устроят ресепшен и еще, наверное, бар. Кейт уже представляла себе довольные лица туристов, прибывающих сюда, чтобы провести выходные на лоне природы.
Джек прекрасно знал свое дело, замечания его были лаконичными и профессиональными. Он быстро определял стиль, в котором был исполнен тот или иной предмет интерьера, почти без пауз диктовал его описание. И Кейт была благодарна ему за то, что он не придирался к ней, не надувал перед ней щеки. Джек диктовал, а она записывала. Она словно превратилась в невидимку, и возможность хотя бы на время забыть, кто она и как оказалась здесь, умиротворяла и успокаивала ее.
Они закончили в семь часов, и к этому времени пальцы Кейт уже сводило судорогой: не так-то просто быстро писать под диктовку, да еще разборчивым почерком.
– Ну что, на сегодня хватит? – спросил Джек.
Она благодарно кивнула и сунула бланки описи в папку.
– Кажется, я чую запах чего-то вкусненького, – добавил он, зевнул и сладко потянулся, подняв руки над головой.
Они отправились на кухню. Миссис Уильямс потрудилась на славу: в духовке заманчиво золотилась корочка запеканки, а на длинном сосновом столе уже стояли два прибора, а также блюдо с салатом, ваза с фруктами и тарелка с нарезанным сыром.
– Вот это очень кстати! – обрадовался Джек и потер руки. – Я просто умираю с голоду.
– А где же сама миссис Уильямс? Она что, невидимка? – удивилась Кейт, прислонившись к столешнице. – Прямо как в сказке «Красавица и чудовище».
– А по-моему, такое обслуживание можно назвать идеальным, разве нет?
– Ммм…
– Ага, как раз то, что нам нужно! – Джек указал на стоящую между двумя высокими бокалами бутылку красного вина. – Кейт, вам налить?
– Спасибо, не надо.
– А может, все-таки соблазнитесь? Вы уверены, что не хотите?
– Совершенно уверена, спасибо.
Джек почему-то невольно вспомнил рассказ Рейчел о том, что отец ее племянницы был алкоголиком. Впрочем, это его в любом случае не касается. Он налил себе.
– Надеюсь, вы не против, если я выпью?
– С какой стати мне быть против?
Джек пожал плечами, стараясь казаться невозмутимым:
– Действительно.
Скрывая смущение, он улыбнулся и отпил добрый глоток вина, словно демонстрируя, что ему абсолютно ничего не известно ни про нее, ни про ее семью.
Кейт нахмурилась, не в силах скрыть раздражение. Эта болтушка Рейчел наверняка все ему рассказала.