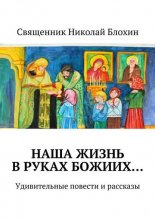Здесь никто не правит (сборник) Грякалов Алексей

На колени трое – три Михаила в одной молитве. И каждый будто бы странно ожил, протаял снег под коленями – шесть следков, прогретые молитвой.
– А как?
– Господи, Господи… помоги найти лыжу!
Самый младший сказал ясно. А другой молча кланялся – теперь он полковник Федеральной службы охраны. Наверное, я его встречу в ростовском Миллерове на самой границе. А тот, кто сказал, что надо молиться, давно умер по своей сбившейся воле.
Лыжа нашлась – конец торчал из-под наста совсем рядом. И покатились тихо втроем, уже страшно было подниматься еще раз высоко к пещере для разгона, почти неразличимой стала лыжня, река слилась с дорогой. Не видно моста. По темному склону взлобка вниз, поддергивая по привычке носок левой лыжи-щуки. Клочки соломы, принесенные ветром, схватывали скольжение – если бы спуск был сверху от самой пещеры, упал бы лицом вниз. Луг совсем темный, но не так страшно, как за рекой, где пещера в горе. Молитовка не нужна… шоркают лыжи по быльям конского щавеля, взгляд кидался на каждый шорох. А дома горела десятилинейная керосиновая лампа – светло и ласково.
– Так… как вы там, Михаил, молились? – отец спросил в сторону, будто не меня.
– Лыжу… искали.
– Ты мне религию оскорблять не смей.
Я не знал, что он знал это слово. И в первый раз назвал меня полным именем. И поверить не мог, что он тоже на войне молился, – солдаты, я думал, не молятся. Никогда не видел молящегося взрослого мужчину, кроме одного попа, что приезжал крестить. Церкви не было, я никогда не был в церкви, слышал, что в церкви пахнет каким-то дымом! В хутор поп молодой на легковой машине с деревянными коричнево-желтыми дверцами приезжал крестить детей. Взрослый ходил по кругу с малыми, непонятное говорил. Я подумал, как правильно мы молились про лыжу. И надел кепку – проходя мимо, он снял с меня и дал в руки. Молодой человек – не шофер, не пастух, не плотник, не учитель. Был странным тут, где поля, скотина, играла гармошка, иногда могла приключаться смерть – не страшно, когда совсем старая, всегда ужасная, когда молодая. То человека, что учился в Россоши, убили пряжкой со свинцовым наплавом, то девушка сгорала, когда вспыхивал ночной керосин, то привезли летчика, разбившегося в Польше.
Вера только и бывает странно-пещерная, – так думал, она скрывается, как дезертиры, что сидели в пещерах, их выкуривали и хватали, когда они выбирались через потайной ход на верх взлобка. Вполне хватает жизни обычной, в ней есть выходные, в праздники кино и футбол, из Германии солдаты привозят фонарики «Даймон». Но бабушка рассказывала о прекрасном Иосифе как о живом, его было жалко в начале, потом он всех побеждал. И длинноволосый Самсон всех побивал и только зря погибал геройски. Анания, Азария и Мисаил не сгорели в огне. Это были геройские люди, Конёк-горбунок при них, а Ивашек перехитрил ведьму. Святые спокойно темнели в темных углах темными ликами на образах, их помнили, как людей на фотографии. Только старые крестились, была Пасха – Великдень, яйца красили, зимой колядовали и щедровали, носили в мисочках кутью из пшеницы, которую толкли в ступе. И еще рядом существовал какой-то странный мир, не полуночный и не полуденный, не утренний и не ночной. Ведьмы часто шастали по ночам и редко в полдни, всегда домовой показывался перед событием… козаков остерегался, – налегал на женщину: дохнул теплым – к добру, холодным – к худу.
По степи бродили какие-то странные существа, вокруг них закручивались смерчи. Их было видно, а тех, кому молились, – не видно. Они будто бы расплодились и рассеялись в простых именах, Параскева святая почти невозможно слилась с дояркой Пашкой, сорок святых прилетали по весне, как жаворонки, которых соседка выпекала из пресного теста. Что-то почти непризнаваемое упорно существовало. В бывшей церкви Петра и Павла был РДК – Районный дом культуры, смешно пересмеянный редькой. И там пели, смотрели кино – длинная очередь перед сеансом посреди зала, и когда осталось совсем недолго ждать, центральцы вчетвером так ударили в спины, что она рассыпалась. Я упал, они уже стояли первыми у дверей, заняли потом лучшие места – все вместе переживали войну на белом полотне, где раньше были царские ворота и за ними алтарь.
Как раз на том месте, где упал, потом кружился в вальсе с учительницей французского языка Анной.
Упал на том месте, где когда-то крестили.
И странно: пока вера естественно жила собственной силой, она была тайной и теплой, а когда оформили по закону, будто бы лишилась чудесного обаяния. И теперь к жизненному и по прошлым временам умолимому пещерному естеству почти невозможно вернуться.
Апостол Андрий доплывал сюда – я миновал понтонную переправу через Дон. Апостол узнавал будто бы свои родные места. Вот же в Костомарове красавец-монастырь Донской Иерусалим золотым куполом возвещает, что сбылся сон. И две красные головы, как девушки, улыбаются – ты живой, есть любовь. Андрий, сын Прохора и Анастасьи, едет на конях, чуть кнутом взмахивает… куда спешить? Посмотри на места, которым кланялся первый Андрий. Но вход в пещеру совсем засыпали, чтоб не смущал зря. Ни святого креста в алтаре пещерного храма, ни колодца, где в глубине взблескивала живая вода. Тут в первых веках образовывалась древняя вера – на Дону в неведомых просвещенному миру местах уже жила легенда о царстве пресвитера Иоанна. А крест коричнево-красный был такой же точно, как в Риме, и в Палестине, и на Афоне. Крестоносцы считали, что неверных побеждает неизвестное им воинство с православными казачьими рыцарями веры. Но крестоносцы в чужих землях прямо перед собой видели противников веры, а на Дону все было зыбким – из степи выкуривалась пыль: то ли вихрь с черным, почти различимым бесом-беском в середине, то ли приближался в ужас вброшенный ночной грозой табун, то ли степняки намечались в скрывающем мареве. Не держались долго ни линия, ни постройка, ни жизнь. И поселенец посреди курганов-могильников, среди буераков, среди белых меловых взлобков, где божки и боги давних предшественников, одной собственной силой выправлял неровности. И сам призвал одну-единую силу, чтоб высветить все.
И будто бы общий вздох.
Но остались курганы, бабы каменногрудые со следами отдыхавших на плечах птичек, с неувядаемыми бедрами ждали оплодотворения и призора. И все ночное и черное, что могло в полдень вползти змеей в любой сон, древнее-черное никуда не делось, оно тоже ожидало признания. Будто даже к храмам приблизилось, не чуралось молитвы на своем, никем из новых поселенцев не слышанном степном языке. Новые насельники видели, что до них было много предшественников – оставили могилы, своих каменных рожениц. Горячие невыговариваемые кошмары теперь догоняют любого во сне, и не скрыться от них, не отбиться до самого утра, потом в полдень могут мелькнуть.
И чтобы привязать себя к месту, полковые казаки ставили монастыри в городках, донские казаки обустраивали места, черкасские козаки обживали свои по Дону, по Тулучеевке, по Богучарке. И пьяный цыган середь бела дня в желтой шелковой рубахе, выпущенной на шаровары, идет по пыли: где тут в этой самой слободе Петропавловке была церква?
Вслух грешит против власти прямо напротив бородатого портрета на стене райкома – выпил крепко: «Да здравствует Керло Мерло… и конский базар три раза в неделю!»
Болтает рукавами, желто-серая пылюга на хромовых сапогах: никто не знает, какая правда на самом деле, но всякий знает, что правда цыганская есть. Одно слово вытеснено, жеребчиком краденым другое мелькнет. Сказал бы про Карла Маркса в своем таборе доверительно тихо, а то гудит всем. И все равно выскакивает совсем не то слово, что хочет сказать. И весь язык такая цыганская речь: хотел сказать, а как сказал – ясно, что хотел другое. Вытеснено одно, а вместо него неведомо кем украденное и скрытое. И речь, ты понимаешь, это говорение о том, что совсем невозможно. Хотел цыган сказать, что один-одинок бредет по улице из песка, – вышло про давно закрытую церкву: от святых Петра и Павла осталась только цыганская память. И получается, язык – брехня, собаки брешут, никто тут не говорит никакой правды, едут и идут мимо, косясь на цыгана в шелку, – а что толку с них?
И сейчас на переправе не о цыгане говорю и его полдневной тоске.
Анна ночует сейчас с другим… вот руку цыганистую тянет к ее нежному животу. Вырастет за словами в утренней полутьме имя неведомого – уже уплотняется в легком свете прибывающего утра.