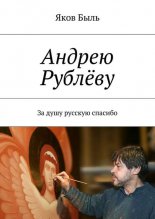Муза Кормашов Александр

– Я бы гордилась, что она висит у меня на стене. Почему вы не пошли в школу?
Олив отвернулась.
– Не знаю. Забавно. Перед самым отъездом в Испанию я купила масляные краски… ярко-зеленая, алая, ночное индиго, сливовая, серебристо-серая… я никогда раньше не пользовалась этими цветами, а тут выбрала одну за другой и положила перед кассиром. Я как бдто знала, что именно здесь они мне пригодятся. Что они выразят мои страхи и мечты.
Тереза казалась совершенно сбитой с толку.
– Тере, это трудно объяснить. Мои родители, подруги в Лондоне… А здесь что-то щелкнуло. Как будто эта картина уже сидела в моей голове и сейчас вдруг вышла на свет божий. Никогда прежде я не была так увлечена тем, чтобы это выразить.
– Ясно.
– Но сейчас, когда дело сделано, когда она из меня вышла… меня не оставляет мысль, что краски сотворили это сами. Что я тут ни при чем.
– Неправда. Это все вы. Если бы я взяла эти краски, ничего бы не получилось. А вы – совсем другое дело.
Олив улыбнулась:
– Спасибо за добрые слова.
– У вас есть еще картины?
– Здесь нет, зато есть… – Из одного саквояжа она достала большую тетрадь и протянула гостье.
Тереза листала страницы и видела миниатюрные наброски рук и ног и глаз, бутылок, кошек, деревьев, цветов, – всё в реалистичной гравированной манере, совершенно отличной от картины. А дальше были портрет Сары с надписью Мама, Лондон, совместный портрет ее с Гарольдом, а также пастельный натюрморт с лимонами, принесенными в день их знакомства.
Тереза показала на лимоны.
– Я спрашивала вас, куда они делись, а вы ответили: «Не знаю».
Олив покраснела:
– Прости.
– Вы их украли?
– Хочешь – называй так.
– Почему вы делаете из этого секрет?
– Это не секрет. Просто я… никому не сказала. Кроме тебя.
Тереза просияла, зарывшись поглубже в раскрытую тетрадь. Люди были такие живые, что казалось, сейчас выскочат навстречу. Она продолжала листать, и ее внимание остановилось на развороте с двойным изображением брата: Исаак колет дрова и Исаак с кружкой кофе.
У Терезы защемило сердце, и тут Олив вырвала тетрадь у нее из рук.
– Это всего лишь наброски, – сказала она.
Под ними колокольчиком прозвенел Сарин смех.
– Что вы сделаете с картиной? – спросила Тереза.
– Какая ты практичная. Не все должно преследовать цель или выгоду.
Тереза вспыхнула, потому что она рассуждала именно так, прагматично, как шакал в поисках ребрышка. Защитная реакция, которую она почувствовала в ответе Олив, ее озадачила. Будь у нее хоть половина такого таланта, она уже была бы не здесь, а в Барселоне.
– Будете прятать под кроватью, чтобы ее никогда не увидели?
– Нет конечно.
– Так показали бы прямо сейчас. Повесьте ее на стену.
Олив вся подобралась и присела рядом с «Садом». Старый матрас просел под ней, и Тереза вдруг подумала о том, какая убогая кровать и как глупо, что молодая хозяйка с этим мирится, тогда как может себе позволить кое-что получше. Предложить, что ли, вместе съездить в «Калле Лариос» в Малаге и купить новый матрас? Перепробовали бы один за другим, пока не нашли бы самый подходящий. Однако Тереза промолчала, а перед глазами еще стоял портрет брата, очерченный проворным карандашом.
– Я не хочу, чтобы он висел у меня на стене, – сказала Олив.
Тереза нахмурилась. Неубедительное возражение. Она подошла к кровати и остановилась, руки в боки.
– Вы можете ее продать в Малаге, сеньорита. Заработать деньги.
Олив завела глаза к потолку:
– Деньги? Они у нас уже из ушей сыплются.
У Терезы кровь прилила к щекам.
– Вы могли бы уехать.
– Но мне нравится здесь.
– Париж. Лондон. Нью-Йорк…
– Тере, я не хочу, чтобы люди о ней знали. Понимаешь?
– Будь она моей, я бы ее всем показывала.
Олив мельком взглянула на картину.
– Предположим, ты ее покажешь миру, а она ему не понравится. Подумай об этом. Пройдут дни, месяцы… а то и годы…
– Главное, чтобы она нравилась мне, а остальное неважно.
– Тогда к чему эти старания понравиться миру? И, смею тебя уверить, она бы тебе точно не нравилась, если бы ты ее написала.
– Зачем же вы этим занимаетесь?
Олив встала, прикурила и заговорила, глядя в окно:
– Сама не знаю. И никогда не знала. Занимаюсь, и всё. – Она посмотрела на Терезу. – Я понимаю, звучит туманно. Просто… мне кажется, что в голове существует такая сияющая цитадель совершенства. И с каждым полотном, с каждым наброском я подступаю к ней ближе и ближе, к тому месту, где мои картины будут истинным отражением моего «я», иным отражением. И я полечу.
Она потерла лоб и прилегла на кровать.
– Почему мы ежедневно находимся в плену часов и минут? Почему нельзя проживать жизнь, для всех недосягаемую?
Голос у нее сорвался, и Тереза положила ей на плечо руку.
– Тере, прости. Может, я ненормальная. Но так было всегда. Мне захотелось кому-то показать. Я рада, что тебе понравилось.
– Не то слово. Me ha encantado[41].
– Сейчас! – К Олив снова вернулась прыть, она соскочила с матраса, не выпуская сигареты. – Возьми. Я думаю, тебе понравится. – Она достала альбом художников эпохи Возрождения и старый «Вог» и протянула их гостье. – Журнал мамин, но она не будет против.
Тереза полистала альбом, цветные иллюстрации мужчин и женщин в пышных нарядах: кожа, как вареное яйцо, выпученные глаза, тонкие пальцы, унизанные кольцами, накидки из камчатной ткани. Странно удлиненные девы Марии, пронизанные золотым лучом Благовещения; жутковатые сцены с мифическими зверями; пятиногий уродец; женщина, превращающаяся в гранат. Она читала про себя имена художников: Беллини, Босх, Кранах. Это был другой язык, которым необходимо овладеть, как новым оружием.
То, что журнал старый, Терезу не смутило. Теперь это ее «Вог». Даже хорошо, что номер годовалой давности. Сара, одним глазом заглянув в очередной журнал, швыряла его на пол; Терезу же одна цветная обложка притягивала, как пение сирены. Как могла этого не слышать Сара? Вот только бы не повредить юной хозяйке.
– Вы уверены, что она не будет возражать?
– Она даже не заметит пропажи. Кажется, Исаак еще здесь. – Олив убрала тетради для зарисовок и картину обратно под кровать. – Давай посмотрим, что ей от него надо.
Тереза подавила в себе волну, поднявшуюся в связи с упоминанием имени брата, закрыла подаренный ей альбом и последовала за Олив.
Исаак чокнулся с Сарой вторым бокалом лимонада. Он привык к такому поведению женщин: кошачьему, кокетливому, порой доводящему до головокружения. Но никогда их не поощрял, хотя, кажется, их это еще больше заводило. Превращалось в клоунаду. Впрочем, он себя приучил не делать преждевременных заключений по поводу того, чего женщина от него хочет. Вроде напрашивается одно, а потом нередко оказывается другое.
Он подумал, насколько же Олив отличается от своей матери – совершенно невинно тянулась она к нему, словно тонущая, даже не подозревая, как она себя этим выдает. В каком-то смысле она заинтриговала его больше, нежели сеньора Шлосс. Сара обвораживала мгновенно, зато в Олив, при всей ее неуклюжести, было что-то податливое и притягательное. Ей надо было выжить на развалинах родительского брака. Если она так и останется с ними, не кончится ли это для нее плохо, подумал он.
Он услышал шаги, в дверях появилась Олив. Она переводила взгляд с него на мать, словно решая в уме трудную задачку. Лицо Терезы, выглядывавшей из-за ее плеча, выражало ничем не объяснимый триумф, что заставило его насторожиться.
– Лив, – обратилась к дочери Сара. – Угадай с трех раз.
– А если без этого?
– Мистер Роблес сделает мой портрет.
– Что?
– Это будет сюрприз для папы, – продолжала Сара. – И заказ для мистера Роблеса.
– Но папа терпеть не может сюрпризы.
– Как и я. Но папа в любом случае получит эту картину, понравится она ему или нет.
Олив прошла вперед и уселась в траченное молью кресло, поставленное под несообразным углом по отношению к дивану.
– У вас есть на это время, мистер Роблес? – спросила она. – При вашей-то занятости.
– Для меня это большая честь, – сказал он.
Олив разглядывала неработающий камин, в котором Исаак заранее сложил поленья для удобства. Тереза по-прежнему стояла в дверях, посматривая на брата с легким презрением, отчего он начинал заводиться. Живешь в своей скорлупке и знать не знаешь, сколько раз за последние годы я тебя прикрывал.
– На картине должна быть я, – вдруг объявила Олив.
– Ливви, – не сразу отреагировала ее мать, разглаживая складку на брючине. – Это мой сюрприз.
– Мне кажется, папе будет приятно увидеть нас обеих. Мы уже вместе позировали когда-то. Почему не сейчас?
– Мы вместе позировали?
– Конечно. Ты уже забыла. Как вам такая идея, мистер Роблес?
Исаак ощущал на себе давление двух женщин почти физически.
– Решать вам, – сказал он. – Это ваш отец, ваш муж.
Сара ухватилась за спасительную соломинку.
– Мистер Роблес, если я соглашусь, значит ли это, что мы должны будем позировать вдвоем?
– Необязательно, сеньора.
– Ну что ж, – она вздохнула. – Тогда мы решим этот вопрос, да, Олив?
Та с вызовом вскинула подбородок.
– Да, мама. Мы решим.
Олив и Саре предстояло три раза позировать вдвоем, когда Исаак освободится от преподавания в Малаге. Как сохранить это в тайне, зависело от Терезы.
– Скажешь Гарольду, что мы на рынке в Эскинасе, – инструктировала ее Сара. – Или у местного доктора. Тереза, что-нибудь придумаешь. Ты отлично соображаешь.
Во время второй сессии, когда Исаак рисовал их с матерью в предвечернем свете, на кухне в своем коттедже, Олив вдруг поняла: что-то не так. Сара в полупрозрачной бледно-лиловой блузке и коричневой шелковой юбке сидела с выгнутой спиной, убрав одну руку за спинку стула. Она делала все, чтобы выглядеть на все сто в глазах художника. А вот сам художник был осунувшийся и какой-то унылый.
Казалось бы, есть все поводы для радости: его партия только что победила на национальных выборах. Об этом трубили по радио и писали на первых полосах газет, которые отец привез из Малаги. Левая коалиция пришла к власти, разве не повод для триумфа?
– Что случилось? – спросила она, когда Сара на минутку вышла.
Он не без удивления оторвался от полотна.
– Еще одного парня убили. Я его немного знал.
– Убили?
– Прошлой ночью. Местный, по имени Адриан, член Анархистской партии. Работал на заводе в Малаге. Сначала повязывал красные ленточки на осликах и велосипедах, а закончил тем, что сжег документы босса на владение землей. За словом в карман не лез – мальчишка, чего вы хотите. Какие-то подонки его застрелили и привязали к кузову грузовика.
– О, это ужасно.
– Его называют жертвой страсти. Не смешно. Ему было не до любви.
– Кого-нибудь арестовали?
Исаак потемнел лицом.
– Свидетелей нет. Он сам себя привязал к кузову, естественно. После этой экзекуции у него от ног ничего не осталось.
– О господи. Кто на такое способен?
– Все и никто. По утверждению гражданской гвардии, это дело рук коммунистической банды, посчитавшей его богатым Буратино. Другие обвиняют цыган. Анархист, коммунист, фалангист, социалист, oligarco, gitano[42]… что еще? А может, это сделал его отец? – Исаак сплюнул на пол.
Олив хотелось его утешить, но она понимала, что мать может вернуться в любую минуту, и постаралась взять себя в руки. Это единичный случай, сказала она себе, да, кошмар, но все-таки исключение из правил. Мальчик не символ чего-то, а просто бедняга, чья жизнь преждевременно оборвалась. Но тут же вспомнила рассказы про полярного медведя, про повешенного на дереве священника, про эту землю, которая у местных жителей в крови. Вспомнила о «Саде», дожидающемся на чердаке, ее многоцветном совершенном рае, – и устыдилась собственного невежества и упрямых фантазий человека со стороны.
Вечером следующего дня Тереза сидела в коттедже за кухонным столом, пока Исаак свежевал убитых им кроликов для будущего жаркого. Перед ней лежал «Вог», подарок молодой хозяйки, и она обращалась с ним так, словно это не модный журнал, а первое издание старинной книги. С обложки на нее умильно смотрела блондинка в длинной кремовой накидке, из-под которой выглядывала летняя туфелька в черно-белую полоску. Женщина облокотилась на борт кабриолета, закрываясь рукой от солнца, но при этом продолжая высматривать что-то впереди. За спиной у нее синело небо. Под фотографией четким привлекательным шрифтом было выведено: отдых – путешествия – курортная мода.
– Ты словно воды в рот набрала, – прервал молчание Исаак. – Ты волнуешься, что я собираюсь делать? – Не дождавшись ответа, он взорвался: – Господи! Нет, чтобы за меня поволноваться, Тереза.
– Исаак, расслабься. Что бы ты ни делал, Адриана уже не вернешь. Одно дело воровать мед из ульев герцогини, и другое дело – подвергать риску свою жизнь…
– Это и к тебе относится. – Он показал ножом на модный журнал. – Тебе тоже не мешало бы держать себя в руках.
– Но мне ничего не грозит.
– Ты уверена? А как насчет прошлого раза? Тере, второй раз я тебя выкупить не смогу.
– Ничего я не брала. Олив сама дала мне его.
Тереза вспомнила историю, связанную с мисс Банетти. Тоску, повседневную рутину. У хозяйки было столько всякого добра, что она даже не замечала, когда что-то пропадало. Такое искушение, так все просто. Сначала по мелочи: колечко, серебряный коробок для спичек. Потом пустые флакончики из-под духов и, наконец, ожерелье из изумрудов. Все эти цацки, которыми не слишком дорожили богатые иностранцы на ее попечении, были для Терезы заслуженной наградой за серую жизнь. Она положила украшение в оловянную коробочку и закопала рядом с колодцем. Время от времени она выкапывала коробку, но на себя ожерелье не надевала, а только любовалась тем, как на солнце в затейливой гамме переливаются зеленые горошины. Оно ей так нравилось, что она не чувствовала за собой вины.
Немецкая семья поймала ее на месте преступления и выгнала с работы. Исаак пошел с ними объясняться. У нее проблемы с психикой, сказал он, что было неправдой, но все же лучше, чем если бы фрау заявила на нее в гражданскую гвардию. Он вернул им ворованные вещи, вот только в краже ожерелья она не призналась, и коробочка с изумрудами так и осталась спрятанной в саду. Ее маленькая тайна.
– Послушай, Тере, – сказал Исаак уже мягче, возвращая ее в реальность, в которой острое лезвие прошлось по кроличьим кишкам. – Олив не может быть твоей подругой.
– Сам себе будешь давать советы.
– Понимаю, что тебе должно быть одиноко, пока я в Малаге. Но она всего лишь богатенькая дочка, путешествующая с родителями. Ты не успеешь оглянуться, как ее след простынет. Не хочу, чтобы ты…
– Мне не одиноко. И я не ребенок. Так что не надо меня поучать. И я не хочу быть ее подругой.
– Вот и хорошо. – Он принялся освежевывать кроличью ногу. – Помоги мне. – Она подошла и остановилась рядом. – Тере, ты тоже не должна меня поучать.
– Я попробую.
Он засмеялся, и она следом.
– Разве я всегда не приглядывал за тобой? – сказал он.
– Да, Иса. Только я тебя об этом не просила.
Гарольд, кажется, не замечал периодического отсутствия жены и дочери. Он сидел за рабочим столом с рассеянным видом, вперившись в марокканские гобелены, которые купил у торговца коврами в Малаге, уткнув локти в изношенные кожаные подлокотники кресла и практически не замечая Терезы, стирающей пыль вокруг него или ставящей на стол бокал «фино». Он напоминал капитана тонущего судна, который уцепился за обломок и готов за него держаться до конца.
Женщины позировали вместе в последний раз, а Тереза готовила на кухне рагу, когда зазвонил телефон. Она подождала, но Гарольд все не подходил.
– Сеньор? – окликнула она хозяина.
Ответом ей была тишина, а телефон продолжал звонить. Тогда Тереза прошла на цыпочках по коридору до кабинета, прислушалась под дверью, заглянула внутрь и прошествовала по ковру до рабочего стола. Она поднесла трубку к уху и только тут поняла, что совершила ошибку.
– Harold, bist du es?[43]
Голос был женский. Тереза хранила молчание, вслушиваясь в резкие вдохи на том конце провода, после чего связь прервалась. Она подняла глаза и увидела стоящего на пороге Гарольда в верхней одежде, с охотничьим ружьем в руке.
– Что ты тут делаешь? – спросил он. – Черт возьми, Тереза, что ты делаешь?
Она тупо смотрела на телефонную трубку, думая о том, что лучше бы она не переступила порога этого дома и приискала себе работу в другом месте. Ей было недостаточно ограничиться тряпками в жизни Шлоссов – она желала оказаться ближе, разглядеть шрамы и родимые пятна, услышать горячее биение сердечных мышц. Но сейчас к ней пришло осознание того, с какой опасностью сопряжено причащение к чужим тайнам.
Гарольд подошел к ней, когда она со всего маху опустила трубку на рычаг, и накрыл ладонь своей. Ее поразило тепло этой ладони.
– Тереза, – он улыбнулся, лишь слегка прихватив ее ладошку, – и кому тебе вздумалось позвонить?
На смену растерянности пришло смирение, когда она поняла, как себя вести, а в ушах еще звучало: сначала надежда в вопросе женщины, а затем паника и судорожное дыхание вслед за догадкой, что на том конце провода вовсе не Гарольд.
– Простите, сеньор, – сказала она. – Я хотела поговорить с тетей в Мадриде.
Их взгляды встретились на несколько секунд, и он отпустил ее руку. Гарольд обошел рабочий стол, сел и расчехлил ружье.
– Тереза, тебе надо было просто попросить.
– Простите, сеньор, – повторила она. – Больше это не повторится.
– Хорошо. Можешь идти. – Она была уже в дверях, когда он спросил: – Где моя жена?
Тереза развернулась, от страха у нее схватило живот.
– Она на рынке, сеньор.
– В шесть вечера? – Он снова зачехлил ружье и отъехал в кресле.
– Потом она собиралась зайти в церковь.
– В церковь?
– Да. La iglesia de Santa Rufina[44].
Он хмыкнул.
– Ты же знаешь, миссис Шлосс слаба здоровьем. Если она куда-то уходит, ты должна мне говорить. Держи ее в поле зрения.
– В поле зрения?
– Приглядывай за ней. Дождись ее возвращения и передай ей, что я уехал в Малагу по делам. Она поймет.
– Да, сеньор.
– Олив с ней в церкви?
– Да.
– Я рад, что они проводят время вместе. – Он положил ружье на стол. – Тереза, мне нужен твой совет.
– Да, сеньор?
– Как, по-твоему, отнесутся деревенские к тому, что мы устроим для них вечеринку?
Тереза нарисовала в своем воображении нечто гламурное, чего местные никогда не видали, и себя, главного организатора, в центре события. Это положит конец насмешкам – «цыганское отродье», «приблудная». Всемогущество Гарольда и Сары Шлосс отразится на ней, и она тоже станет персонажем прекрасного цветного кино.
– Думаю, это было бы здорово, – ответила она.
Она поспешила обратно на кухню проверить рагу и слышала, как хозяин расхаживал в своей спальне, до гардероба и обратно, как останавливался, чтобы примерить очередной наряд. Он появился в великолепном костюме пшеничной расцветки и голубой сорочке, контрастировавшей с темными волосами и подчеркивавшей его особую изысканность.
Когда его автомобиль уехал под рев мотора, Тереза снова ощутила тяжесть в животе от подслушанного вопроса Harold, bist du es? – это был секрет, ей доверенный, который она должна была хранить, и оба это отлично понимали. После него остался слабый запах одеколона. И пронзительное, янтарное воспоминание о кожаных креслах и темных углах.
Когда Тереза вернулась домой, Исаак в спальне упаковывал рисовальные принадлежности. В кухне стояла закрытая простыней картина, не предназначавшаяся для посторонних глаз до завершения работы. Сара уже ушла, а Олив сидела за столом. Она выглядела уставшей, и Тереза краем глаза заметила, что ее руки находятся в постоянном движении. В голове у Терезы никак не соединялись этот непоседливый отрепыш и неспешный, уверенный в себе художник на чердаке. Интересно, нарисовала ли она что-то новенькое и удостоится ли Тереза это лицезреть?
– Ваш отец спрашивал о вас, – обратилась к ней Тереза. – Я сказала, что вы с матерью пошли в церковь Святой Руфины.
– Где это?
– На деревенской площади.
– Мама про это ничего не знает. – Олив поднялась. – Я должна опередить отца.
– Он уехал.
У Олив вытянулось лицо.
– Ну да. – Она снова села.
– Вам нравится позировать? – спросила Тереза.
– По-моему, из меня плохая модель. Кто получает удовольствие, так это моя мать.
– Вашего отца картина наверняка порадует.
– Возможно. Если она чего-то стоит. Исаак мне ее не показывает.
– Ваш отец… он хочет устроить вечеринку.
Олив простонала.
– Он так сказал?
– Вы не против, сеньорита?
– Ты не видела вечеринок моих родителей. Уж лучше пойти в церковь.
Она была не в духе. Может, они с матерью поцапались во время сеанса позирования, подумала Тереза. Одно ей было ясно: если Сара создана, чтобы себя демонстрировать, то Олив скорее наблюдательница.
Тереза подошла к рабочему столику, взяла нож и начала шинковать лук.
– Вы слышали про святую Руфину? – спросила она в надежде отвлечь юную хозяйку от мрачных мыслей.
Олив бросила взгляд в темный коридор – где-то там Исаак расхаживал по комнате.
– Нет.
– Это история двух сестер-христианок. Они жили в Севилье в… la poca romana… как сказать по-английски?
– В эпоху Древнего Рима.
– Да. Они делали горшки и миски. Римляне заказали им горшки для своего языческого праздника. А они ответили: «Мы не будем. Мы делаем горшки только для своих». И разбили маску богини Венеры.
– О господи!
– Их схватили. Юсту посадили в колодец, а Руфину заставили сражаться со львом.
Тереза не без удовольствия про себя отметила, что Олив замерла и внимательно ее слушает под аккомпанемент танца черных теней на стене и шкворчащего лука на сковородке.
– Огромный лев, – продолжала Тереза. – Голодный. En el anfiteatro[45]. Зрители ждут. А лев не рвется в бой. Сидит себе. Ее не трогает.
– А дальше? – тихо спросила Олив.
– Ей отрезали голову.
– Нет!
– И бросили сестре в колодец.
Олив поежилась.
– Какой кошмар.
Тереза пожала плечами.
– Мне нравится лев. – Она перехватила взгляд Исаака, стоящего в проеме. – Он знал цену перемирия. Не сдвинулся с места.
– Может, ему не нравились на вкус костлявые девушки, – подал голос Исаак. Олив обернулась. Он сложил руки на груди, сверля взглядом сестру. – Тере, опять ты со своими байками?
– Она хорошая рассказчица, – вступилась за нее Олив. – Вообразите, вы сидите в темном колодце, а ваша сестра один на один со львом. А потом к вам в руки падает ее голова… А что произошло с Юстой?
– Она умерла от шока, – сказала Тереза.
– Я бы тоже умерла.