Танжер Нагим Фарид
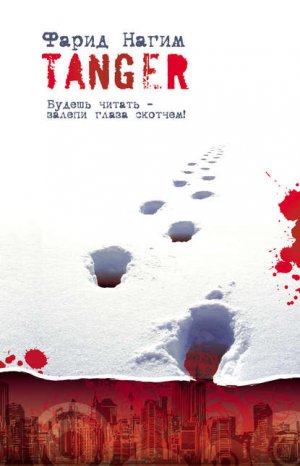
Они говорили между собой, как родные люди. А я сидел и вел себя, как приличный человек. Бармен тоже вел себя, как приличный человек, и всем видом говорил: да, я ненавязчив, но доступен. И самое удивительное, что мне была приятна эта волна, которая шла от обаятельного, застенчивого лица Юрия Владимировича.
– Жаль, что я не могу угостить вас коктейлем, – вдруг сказал я. – Вернее, я могу вас угостить чем-то, но мне тогда не хватит на метро.
– Ничего, расслабься, – сказал Юра.
– Ой, смешно, Анвар напился, – Нелли захлопала в ладоши.
Оставила ладони сжатыми у груди и смотрела на меня. Глаза у нее блестели. Я не чувствовал себя пьяным, только грустным.
– Кто, я пьян?! Я могу тест… нет, здесь не буду.
Мне стало хорошо, и я хотел рассказать Нелли что-то веселое, чтобы она хохотала, а я бы сидел и улыбался, простой такой чувак. Юре было бы приятно, он любит простых таких чуваков. Но не мог ничего вспомнить. Такая упертая пустота в голове.
– Пойдем, уже, ты как? – Юра с пидорской вежливостью посмотрел на Нелли.
– Пойдем, Анвар? – Она всегда так трогательно выговаривала «р-р», что ее хотелось обнять.
Он расплачивался.
– Товарищ бармен, а у вас коктейли из жидкого золота что…
Нелли зажала мне рот ладонью и засмеялась, а у меня вздрогнуло сердце.
Мы вышли на улицу. Юрий Владимирович вытянул руку. Пикнула невидная в темноте машина, было слышно, как открылись замки.
– Ну пока, Анвар, голубчик, – сказала Нелли. – Смотри, не буянь…
Он крепко пожал мне руку. У него странно короткие пальцы. Когда сжимаешь его руку, такое чувство, будто у него пальцы отрублены наполовину.
Они сели в машину. Длинная представительская «БМВ». Я посмотрел на них. У них радость была впереди, а у меня позади.
«Поэтому они и не подвезут тебя, потому что Юре надо спешить к жене в Солнцево, Нелли – к Лефтереву на Савеловском, а до этого им еще нужно потрахаться в этом красивом, просторном салоне, на кожаных сиденьях», – сказал мне журналист.
«Неужели это так? А может, и нет, сейчас по дороге, другими уже голосами, будут обсуждать журнальные дела, и Нелли будет нервничать. А потом он поедет в свое Солнцево, к жене и дочкам, а она, в своих дешевых, детского размера кроссовках, пойдет к Лефтереву, но все равно грустно как-то», – ответил я.
Я шел, и это нарастало в моей душе. Стоял каленый, каторжный мороз. Снег визжал под ногами так громко, что казалось, кто-то большой идет мне навстречу, и я слышу его шаги, а потом эхо его шагов. Я перешел на другую сторону и дошел до конца улицы Герцена. Проносились машины по Садовому кольцу, ночью, в мороз, они сияли особенно ярко. Я остановился в темноте, у старинного дома светилось маленькое зарешеченное окно. И это случилось со мной возле этого дома. Я стоял и смотрел на него. Это был дом. Мне никогда в жизни не было так плохо, как возле этого старинного и как-то по-старинному заснеженного дома в конце улицы Герцена. Никогда в жизни не было так пусто и безысходно на душе, как после этого вечера и возле этого дома, это была физическая боль. И я засмеялся. Потом замолчал. Я попался. Выхода не было. Я смотрел на него, как на мучительную загадку, на это тусклое окно. Я знал, что нужно что-то сделать, чтобы это кончилось, завершилось. Я не хотел идти домой, но и не знал, что мне делать, и все стоял возле этого дома. Я не хочу обратно, там мне станет еще хуже, ты умрешь там среди этих поэтов. Я не хочу домой, там мне тоже станет еще хуже. Если я сейчас сделаю хотя бы шаг, я буду рыгать. Я буду блевать, я буду пить, курить, я буду долго дрочить, но легче мне уже не станет, что сделать против пустоты? Дом давил и бесконечно заваливался на меня своим круглым углом, он зависал надо мною, кренился и заходил то с одной стороны, то с другой, выгибался скобой вокруг меня. Он открыл мне весь ужас моего положения, мучил и не отпускал от себя. Я сел, скорчился и застонал. Услышал хохот и громкий говор. Две девушки, не заметили. Видимо, что-то случилось со мной, как будто я стал прозрачным для всех женщин, будто закончился во мне какой-то пигмент, и я стал мужчиной-невидимкой, даже без ферромонного запаха.
Исчезли, будто их умыкнули. Я встал, также сияли, наливались светом, вспыхивали и пролетали машины по проспекту, снова вспыхивали. Также заиндевело светилась в высоком черном небе сталинская высотка. И также стоял за спиной этот ужасный каменный старик… и вот только после этого, потом я потащил себя вперед, склонившись набок и вжав голову в плечи, с ужасом ожидая спиной еще чего-нибудь. Ноги подкосились, сел посреди проспекта, и мне сразу стало тепло.
Два мента трогали меня дубинками, и я понял, что это мои ангелы взмахивают крыльями и влекут к метро.
Как сильно я замерз снаружи и как мне жарко внутри, все органы вспотели, наверное. Когда пьяный еду домой, так всегда надеюсь, что Асель ждет меня. Иногда шевелил губами и пожимал плечами, разговаривая с ней, за нее задавая вопросы самому себе.
– Анвар, а как электричка в метро снимает электричество с рельс?
– Не знаю, Аселька.
Доехал до Петровско-Разумовской, пустой «стаканчик» у эскалатора. Запоздалые люди в каком-то ужасе разбегались от метро в темноту. В ночном автобусе сильно прижался головой к заиндевелому окну. Автобус пустой, казалось, что даже водителя в нем нет. Почувствовал, как холодно голове, и вдруг ужаснулся. По-настоящему ужаснулся, что у меня была Асель – моя жена. Пытался ее себе представить и не мог. Не мог представить, что у меня нет Асель, будто увидел самого себя в зеркале и удивился, что я есть, и я – это я, и я проживаю свою жизнь. Только когда выпью, тогда вылезает наружу весь мой трезвый бред: что мы не любили друг друга, что это была нелепая общажная встреча, что необходимо было расстаться, только, когда пьяный, признаюсь самому себе, как я любил ее и как мне сейчас плохо и как безысходно там, куда везет меня случайный автобус.
Потом думал о Нелли, как бы у нас все было хорошо, как мы помогали бы друг другу. А ей почему-то стало так неловко, она покраснела и сказала: «Вернулась». Нет, это удивительно – Асель вернулась. Причем она искала меня в общаге. Я так и представил по ее рассказам, как она металась возле нашей бывшей 412-й комнаты. Только Асель может так метаться, будто случилось что-то страшное или случится в будущем, если она быстро не найдет меня. Мы встретились с нею в общаге, и она прятала от меня свои глаза, говорила про маму, что-то утешительное для меня, а я заплакал и счастливо тер лицо занавеской. Потом у нас было это. И я снова узнавал ее тело, и меня потрясал сухой жар и бархат ее кожи, будто тугие струи нежного песка. Причем возникло то самое недовольство от нее, и то, что я узнал его, вспомнил, было очень приятно. Нас вспугнула мама, я убежал в спальню этого дома и боялся спиной.
И даже когда я проснулся, то долго еще видел свою спину в этой спальне, и долго-долго мне еще было хорошо, и я был счастлив.
Ночь особенно темна перед рассветом. Дворник заскреб лопатой.
Решил больше не вставать. Юрка живет только ради дозы, это его энергия. А я жил пустыми надеждами, какой я писатель, какой муж?! Нищий бездарь, с детства запрограммированный на жалкое колхозное существование. Ну и что? А кто тебе сказал, что должно быть хорошо? Удивительно, откуда у меня эта уверенность, что все должно быть хорошо? И я вдруг понял, что я все придумывал о себе, и даже то, что мне плохо, это я тоже придумывал, а теперь мне действительно пришел пиздец натуральный. И будет только хуже. Еще и времена эти совпали со мной. Так меня хотя бы на комсомольском собрании обругали бы. Зажигались и гасли окна в доме напротив. Вот, снова горят отдельными квадратами сквозь ветви деревьев. Люстры разные, а свет одинаковый. Оторванная телефонная трубка болтается на ветке. Разъезжаются и съезжаются машины. Пьющий мужчина с батоном хлеба в целлофановом пакете. Странное и такое быстрое зимнее время, только рассвет и сумерки. Неужели в этой щели в стене нет хотя бы десяти рублей, или в этой дырке, какая-нибудь мышка могла утащить туда пятьдесят долларов, или вот под этим отставшим уголком старых обоев. И вдруг удивился, даже привстал, что такая большая Москва и все-все в ней есть, но невозможно найти денег. Удивительно, что они нигде не валяются. Точно нигде их не найти. С утра и днем смотрел на ветви деревьев, на которых болтались чьи-то старые, порванные штаны, пакеты, еще какая-то тряпка. Как же я умудрялся жить все время до этого? Снова ворочать эти будущие дни, как свинцовые валуны. А зачем? Ртуть и свинец вступали в кровь и немели ноги, все кажется отдельным и тяжелым, подгибается рука. В голове плоские воспоминания, картинки из жизни и телевизора, а зачем все это? Дворник скребёт лопатой уже где-то далеко. Женщина маячила у окна, ходила по кухне, открывала дверь холодильника. Хорошо было бы подойти к стене и вдруг отлепить от нее сто тысяч. Положить ладонь и ждать, когда под ней выпуклится купюра.
Устаешь жить бесплатно. Какой-то я лишний во всем. Зачем ты меня сделал, бог?
Онанировал на телевизор, кое-как спустил и вдруг от голода и горечи съел свою сперму. Клейстерный запах.
В пещере играли в карты и монотонно разговаривали. Зашла черная пантера и чесалась в комнате моего глаза. Я лежал обугленный под одеялом и думал, что уже не встану, и эти мысли все больше становились реальностью. Мочился в банку и сливал в форточку. А потом и мочиться перестал. Ничего уже не надо было делать, не хотелось курить, не хотелось женщин. И даже голод уже не мучил. Мыслей о самоубийстве не было, просто умирал, как томагочи.
Одиннадцать
– Его нет дома! Он на работе, в камандировки… Свои, бля, все дома сидят! Свои…
Открылась дверь, и повалились узлы, загремела гитара. Я приподнялся – советский, аккуратный и смешной чемодан, похожий на самого Димку; маленький телевизор и видеомагнитофон «Грюндиг», видеокассеты с мультиками для Димкиной работы в «Союзмультфильме», странный парфюм «DRAGON NOIR». И эта его книжка «Голый завтрак», которую я всегда видел у него в общаге.
– Анварка, так ты здесь! – Он протирал запотевшие очки и щурился.
«Здесь», – хотел сказать я, но только захрипел.
– Анварка, как здесь жить?! Сарай, ёпть! Там какие-то гамадрилы ходят! – Он испуганно засмеялся и шмыгнул носом. – Уже червончик у меня стрельнул, этот мужик, Анатоль. Я даже среагировать не успел. А-на-толь, бля!
– Да, Дим, у меня тоже.
– Сюда даже девушку приличную стыдно привести… И-ё-о, а ванну ты видел?! – Он достал пузырек и закапал в нос. – Ваа-ще говорить нэ могу.
– Пройдет, Дим.
– Пройдет, – засмеялся, захрипел носом. – Хронический гайморит, бля.
– A-а. Ну как дома, Дим?
– Нормально, Анварка, – сказал он и ушел сморкаться в шкаф слева, где уже начал развешивать свою аккуратную одежду мальчика-отличника. – Нормально, ни дня без грамма.
– Я-асно, Дим.
– Так, Анварка, может, как всегда, а? Я сейчас мясо приготовлю, а ты сходи в магазинчик… бля, Анварка, ты смешной какой-то… ты в запое, что ли?
– Да-а, есть маленько, – ноги мелко дрожали. – Что пить-то будем, Дим?
– Только не коктейли! Надоели коктейли. Вина что ли красного взять?
– Точно, Дим, мясо же все-таки.
Собирался и, казалось, что нас трое, оборачивался. Брел в магазин и смеялся по дороге, вспоминая, как Димка недовольно бурчал на кухне: «Твою мать, это тараканы, что ли?!»
Прикольный этот Димка. Твою мать, это тараканы что ли?.. И так аккуратно раскладывал зимние шерстяные трусики, платочки, полотенца, чувствуется, что мама ухаживает за ним, заботится, думает, как он там, в Москве…
– «Хванчкару», пожалуйста, вон, та, которая за тридцать.
Выгреб листовки из ящика. Еще на лестнице я услышал музыку.
«Опять Меладзе слушает, прикольный этот Димка!»
– Дим, я «Хванчкару» взял.
– Ты знаешь, что Хванчкара – это маленькая деревня в Грузии, и у них маленький виноградник, а здесь в Москве это вино разливают тоннами.
– Поддельное, значит, но оно вкусное, Дим, я пил.
– А, действительно, какая нам хрен разница?
– Дим, вот все-таки, как ты так вкусно готовишь суп, а?
– Да, Анварка, – засмеялся он, подняв голову с гладко зачесанными назад волосами, блестя круглыми очками. – Крошу все подряд туда.
– Ты повар настоящий, на самом деле.
«Она была актрисою и даже за кулисами играла роль, а зрителем был я, – пел Меладзе. – В душе ее таинственной скрывались ложь и истина, актрисы непростого ремесла».
– У нас сегодня какой-то вечер достижений Грузинской культуры, Дим.
– Что ты говоришь? Ага, вкусное, на самом деле, наливай, – сказал он. – Буду знать теперь. «Хванчкара».
«Красота актрисы так обманчива и влечет напрасными надеждами. Ничего слова ее не значили, и в душе моей все по-прежнему».
– Зачем ты это слушаешь, он что, нравится тебе, Дим?
– Знаешь, Анвар, – сказал он, жмурясь за очками. – Ведь он это про меня поет, про мою бывшую жену. Вот все точно так и было: она тоже была актрисой, играла роль даже в нашей жизни, а сама изменяла мне, а я верил ей.
– Да, Дим, извини.
– Стоял уже за кулисами нашей жизни, а все верил ей. Правду говорят, что про свою жену узнаешь самым последним. Смешно и очень верно, это так. Тупо, смешно и верно.
– А она кто у тебя была по гороскопу?
– Телец.
– Ну-у, Дим, Телец не подходит Деве.
– А все говорят, что подходит. Все гороскопы, которые я читал. Есть счастливые союзы, Анварка.
– Точно, все говорят, но на самом деле абсолютно не подходит, точно тебе говорю, Дим!
– В этот раз с дочкой встречался, – сказал он. – Гуляли с ней так долго, потом отводил ее домой. И знаешь, Анварка, я задумался о чем-то и долго-долго так шел в своих мыслях, а потом вдруг как-то почувствовал ее ручку в своей руке и вспомнил про неё, что я с дочкой иду, испугался даже. И знаешь, Анварка, она тоже притихла и тихо шла, только искоса посматривала на меня, она поняла, что с папой что-то происходит, и она переживала за меня, ей тоже стало больно, как и мне, ведь мы с ней родные, связанные, а ведь она еще такая маленькая…
Он вдруг увидел, что я смотрю на его руки, на эти его большие шрамы, похожие на кривые улыбки, и я уже не мог спрятать взгляд.
– Слушай, Дим, у тебя руки такие волосатые! У тебя грузин каких-нибудь не было в роду?
– Нет, Анварка, мама говорит, что прибалты были.
– A-а… А что за книжка «Голый завтрак»?
– Не знаю, не читал.
– Я ее у тебя всегда вижу.
– А хрен знает, зачем-то таскаю с собой.
– Да, бывает такое. А ты, знаешь, Дим, как в Москве журналы издаются? Восемьдесят процентов картинок, Дим, сканируются из старых западных журналов. Мы тоже сканируем. Пиздим, короче говоря.
– Я знаю. И в музыке так же.
– Дим, знаешь, что я ненавижу больше всего?
– Что, Анварка?
– Я ненавижу пословицу: если ты такой умный, почему такой бедный?
– И я, я тоже ее ненавижу. Ван Гог был тупой.
– Дим, а как твое имя будет по-американски?
– Не знаю, ну, допустим, Джон, а что?
– А мое?
– Анджей, нет, это польское… Анди… Энди, вот как ты будешь по-американски. А что?
– Я понял, Джон, – сказал я с ленивым пренебрежением. – Ты – неудачник!
Димка закурил.
– Вот что я тебе скажу, Энди. Ты, бля, тоже неудачник, Энди.
– Как это нелепо, говорить кому-то, что он неудачник.
– Энди?
– Ну что, Джон?
– Я знаю, что у тебя есть шампанское!
– Ты видел, что ли, уже?
– Я что угадал, что ли?!
– Точно есть.
– А потому что, Анварка, у тебя всегда есть шампанское заныканное.
Я достал шампанское. Он веселился, как ребенок.
– Вот блядь, Энди, это мясо горит!
– А что, еще и мясо есть?
– Не знаю, не знаю, по-моему, уже нет. Блин, но какой-же все-таки проигрыш на саксофоне хороший – па-ба-рай-ба-пай… па-ба-рай-ба-пай… вспомнил сейчас… ани были так-сис-ты… па-ба-рай-ба-пай…
– Дим, а прикинь… дым, бля, какой… а прикинь, у нашего Юрия Владимировича пальцы короткие и когда он здоровается, такое чувство, будто у него пальцы отрублены на половину.
– А это кто?
– Да так, есть там один. Дим, я же здесь бабу недавно трахал.
– Да ты что? – посерьезнел так, замер.
– Да, в возрасте уже, Надежда. Познакомились по телефону, она номером ошиблась… У нее, Дим, видать так давно никого не было, что она смотрела на меня, вылупив глаза. И вот я это, вхожу в нее, короче, а она такая: ой, мама, я вхожу, а она: ой, мама, ой, мама, ой, мама… ей лет сорок уже, а она – ой, мама. Я как расслышал, мне так смешно стало, а она: ой, мама, ой, мама, я терпел, а потом тоже говорю: ой, папа, ой, папа. И вдвоем с ней, она: ой, мама, я – ой, папа, о-о-х мама, о-о-х, папа, ой, мама, ой, папа, причем оба серьезно так, главное, что серьезно.
Димка заржал.
– Как-как ты говоришь?
– Ой, мама, а я – ой, папа, ой, мама, ой, папа.
Делал что-то с мясом и все повторял: ой, мама, ой, папа, и хохотал.
– Надежда умирает последней, а я ее законный наследник, – пропел я.
– Анварка, а может нам девчонок каких-нибудь снять?
– Давай, Дим, здесь поблизости, да?
Мы быстро оделись и вышли. Как только появлялись девчонки, весь наш запал пропадал. Я надеялся на Димку, а он на меня. Когда они появлялись, Димка становился серьезным и равнодушным и как будто бы совсем не пьяным. Так и стояли на остановке, два идиота.
– Дим, а ты знаешь, что если в Германии мороз чуть выше десяти градусов, то там жизнь замирает?
– А в Индии, Анварка, минус два – уже со смертельным исходом…
– Я понял, Дим, у нас не получится, мы не созданы для этой роли.
– Я вот тоже думаю.
– Это надо Гарника.
– Да.
– Или Германа.
– А нам, на самом деле, не это интересно, неудачник Джон.
– Но хочется же, неудачник Энди.
Дошли до светофора, подождали зеленый и не стали переходить. Снег. Тетка с догом. Мусорный бак с выломанной балконной дверью.
– Дим, скажи, а правда дог похож на гомосексуалиста?
Он смотрел и хмыкал.
– Да, точно, что-то есть такое… Ну что, так и будем идти?
– Дальше и дальше, – сказал я, и мы оба остановились.
– Может, педику Кириллу позвонить? – засмеялся он.
– А ты что знаешь про него? – я тоже засмеялся.
– Мне Артемий Финецкий говорил, да про него все знают, он сам бегает и всем рассказывает, что стал педиком. Он, конечно, приедет, если ему позвонить.
– Да уж, Дим.
– А Гарникян чем занимается?
– Слоган для Билайн хочет придумать.
– A-а… Может водки выпить?
– Коктейли не надо, коктейли не надо! Если водки выпьем, Дим, у нас такой коктейль внутри будет, Северное сияние, бля!
– Надо выпить, а то насморк замучил.
Купили водки. Смотрели на девчонок. Прошли мимо этой жалкой, занесенной снегом по самую крышу, «Волги».
– Так бы и сказал, Дим, что водки хочешь, а то – девчонок снять, мы не созданы для этой роли.
– Я вот сам не люблю в себе это, нерешительный, бля.
– И я тоже, Дим.
– Поэтому мы и оказались здесь. Сейчас позвоню Кириллу и скажу: педик-неудачник Кирилл, дело есть, короче, смазывай задницу и к нам, – он захохотал.
– Поэтому, Дим, мы здесь, а Гарник и Герман с женами. А мы здесь с водкой… – рот мой вдруг наполнился ее губами, и я услышал синтетически свежий запах жвачки… – забыл тебе рассказать, мы после Нового года с Германом проститутку сняли.
– Ой, мама, блин, я пропустил. Ой, папа, бля.
– Хорошая, только она какая-то сонная была, и Герман ее все время будил, мол, работать, матушка, работать.
– Это он так говорил?!
– Но! Работать, матушка, работать, а она спит.
– Ой, мама, бля, работать, матушка, работать?! – Димка захохотал.
– Давай, Анварка, по капельке.
Мы выпили. Я выпил только потому, что Димка хотел.
– А я вот, Анварка, смотрю на эту губку для обуви и думаю, как просто все сделано. Но почему это китайцы придумали, а не я. Так хочется что-нибудь придумать нужное всем.
– И мне.
– Может, нам тоже проститутку снять?
– Денег нет, Дим.
– Блин, и у меня нет, работа есть сделанная, а денег нет. А может, нам по объявлению проститутку вызвать?
– Ни одной газеты нет у них, мы уже искали с Германом.
– Вот, блин! А вот как можно без газет жить?! Это же дешевле, если по газете искать.
– Дешевле.
– Неудачнику педику Кириллу, что ли, позвонить? – снова сказал он и засмеялся. – Как странно, Анварка! Так странно, что в этом огромном городе, мегаполисе, очень много одиноких девушек, девушек уставших без любви, и мне хочется подойти к ним и раскрыть свою грудь, и сказать – посмотри, какая у меня душа, зачем тебе «мерседесы» и счета в иностранных банках?! Ты знаешь, какой кроется внутри меня мир и какое счастье я могу тебе подарить! А они ищут совсем другое, обманываются, их используют, и все равно, бля…
– Нет, Дим, такое поколение женщин вымерло. Вымерло, как класс. Декабристок больше нет.
– И наверное, сотни, сотни тысяч из них в данный момент мастурбируют и мечтают о мачосах, а мы не можем никого найти. Я прямо чувствую их, слышу, как они стонут, и умоляют нас прийти. А мы ищем проституток.
– О-о, Димка, о-о, Анварка, наконец-то, о боже, о-о-о…
– Ой, мама, бля.
– Ой, папа.
– Говорят, в Японии наносят такие штрих коды на плечо, девушки, парни на дискотеках, и у всех считывающие устройства. Считываешь, а там написано: «хочу трахаться» или – «не прочь».
Я засмеялся и понял, что пьян, тяжело и устало пьян. А потом смотрел телевизор с выключенным звуком. А Димка что-то искал и все двигал меня.
– Где же он может быть?
– Дим, ты чего ищешь-то?
– Ключ ищу.
– А-а.
Он уходил, приходил и снова двигал меня.
– А что за ключ-то?
– Старинный такой, длинный должен быть ключ, резной.
– А-а.
– Не видел?
– Нет, какой ключ-то, Дим?
Он налил себе, немного налил мне и выпил.
– Анварка, там, в глубине моего шкафа какая-то дверь в стене, и прорезь для вот такого ключа.
– Ни фига себе, а я не видел.
– Странная дверь, эти гамадрилы ничего тебе не говорили про нее?
– Нет.
– А Вова, тоже ничего? Странно, я вот думаю, что же там такое, что за нею, дверь-то старинная?
Я почти весь влез в этот встроенный шкаф, но только стена, шероховатая гладь обоев.
– Где, здесь, что ли, Дим? Или сбоку? Штаны твои мне на голову…
Он сидел с гитарой, курил разноцветную сигаретку и спокойно смотрел на меня.
– Нет?
– Нет, конечно, Дим!
– А я думал, что, может, ты ее увидишь.
– Я-асно, Димон.
– Так грустно, Анварка, всегда ищу потайную дверь, а нигде нет. Почему нет потайной двери?
Я тоже закурил его необычную сигаретку.
– Дим, удивительно, где ты такие сигареты цветные находишь?
– Да-а, Анварка, так хочется, чтобы в этой хрущобе была хоть одна потайная дверь, – он засмеялся и замолчал, уткнувшись в гитару. Почесал струны где-то у себя сбоку. – Мимо белого яблока луны, мимо красного яблока заката, облака из неведомой страны все плывут и плывут, плывут куда-то. Облака-а, белогривые лошадки, облака, куда вы мчитесь без оглядки? Не смотрите вы, пожалуйста, свысока-а, а по небу прокатите-ка вы меня…
Меня так поразило это его пение, тихий гитарный фон, я затаил дыхание и боялся пошевелиться. Я вдруг почувствовал, что такого не услышу больше никогда в жизни.




