В царской ставке Бубнов Александр
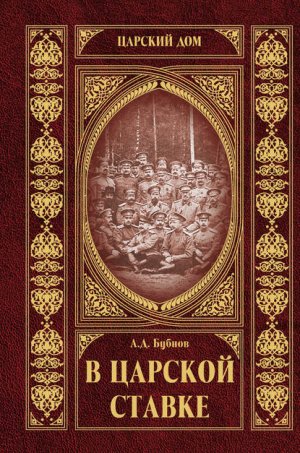
Государь, по правую руку которого сидел генерал Н.И. Иванов, был бледнее обыкновенного и ни с кем не разговаривал. После завтрака он сейчас же ушел к себе в кабинет в сопровождении генерала Иванова. Серкля не было.
Когда я спускался по лестнице, меня догнал дворцовый комендант генерал Воейков, который, как обычно, выглядел самоуверенно и самодовольно. Тут же на лестнице он мне задал вопрос: «Можем ли мы гарантировать безопасность царской семьи в Ливадии?» Дело в том, что в связи с событиями в Петрограде, по совету Воейкова, возникло намерение перевезти царскую семью из Царского Села в Крым, если состояние заболевших корью царских детей это позволит; Ливадийский же дворец находился на самом берегу Черного моря, и вопрос Воейкова относился к безопасности от неприятельского обстрела со стороны моря.
На это я ему ответил, что за безопасность от врага внешнего мы ручаемся, но за безопасность от врага внутреннего – нет. На это Воейков небрежно махнул рукой и ответил: «Пустяки – с этим мы справимся».
Вернувшись к себе в управление, я застал в кабинете сильно взволнованных Н.А. Базили и С.Н. Ладыженского, которые, зная что морское управление соединено прямым проводом с Главным Адмиралтейством, где находился главнокомандующий Петрограда генерал Хабалов, пришли узнать о положении.
Вскоре пришел к нам, после разговора с Государем, и генерал Н.И. Иванов с целью вступить в связь с генералом Хабаловым.
От генерала Иванова мы узнали, что Государь повелел ему, с георгиевским батальоном охраны Ставки, немедленно отправиться в Петроград и, присоединив к себе по пути части Царскосельского гарнизона, восстановить в столице порядок. Мы буквально пришли в ужас от такого непонимания размеров происходящей катастрофы: послать этого ветхого старца с горстью, хотя бы и георгиевских солдат, против десятков тысяч вооруженных и доведенных до исступления революционеров было сущим безумием; это было равносильно попытке потушить извержение вулкана стаканом воды.
Наши общие старания убедить генерала Иванова в том, что при создавшемся в Петрограде положении необходима для водворения порядка по меньшей мере целая боевая дивизия с артиллерией и что с одним или даже несколькими батальонами его миссия неминуемо кончится катастрофой – не имели успеха: он отмалчивался, и видно было, что он был уверен, вспоминая свою роль усмирителя солдатских бунтов в Сибири, после войны с Японией, что и на этот раз ему удастся стяжать себе в глазах Государя славу спасителя отечества.
Войти в связь с генералом Хабаловым ему не удалось, ибо прямой провод оказался прерванным, да и само командование генерала Хабалова было уже в это время ликвидировано.
Дальнейшее известно: выехав в тот же вечер из Ставки с георгиевским батальоном, он был остановлен в Царском Селе перешедшим на сторону революции царскосельским гарнизоном, а георгиевский батальон разоружен.
Опасаясь за свою семью, Государь 28 февраля выехал из Ставки в Царское Село.
Многие ставят ему в вину, что в такой критический момент жизни государства в нем взяли верх чувства любвеобильного семьянина над чувством монаршего долга, которое требовало от него оставаться в Ставке для личного руководства борьбой с революцией, тем более что, покидая Ставку он оставлял верховное командование в руках тяжело больного, морально подавленного генерала Алексеева; кроме того, отправляясь в Царское Село, он сам подвергался опасности захвата революционерами.
Но нельзя закрывать глаза на то, что, если бы революционеры захватили в Царском Селе всю царскую семью с царицей и наследником и обратили бы их в своих заложников, Государь, оставаясь в Ставке, неминуемо бы так же покорился их требованиям, как если бы фактически был у них в плену.
К тому же зная, какое ненормальное положение было в верховном командовании, где всё было в руках начальника Штаба, можно с уверенностью сказать, что, останься Государь в Ставке, ход событий от этого бы не изменился.
Правильнее было бы заблаговременно перевезти, хотя бы на автомобилях, царскую семью из Царского Села в Ставку; но как раз в это время все царские дети лежали больные корью, а события развивались с такой быстротой, что просто не хватило времени, чтобы, убедившись в безвыходности положения, привести немедленно в исполнение эту меру, сознательно при этом рискуя успешностью лечения детей.
В этот критический час злой рок тяготел над Государем: больные дети вдали в объятиях революции и тяжело больной генерал Алексеев в Ставке; и нельзя поставить ему в вину, что общечеловеческое чувство неудержимо повлекло его к находящейся в такой страшной опасности семье.
Когда царский поезд покидал Ставку, в Петрограде больше не существовало никакой царской правительственной власти и столица была уже полностью во власти революционеров; министры были арестованы, а из членов Государственной Думы было образовано Временное Правительство, первой задачей которого было не пропустить царя и эшелона с войсками в район Петрограда. Для этого был образован в Петрограде всероссийский исполнительный комитет железных дорог, – знаменитый ВИКЖЕЛЬ, сыгравший столь решающую роль в успехе революции, которому немедленно и безоговорочно подчинились все железные дороги Петроградского узла; первый акт этого комитета был: остановить движение царского поезда к Царскому Селу, гарнизон которого, состоявший из наиболее преданных Государю гвардейских частей, еще не весь перешел на сторону революции.
Не доезжая 200 километров до Царского Села, царский поезд был остановлен на станции Дно, и все попытки его дойти до Царского Села окольными путями оказались тщетными.
Кто поймет глубину той трагедии, которую должен был в эту минуту переживать в своей душе считавший себя за час перед тем всемогущим Монарх, лишенный теперь возможности прийти на помощь своей находящейся в смертельной опасности семье!?
Потеряв надежду достигнуть Царского Села, Государь направился в ближайший к Царскому Селу Псков, где находилась штаб-квартира главнокомандующего Северо-Западным фронтом генерала Рузского.
Этот болезненный, слабовольный и всегда мрачно настроенный генерал нарисовал Государю самую безотрадную картину положения в столице и выразил опасение за дух войск своего фронта по причине его близости к охваченной революцией столице.
Правда, в дальнейшем ходе революции оказалось, что чем ближе были войсковые части от революционного центра в столице, тем хуже был их дух и дисциплина; но во всяком случае 1 марта войска Северо-Западного фронта далеко еще не были в таком состоянии, чтобы нельзя было бы сформировать из них вполне надежную крупную боевую часть, если и не для завладения столицей, то хотя бы для занятия Царского Села и вывоза царской семьи.
Но у генерала Рузского воля, как и у большинства высших начальников, была подавлена и опустились руки под влиянием пагубной для России политики престола, и от него нельзя было ожидать энергичных и решительных мероприятий для борьбы с революцией, тем более что вскоре по прибытии Государя в Псков было получено требование Временного правительства об его отречении от престола во имя спасения России и безопасности царской семьи.
Нельзя при этом забывать, что всякое насильственное мероприятие против столицы действительно отразилось бы на положении царской семьи в Царском Селе, тем более что Временное правительство и без того уже не могло справиться с разбушевавшейся чернью. Поэтому Государь и сам бы на насильственные меры против столицы не согласился. На этот риск мог бы, во имя спасения России, пойти один лишь Петр Великий.
Прежде чем решиться на отречение, которое ему советовал и генерал Рузский, Государь, через посредство Ставки, запросил мнение об этом всех остальных главнокомандующих фронтами.
И тут-то он впервые измерил всю глубину той пропасти, которую своим упорным отказом пойти навстречу справедливым желаниям и мольбам страны сам создал между собой и ею: все главнокомандующие, не исключая великого князя Николая Николаевича, ответили, что во имя спасения отечества считают необходимым его отречение, а, передавая эти их ответы Государю в Псков, к ним присоединился и его начальник Штаба генерал Алексеев.
Отвергнутый страной, покинутый армией, которую он так любил, отчужденный от своей семьи, император Николай II остался один – не на кого ему было больше опереться, не на что ему было больше надеяться – и он, во имя блага России, отказался от престола.
Ту же горькую чашу испил 100 с лишком лет назад Наполеон, когда он, упорно не желая пойти навстречу требованиям страны, жаждавшей мира и конца кровопролитных войн, был покинут своими маршалами и принужден отречься от престола.
Подписав 2 марта акт отречения, Государь отправился в Ставку, где должен был ожидать прибытия депутатов Временного правительства, которые будут его сопровождать в заточение в Царское Село к его семье.
Развивавшиеся с невероятной быстротой фатальные события нам в Ставке просто не дали времени прийти в себя: кружилась голова, точно почва уходила под ногами; будущее мнилось чреватым страшными последствиями и никому не было легко на душе.
Рано туманным утром 3 марта, идя в управление генерал-квартирмейстера, я столкнулся в воротах сквера губернаторского дома с каким-то выходящим оттуда человеком в штатском пальто и нахлобученной на глаза барашковой шапке; со страхом озираясь кругом, он спросил меня: «Правда меня так не узнают?» То был Воейков, который четыре дня перед тем с высоты своего величия нагло смотрел на ход грозных событий, а теперь, перепуганный, бежал первый, покидая облагодетельствовавшего его Государя.
И в то же время также один за другим покидали в Царском Селе царскую семью близкие к ней и облагодетельствованные ею люди. Мало, очень мало, кто остался ей верен, ибо редко кому в этом печальном мире свойственно душевное благородство и неизмерима глубина человеческой низости.
Вечером 7 марта мы в управлениях Штаба получили следующий, потрясающий, если в него вдуматься, циркуляр: «Бывший Верховный Главнокомандующий простится завтра в 11 часов утра в управлении дежурного генерала с желающими чинами Штаба».
К 11 часам утра в большом зале управления дежурного генерала собрались почти все чины Штаба и Ставки; мало кто имел низость не прийти. Зал был переполнен и в середине оставалось лишь малое свободное пространство. Царила мертвая тишина; все были подавлены величием несчастья, последний акт которого должен был тут свершиться.
Ровно в 11 часов послышались ответы казаков царского конвоя, стоявших на лестнице, с которыми в последний раз здоровался Государь.
В дверях, при входе Государя в зал, два молодых офицера конвоя упали в обморок.
Государь вошел в свободное пространство зала один; он был страшно бледен и несколько мгновений не мог начать говорить; справившись со своим волнением, он тихо, но ясно, сказал: «Для блага любимой мною родины я отрекся от престола; прошу вас служить так же верно России и Временному Правительству, как служили при мне… прощайте…» Спазма сдавила горло, и он поднес к нему руку. Со всех сторон раздались рыдания. Государь повернулся, пожал некоторым из ближе стоявших руки и, сокрушенный, с поникшей головой, ушел.
Кончился многовековый период русской истории, во время которого Романовы создали Великую Русскую Империю; и в этот до гроба незабываемый час все мы поняли безмерную глубину горя последнего из них, невольно способствовавшего гибели любимой им России, ибо над ним тяготел неумолимый рок: этого, в душе мягкого, любвеобильного семьянина судьба не наградила свойствами, необходимыми для управления великой страной, бремя коего пало на его слабые и неподготовленные к тому плечи; глубоко верующий, он всеми силами ревниво охранял – по его глубокому убеждению, – самим Богом данную ему власть, и искренно думал, что именно в этом и зиждется благо любимой им России, ибо не умел думать иначе… и за это, после безмерных унижений, перенесенных с истинно святым смирением, приял мученический венец.
Теперь тут и возникает тревожный вопрос: сделало ли верховное командование в лице генерала Алексеева и его сотрудников всё, что было необходимо и возможно для предотвращения катастрофы, которая принесла России столько бедствий и страданий, а всему человечеству столько лишений и тревог за будущее?
Для правильного и объективного ответа на этот вопрос нужно прежде всего иметь в виду, что события революционного движения развивались с необыкновенной, можно сказать, молниеносной быстротой.
Такому быстрому развитию этих событий и успеху революции, без сомнения, не столько способствовало утомление войной, сколько крайнее негодование политикой престола и правительства народных масс, видевших только в революции выход из созданного этой политикой безнадежного положения.
Конечно, с того момента как революцией было окончательно сломлено в столице сопротивление органов правительственной власти, а особенно с того момента, как железные дороги подчинились революционному комитету Викжеля, против столицы, принимая во внимание пребывание царской семьи в Царском Селе, ничего предпринять было уже невозможно. Это и показала неудавшаяся попытка генерала Иванова с георгиевскими батальонами.
Можно, быть может, было бы еще спасти положение принятием энергичных и обширных мер в самые первые дни революционного движения, то есть 25 и 26 февраля. Но для этого верховное командование и главнокомандование Северо-Западным фронтом должно было быть в руках прозорливых, смелых и решительных боевых начальников, каковыми ни генерал Алексеев, ни тем более генерал Рузский не были; к тому же генерал Алексеев как раз в этот критический момент был тяжело болен. Кроме того, петроградские власти в эти первые дни революции посылали в Ставку успокоительные донесения и заверения, что с этим движением справятся собственными силами.
В той обстановке, в какой началась и развивалась революция, ее остановить было невозможно. Ее мог бы, быть может, остановить великий князь Николаи Николаевич, останься он во главе верховного командования; но при нем революция, наверно, и не началась бы.
Остается, значит, во всей своей широте чреватый великой ответственностью вопрос: почему же не были своевременно предприняты меры для предотвращения начала революционного движения в столице и, в случае необходимости, для успешной борьбы с ним.
Верховное командование, даже при поверхностном знании истории, должно было отдавать себе отчет в том, что революционные движения во время войны не редкое вообще явление и что они всегда начинаются именно в столицах. Поэтому во время войны всегда должны предприниматься самые обширные и надежные меры для обеспечения порядка в столице.
Особенно же это было необходимо, когда всем нам и, конечно, верховному командованию стало ясно, что направление нашей внутренней политики способствует развитию революционного настроения в народных массах.
По закону на верховном командовании лежит долг принять все меры для успешного исхода войны. Революционное движение неминуемо должно было бы иметь отрицательное влияние на этот исход; этого, конечно, верховное командование не могло не знать. Поэтому, раз оно не было в состоянии изменить пагубное направление нашей политики, его прямой долг был, никак не поддаваясь каким-либо чувствам и политическим соображениям неукоснительно принять со своей стороны самые решительные и продуманные меры для обеспечения порядка в столице. Это ему повелевал его долг.
Как же оно этот свой долг исполнило?
Верховное командование, несомненно, знало о нарастании революционного настроения в столице. Об этом его постоянно осведомляли тревожные донесения охранного отделения, в которых прямо говорилось о том, что близится революция.
Правда, министр внутренних дел Протопопов уверял верховное командование, что он с одной лишь столичной полицией и жандармерией справится со всякими беспорядками, но генерал Алексеев, зная, как и мы все, оппортунизм, неуравновешенность и крайнюю ретроградность взглядов Протопопова, ни в коем случае не смел положиться на его заверения и именно потому, что высшая гражданская власть в столице была в руках этого полусумасшедшего и всеми ненавидимого человека, должен был со своей стороны принять особо сугубые меры для обеспечения порядка в столице.
О том, что генерал Алексеев это сознавал, видно из того, что незадолго до начала революции столица и прилегающий к ней район были выделены в особую область, во главе которой был поставлен главноначальствующий генерал.
На эту, особо ответственную в данных серьезных обстоятельствах, должность был, однако, назначен никому не известный и ничем себя не зарекомендовавший заурядный генерал Хабалов, который, не отдавая себе отчета в положении, вероятно, из карьерных соображений, не решался докучать Ставке какими-либо своими требованиями и довольствовался тем, что имел.
Между тем подведомственный ему гарнизон столицы состоял лишь из запасных батальонов гвардейских полков, казачьего второочередного полка и нескольких сот юнкеров и курсантов разных военных училищ и курсов.
В 1916 году запасные батальоны были укомплектованы главным образом солдатами старых сроков службы, семейными, давно уже потерявшими понятие о воинской дисциплине, и сами были чрезвычайно благоприятным «материалом» для возбуждения, а никак не для усмирения беспорядков; при этом почти все, к тому же совершенно недостаточные числом, офицеры этих батальонов, призванные также из запаса, принадлежали к радикально, и даже революционно, настроенным слоям русского общества; они именно и увлекли в критический момент запасные батальоны на сторону революции и тем обеспечили ей успех.
Во второочередных казачьих частях положение было немногим лучше.
Таким образом, в распоряжении генерала Хабалова для подкрепления, в случае надобности, столичной полиции не было никаких других надежных боевых частей, кроме нескольких сот юнкеров и курсантов.
Как же случилось, что верховное командование не озаботилось назначить в состав гарнизона столь жизненно важного центра для успешного хода войны, каковым была столица, достаточное число надежных кадровых войсковых частей?
Нам в Ставке было известно, что Государь высказывал генералу Алексееву пожелание об усилении Петроградского гарнизона войсковыми частями из гвардейского корпуса, бывшего на фронте; но, как всегда, раз вверив генералу Алексееву верховное оперативное руководство, Государь не считал возможным на этом своем правильном пожелании настаивать; однако на этом энергично настаивал командир гвардейского корпуса генерал Безобразов во время одного из своих приездов в Ставку, незадолго до начала революции.
Всё же генерал Алексеев не принял это требование во внимание, ссылаясь на успокоительные заверения петроградских властей и на то, что в Петрограде все казармы заняты запасными батальонами, так что негде будет разместить, особенно в зимнее время, войсковые части, посылаемые с фронта для усиления гарнизона столицы.
Ссылка на переполненные казармы, когда шла речь о столь важном вопросе, как усиление столичного гарнизона, не может рассматриваться иначе, как совершенно несостоятельная отговорка. Мало ли было в Петрограде разных других помещений, кроме казарм, в которых могли бы быть помещены войска, посланные с фронта; да, наконец, можно было бы, если бы это понадобилось, произвести некоторые «уплотнения» населения, которое до сих пор ни в какой еще мере не испытывало на себе неудобства войны.
Какова же была действительная причина такой непредусмотрительности и необдуманности генерала Алексеева в столь важном вопросе усиления гарнизона столицы?
Вдумайся он в этот вопрос и «болей за него душой», он не мог бы не озаботиться ненадежностью запасных батальонов и недостаточностью заверений такого человека, каким был Протопопов.
Почему же он не вывел из этого неоспоримо напрашивавшихся заключений и не принял соответствующих мер?
Возможно, что направлением нашей внутренней политики воля генерала Алексеева не была в такой степени подавлена; но, несомненно, он с отвращением относился ко всем вопросам, связанным с внутренней политикой, и предпочитал искать решений в «чистой» сфере знакомого ему дела – на фронте.
Генерал Алексеев уже давно подготовлял, как мы знаем, к весне 1917 года прорыв неприятельского фронта, который должен был бы принести нам окончательную победу. Он лично разработал во всех деталях план этого прорыва и назначил всякой войсковой части ее место и задачу в этой операции, так что всякая войсковая часть была у него на счету. Особенно же важную и ответственную роль должна была сыграть в этой операции гвардия, которая именно для этого и была сосредоточена в соответствующем районе Юго-Западного фронта, далеко от столицы.
Прорыв этот должен был начаться в марте, как только будет благоприятная погода, и генерал Алексеев ревниво охранял всякую войсковую часть, которая должна была в нем участвовать, руководствуясь при этом теми же соображениями, какими он руководствовался при отказе дать войска для Босфорской операции, питая надежду, что мы достигнем победы раньше, чем вспыхнет революция.
Конечно, если бы его надежды оправдались, он был бы вознесен историей на степень гениального полководца, которая, однако, его дарованиям не соответствовала. Ибо гениальным делает полководца способность предусматривать всё, что может помешать исполнению его замысла.
То, что генерал Алексеев не предусмотрел столь очевидной опасности, как революция, которая угрожала его оперативному замыслу, и не принял против этого соответствующих мер, значительно умаляет его полководческие способности и лежит на его ответственности.
Часть III
Верховное командование при Временном правительстве
Глава 1
Революционный хаос. Керенский
Несмотря на то что за годы войны, предшествовавшие революции, кадры нашей армии сильно поредели и войска, пополненные значительным числом запасных старших сроков службы, больше походили по своему характеру на милицию, нежели на регулярную армию, – что впрочем к этому времени имело место во всех воюющих государствах, – и несмотря на то, что революционная пропаганда – вопреки принятым строгим мерам, – всё же проникала на фронт, настроение войск на фронте, непосредственно перед революцией, было вполне удовлетворительно, дисциплина достаточно крепка и у командного состава не было сомнения в том, что войска мужественно и без всяких колебаний исполнят любую оперативную задачу.
Но стяжавший себе столь печальную славу «приказ № 1» Петроградского совета солдатских и рабочих депутатов, освобождавший войска от подчинения своим начальникам и в корне нарушивший самые основы воинской дисциплины, имел катастрофическое влияние на боеспособность армии. Переданный по беспроволочному телеграфу, он в один момент стал известен по всему фронту и мгновенно уничтожил в войсках дисциплину, послушность своим начальникам и сознание своего воинского долга.
В войсковых частях образовались солдатские комитеты, присвоившие себе право критики и утверждения не только административных, но и оперативных распоряжений командного состава; началось преследование солдатами офицеров, не пользовавшихся их симпатиями, каковые в некоторых случаях сопровождались насилиями и даже убийствами; быстро распространившиеся слухи о разделе помещичьих и казенных земель между крестьянами побудили солдат в массах покидать фронт, чтобы «не опоздать» к этому разделу; под влиянием злонамеренной пропаганды началось во многих местах фронта братание с противником.
Во мгновение ока развернулась во всём своем трагизме картина позорного развала военной мощи великой Империи.
Злейший враг России не мог бы придумать более действительного способа для моментального уничтожения ее военной мощи, чем тот, который придумали составители своего «приказа № 1».
При этом особо знаменательно то, что этот приказ был первым и последним – никаких других «приказов» за ним не последовало, из чего нельзя не заключить, что единственной целью его авторов было именно желание уничтожить одним ударом русскую военную силу, а это, несомненно, было им внушено врагами России и русского народа.
Позора этого изменнического деяния ничем и никогда не смоют с себя его авторы.
Дабы не задерживать процесс быстрого развала нашей армии, немецким войскам на фронте было приказано ни в коем случае не предпринимать никаких операций, а всеми силами стремиться ускорить этот развал путем братания, пропаганды о мире и даже путем подкупов.
Тут, конечно, не может не возникнуть вопрос, по каким причинам процесс распада нашей армии имел такой поистине молниеносный характер.
На это имело, конечно, большое влияние всеобщее утомление затянувшейся войной. Однако, несмотря на это, армии других, участвовавших в войне стран, хотя в них и случались вспышки неповиновения не утратили своей боеспособности, ибо эти вспышки были, как сие имело место, например, во Франции, в корне подавлены решительными мерами твердой правительственной власти.
Затем известное влияние на быстроту распада нашей вооруженной силы имело слабо выраженное в наших народных массах, а следовательно, и в войсках сознание своего патриотического долга в широком смысле этого понятия, что является следствием недостаточной степени просвещения и гражданского самосознания.
Наконец – а это, быть может, и было самое главное – не только рядовыми офицерами, но и высшими начальниками, овладел с начала революции как бы полный «паралич воли», вследствие чего командный состав в своем большинстве не проявил достаточной энергии для борьбы с революционным развалом в армии. Явление это в среде рядового офицерского состава может быть отчасти объяснено тем, что к началу революции большинство кадровых офицеров выбыло уже из строя, и их убыль была пополнена офицерами из запаса, принадлежавшими в большинстве случаев к тем слоям русского общества, которые были наиболее подвержены влияниям революционных идей и обладали значительно меньшей «воинской» стойкостью, чем кадровые офицеры. Что же касается высшего командного состава, то этот «паралич воли» перед революцией может быть объяснен единственной надеждой, что революция выведет Россию из того безнадежного состояния, в которое ее привела губительная внутренняя политика престола. Но как бы то ни было, этот всеобщий «паралич воли» наиболее ярко выражался в душевном состоянии нашей вооруженной силы в начале революции и был одной из главных причин столь быстрого процесса потери ее боеспособности.
Когда же после первых дней «революционного угара» стало ясно, к каким еще худшим последствиям, чем политика престола, приведет Россию революция, командный состав спохватился: но было поздно – остановить этот процесс распада армии было уже невозможно.
Из этого ясно видно, какое отрицательное влияние на процесс распада нашей вооруженной силы имела пагубная внутренняя политика престола, ибо она была единственным источником «паралича воли» командного состава в начале революции.
При том состоянии, в какое пришла наша вооруженная сила после прихода к власти Временного правительства, не могло быть и речи о каких бы то ни было активных боевых операциях. Вся деятельность командного состава была направлена на то, чтобы, елико возможно, задержать распад вооруженной силы и удержать солдат на фронте.
Но тут командный состав столкнулся с противодействием советов солдатских и рабочих депутатов, преодолеть которое он оказался не в состоянии. При этом командный состав не мог рассчитывать на поддержку правительства, которое само было поглощено борьбой с демагогической деятельностью Петроградского совета солдатских и рабочих депутатов и в этой борьбе постоянно вынуждено делать уступки демагогам.
При таких условиях оперативная работа верховного командования прекратилась, и вся его деятельность сосредоточилась на том, чтобы убедить Временное Правительство в необходимости поддержать командный состав в деле восстановления дисциплины в войсках и настоятельной необходимости в связи с этим ограничить демагогическую деятельность советов солдатских и рабочих депутатов.
Однако все старания верховного командования в этом направлении оказались безуспешными.
Да это было и неудивительно, ибо верховное командование потеряло после революции свой бывший авторитет. Так же как и большая часть командного состава, Ставка капитулировала перед революцией и воля ее также была парализована.
Это было отчасти следствием идеологии и умонастроений того личного состава Ставки, при котором началась революция.
Как уже было отмечено во 11-й части настоящих воспоминаний, этот личный состав, не представляя собой сплоченного единой волей и мыслью тела, не был способен вступить в борьбу с революцией, как это, несомненно, бы сделал личный состав Ставки великого князя Николая Николаевича, который решительно повел бы эту борьбу до конца, не щадя ничего.
Вместо того чтобы вступить в борьбу с революцией, личный состав Ставки надел красные банты и в процессии под предводительством начальника Штаба покорно отправился на загородное поле у Могилева для участия вместе с населением в манифестации в целях прославления торжества революции, организованной Могилевским советом солдатских и рабочих депутатов, который был образован после успеха революции неизвестно откуда взявшимся подпрапорщиком еврейского происхождения и какими-то полуинтеллигентными демагогическими «орателями».
И с той поры начался «крестный путь» Ставки. Все ходили, как потерянные; всех подавляло сознание полного бессилия и у всех кружилась голова перед открывшейся под ногами революционной бездной. Почва под ногами уходила; не на что было опереться.
В связи с провозглашенным Временным Правительством правом синдикального объединения даже в армии и флоте, чем как бы было легализировано существование советов солдатских и рабочих депутатов, в Ставке была сделана попытка образовать, по примеру Петрограда, объединение офицеров; но это объединение вскоре после своего учреждения распалось, ничего не достигнув.
Не мало также способствовало падению авторитета Ставки и то обстоятельство, что за пять месяцев существования
Временного правительства на посту Верховного Главнокомандующего сменились пять лиц: генералы Алексеев, Брусилов, Корнилов, Духонин и даже адвокат по профессии А.Ф-. Керенский.
Из этих пяти Верховных Главнокомандующих один лишь Корнилов сделал, как известно, попытку вступить в борьбу с революцией, закончившуюся неудачей и заточением его в Быхове; генерал Алексеев, обессиленный болезнью, переживал ясно на нем видимый душевный слом и, не имея сил для этой борьбы, вскоре ушел с поста Верховного Главнокомандующего; генерал Брусилов и, конечно, А.Ф. Керенский вели на посту Верховного Главнокомандующего политику революционного характера, стараясь найти этим путем недостижимый компромисс с советами солдатских и рабочих депутатов; генерал же Духонин, назначенный перед самым концом Ставки, когда процесс развала вооруженной силы был, в сущности, уже закончен, был уже бессилен что-либо сделать и был, как агнец, принесен в жертву революции.
Особенно же способствовало падению авторитета Ставки то, что она тотчас же после революции обратилась в настоящий проходной двор.
Со всех сторон нахлынули в нее многочисленные депутации и депутаты разных советов и исполнительных комитетов солдат, рабочих, матросов и крестьян, снабженные какими-то «мандатами», написанными на клочках бумаги, не поддающимися никакой проверке. Все они носились с деловым видом по улицам Могилева, не выказывая чинам Ставки ни малейшего внимания, а, наоборот, во многих случаях смотря на них враждебно, и буквально врывались к нам в управления, где бесцеремонно рассаживались, не считаясь ни с чем и предъявляя нам самые абсурдные требования и проекты, касающиеся ведения войны, и даже вмешивались в оперативные вопросы.
Малейшие знаки нетерпения с нашей стороны, а тем более нежелание их выслушивать и удовлетворять их требования, вызывали с их стороны угрозы и обвинения в контрреволюции, которые нередко служили предметом обсуждения в местном совете солдатских и рабочих депутатов.
Временами эти депутации и депутаты собирались для обмена мнений в совершенно загаженных залах верхнего этажа губернаторского дома, где раньше жил Государь, и там на этих сборищах царил тогда настоящий бедлам.
Какой бы то ни было контроль над этими людьми, вторгнувшимися в место расположения Ставки, был совершенно невозможен, и потому в этой толпе проникали в Ставку разные подозрительные аферисты, шпионы, бывшие каторжники и даже умалишенные.
Верховное командование, из опасения навлечь на Ставку подозрение в контрреволюции и сопротивлении «завоеваниям революции», не решалось воспротивиться этому нашествию и старалось путем бесконечных разъяснений и увещеваний «ублажить» эту нахлынувшую на Ставку революционную орду.
Так как оперативная работа Штаба Верховного Главнокомандующего фактически прекратилась, или вернее была беспредметна, за неспособностью, а в некоторых случаях даже за нежеланием войск выполнять оперативные задачи, то об этой работе не приходится больше и говорить, ибо она была лишена всякой цели. Штаб Верховного Главнокомандующего обратился из повелевающего органа верховного командования в «уговаривающее» и «убеждающее» учреждение, лишенное авторитета.
Для суждения же о том хаотическом состоянии, в каком протекала работа Штаба после революции, приведу лишь несколько характерных эпизодов из тех, поистине кошмарных, времен.
Вскоре после отречения Государя адмирал А.И. Русин ушел со своего поста начальника Морского Штаба Верховного Главнокомандующего и на его место был назначен вице-адмирал Максимов, прозванный во флоте, благодаря своему финскому происхождению, Пойка. Он говорил по-русски с ярко выраженным финским акцентом, отличаясь полной беспринципностью и громадным честолюбием, совершенно не отвечавшим его более чем ограниченным способностям. После убийства революционной чернью командовавшего Балтийским флотом адмирала Непенина и многих офицеров, Максимов повел на Балтийском флоте до крайности демагогическую политику, имевшую целью достичь своего избрания матросами на пост командующего флотом. Он этого и достиг ценой всяческих унижений и обратился на посту командующего флотом в послушное орудие матросских революционных комитетов, в среду которых втерлись немецкие агенты, имевшие целью совершенно разрушить боеспособность Балтийского флота и открыть этим немецкому флоту доступ к столице.
Принимая во внимание значение первостепенной важности для обороны столицы – главного центра революционной власти – сохранения боеспособности Балтийского флота, Временное Правительство, отдавая себе ясный отчет в крайней опасности и вредоносной деятельности Максимова, пришло к заключению о необходимости убрать его с поста командующего флотом; но при первой же попытке оно натолкнулось на сопротивление матросских комитетов, которые решительно выступили в защиту своего ставленника и воспротивились его смене. Тогда Временное Правительство, бессильное привести в исполнение свое решение, придумало «обойти» Максимова, сыграв на его честолюбии, и предложило ему пост начальника Морского Штаба Верховного Главнокомандующего. На это он согласился, и согласились также на это и матросские комитеты, польщенные назначением их ставленника на столь высокий пост.
Узнав о назначении Максимова, я доложил генералу Алексееву, что служить под начальством этого демагога и принимать участие в его зловредной деятельности не хочу, а потому прошу дать мне другое назначение; о том же я сообщил Морскому Генеральному Штабу в Петроград для доклада Временному Правительству. Генерал Алексеев и Морской Генеральный Штаб принялись меня уговаривать не уходить из Штаба в столь тяжелое время, где я служил с самого начала войны и был хорошо знаком с работой верховного командования, но я настаивал на своем.
Через несколько дней после этого Керенский, проездом на фронт для «уговаривания» какой-то взбунтовавшейся воинской части, остановился в Могилеве и генерал Алексеев сообщил мне, что Керенский желает меня видеть.
Тут, в его вагоне на станции, я в первый раз увидел Керенского и имел с ним деловой разговор. Он сообщил мне, что Максимову дано понять, чтобы он не вмешивался в работу Штаба, о которой он не имеет понятия, что его назначение последовало для возвеличения заслуг матросов перед революцией, назначением их избранника на этот высокий пост. Мне же Керенский предложил вести далее работу, не обращая внимания на Максимова и не приводя попросту в исполнение его распоряжений.
На этих условиях я согласился остаться в Ставке; и действительно, в течение своего кратковременного пребывания на посту начальника Морского Штаба Верховного Главнокомандующего Максимов совершенно не вмешивался в дела Штаба, и я его даже редко видел, а все доклады делал помимо него, непосредственно Верховному Главнокомандующему и отправлял распоряжения за подписью последнего.
Как только Максимов был матросами забыт, что произошло, как во всех вообще революциях, весьма быстро, он был сменен и решительно никто из избравших его матросов не подал даже голоса в защиту своего ставленника, так что его ликвидация произошла безболезненно и он исчез, «растворившись» в революционном хаосе.
После его смены Морской Штаб Верховного Главнокомандующего был преобразован в морское управление Штаба Верховного Главнокомандующего и я был назначен его начальником.
При первом знакомстве, в связи с назначением Максимова, с А.Ф. Керенским он произвел на меня впечатление человека совершенно загнанного и изнемогающего под свалившимся на него бременем власти. При наступившем революционном хаосе и бессилии правительственной власти все почему-то обращались только к нему за разрешением самых разнообразных вопросов и буквально разрывали его на части; вокруг него, где бы он ни находился, носились какие-то растерзанные типы обоих полов; всё это в революционной экзальтации галдело, ожидая от Керенского каких-то «чудес».
Произошло это потому, что Керенский, человек с высшим образованием, отдавал себе всё же ясный отчет в том, в какую пропасть устремляется Россия под давлением разбушевавшихся революционных страстей; вместе с тем, будучи представителем революционных слоев общества, он не мог не удовлетворять их стремлений к «углублению» революции; умеренные же круги общества старались его использовать для задержания процесса революционного развала, в то время как революционные круги требовали от него обратного, то есть углубления революции.
Будучи сам порожден революцией, он, конечно, не мог вступить с ней в открытую борьбу, да и не обладал для этого соответствующими данными – тут нужен был бы по меньшей мере Ришелье или Наполеон; а потому он и вертелся между революционной демагогией и стремлением спасти Россию от угрожающей ей гибели.
Таким образом, ему не оставалось ничего другого, как «лавировать» и «уговаривать», ясным примером чего служит вышеприведенный случай с назначением Максимова, который вместе с тем открывает перед нами всё бессилие власти Временного Правительства и его главы А.Ф. Керенского, стяжавшего себе меткое прозвище Главноуговаривающего.
Однажды, совершенно неожиданно, ко мне в управление пришел молодой морской офицер, бывший по службе на хорошем счету, и, мрачно на меня уставившись странным взглядом, сказал: «Я приехал сюда, чтобы объявить себя диктатором; скажите генералу Алексееву, чтобы он немедленно явился ко мне в гостиницу, где я буду писать основные законы; вас я пока решил оставить на вашем месте»… и вышел.
Было ясно, что он лишился рассудка, но непонятно было, каким образом он попал в Ставку; поэтому я навел справки по прямому проводу в Главном Морском Штабе в Петрограде, откуда мне сообщили, что этот офицер лишился рассудка под впечатлением убийств и преследований офицеров на Балтийском флоте, был помещен в психиатрическое отделение морской больницы в Петрограде, откуда убежал, и что Штаб просит препроводить его обратно в больницу в сопровождении санитаров.
Об этом было сообщено коменданту Ставки, который и распорядился о его препровождении в Петроград. В номере же гостиницы, куда он ушел после посещения моего управления, нашли несколько листов бумаги, исписанных параграфами «основных законов».
Однако этим дело не ограничилось.
Не прошло и нескольких дней, как этот же офицер неожиданно явился утром ко мне на квартиру, когда я был в своем управлении, и заявил моей жене, что приехал, чтобы меня убить. Моя жена не растерялась и, осторожно предупредив меня по телефону, сказала ему, что я вернусь домой лишь поздно вечером. Он не стал ждать и ушел.
Между тем контрразведывательное отделение Ставки, которое было мною об этом уведомлено, установило за ним наблюдение, причем оказалось, что его сопровождает какой-то человек, приметы коего совпадали с приметами разыскиваемого контрразведкой немецкого шпиона. Сразу же возникло подозрение, что этот сомнительный человек хочет использовать лишившегося рассудка офицера для каких-то своих целей. Этот сомнительный человек ожидал его на улице, пока он был у меня в квартире, и после они оба направились к губернаторскому дому, где жил генерал Алексеев, но по дороге завернули в ресторан, где лишившийся рассудка офицер начал буйствовать, разбивать обстановку и произносить бессвязные речи. Когда потерявшие след агенты контрразведки нашли его в ресторане, сопровождавший его сомнительный тип уже бесследно исчез.
Впоследствии к этому несчастному офицеру вернулся рассудок, и он нормально продолжал свою жизнь.
Этот случай показывает, до какой степени тяжело влияли на психику офицерского состава страшные на него гонения в начале революции, и как повсюду ослабело исполнение служебных обязанностей, раз психически больной мог дважды беспрепятственно убежать из больницы, а также показывает, в каких тяжелых, подчас даже опасных, условиях протекала наша работа в Ставке.
Подтверждением того же служит нижеследующий случай.
9 июля меня вызывал к прямому проводу адмирал М.И. Смирнов, бывший тогда начальником штаба Черноморского флота, для чрезвычайно важного и срочного разговора.
Аппараты «Бодо» прямых проводов, связывающие Ставку с фронтами и Петроградом, находились в Могилевской почтово-телеграфной конторе. Разговор происходил следующим образом: собеседники, находившиеся у аппаратов на обоих концах прямого провода, диктовали разговор телеграфисту, который отстукивал его буквами на ленте аппарата и, конечно, точно знал содержание разговора.
М.И. Смирнов сказал мне, что матросские комитеты вынесли постановление отнять у офицеров их ручное оружие и явились к адмиралу Колчаку с требованием, чтобы он отдал им свою золотую саблю, полученную им за храбрость в Порт-
Артуре во время войны с Японией. Колчак этому решительно воспротивился и выступил против них с горячей патриотической речью, не достигнув, однако, цели. Так как матросы продолжали в грубой форме настаивать на своем, М.И. Смирнов, опасаясь гнева адмирала и возможных в связи с этим катастрофических последствий, считал единственным выходом из положения немедленный вызов адмирала Колчака в Ставку.
Керенский, от которого этот вызов зависел, находился в это время в Петрограде, и я сказал Смирнову, что сейчас же передам ему об этом, а сам перешел к рядом стоявшему аппарату «Бодо» прямого провода с Зимним дворцом в Петрограде, где жил Керенский и происходили заседания правительства.
Керенского в Зимнем дворце, однако, не оказалось и никто не знал, куда он уехал. Между тем М.И. Смирнов вновь сообщил, что адмирал Колчак, после вторичного требования матросов, выбросил свое золотое оружие за борт, не желая его отдавать матросам, и что настроение матросов стало настолько угрожающим, что в любой момент может наступить катастрофа, а потому необходимо вызвать адмирала из Севастополя, не теряя ни минуты.
Тогда я решил, не ожидая ответа от Керенского, послать этот вызов за его подписью.
Тут у меня возникло сомнение, захочет ли передать вызов телеграфист, который ведь знал, что согласие на него не получено еще от Керенского, и который мог поэтому счесть этот вызов «контрреволюционным» деянием с моей стороны.
Раньше, до революции, такой вопрос не мог бы и возникнуть, ибо, конечно, телеграфист не посмел бы не выполнить приказания начальника одного из управлений штаба; но теперь приходилось считаться с его «воззрениями», тем более что именно телеграфисты, фельдшера, приказчики и тому подобные полуинтеллигенты составляли главный контингент советов солдатских и рабочих депутатов и всевозможных исполнительных комитетов.
Однако всё обошлось благополучно: вызов был передан, и матросская толпа убралась с флагманского корабля, а через несколько часов в Севастополе был получен вызов, за подписью Временного правительства, адмирала Колчака в Петроград, куда он в тот же вечер и выехал, чтобы в Севастополь больше не возвращаться.
После его ухода с поста командующего флотом мы потеряли господство на Черном море, и неприятельские суда, которые за всё время его командования ни разу не появлялись на Черном море, начали беспрепятственно на нем плавать и оперировать.
После того как немецкое командование убедилось в том, что наша армия потеряла свою боеспособность, началась ранней весной массовая перевозка немецких войск с нашего фронта на Запад, где подготовлялось генеральное наступление против наших союзников.
Крайне встревоженные этим, наши союзники требовали от Временного правительства через посредство своих социалистов, участников, так же, как и наши социалисты, II интернационала, немедленного принятия решительных мер, чтобы остановить переброску немецких войск на Запад.
Керенский, глава наших социалистов, не намеревался – надо отдать ему справедливость – уклониться от исполнения нами наших союзных обязательств и, стремясь елико возможно охранить честь России, хотел удовлетворить требования союзников.
Поэтому было решено предпринять издавна уже подготовленный прорыв на Юго-Западном фронте.
Керенский несколько раз ездил на тот участок фронта, где должен был быть этот прорыв осуществлен, и «уговаривал» назначенные для этой операции войсковые части, мужественно исполнить свой воинский долг.
Операция прорыва была предпринята в начале июля месяца в присутствии Керенского, и благодаря замечательной артиллерийской и инженерной подготовке, а также и благодаря значительной потере боеспособности австрийских войск фронт был пробит на широком участке, с которого австрийцы, не выдержав страшной артиллерийской бомбардировки, попросту бежали, так что наши войска беспрепятственно проникли в глубину их расположения на несколько верст, оставив далеко за собой всю укрепленную полосу австрийского фронта и выйдя в глубокий тыл всей системы обороны австрийцев в Галиции.
Полное поражение австрийцев было неизбежно, тем более что немцы до такой степени ослабили свой фронт в России перевозками на Запад, что никакой помощи им оказать не могли.
Но тут наши войска остановились, начали «митинговать» и, ссылаясь на большевистский лозунг «война без аннексий и контрибуций», категорически отказались идти дальше. И как ни старался Керенский и другие бывшие с ним социалисты сдвинуть их с места, им это не удалось.
Таким образом позорно пропал чрезвычайно благоприятный случай победоносно закончить войну, а австрийцы были спасены от неминуемого поражения.
Тут-то, с одной стороны, стало ясно, как близки были мы, не будь революции, к победе, а с другой стороны, тут же творцы революции воочию убедились, в какое позорное состояние привели их деяния нашу армию.
Тогда-то Временное правительство, убедившись, что путем «уговаривания» нельзя командовать войсками, вынесло решение о необходимости восстановить в войсках дисциплину и с этой целью назначило Верховным Главнокомандующим особо отличившегося на войне генерала Л.Г. Корнилова.
Глава II
Попытка восстановить боеспособность армии. Генерал Л.Г. Корнилов
После своего вступления в должность Верховного Главнокомандующего генерал Корнилов первым делом занялся разработкой проекта мероприятий для восстановления дисциплины и боеспособности в войсках. Этот проект он намеревался лично доложить Временному Правительству для получения его одобрения. В связи с этим он сообщил Временному правительству о своем желании, чтобы оно посвятило заслушанию его доклада отдельное заседание.
Получив на это согласие, он выехал из Ставки в Петроград на это памятное заседание, в сопровождении генерал-квартирмейстера и автора настоящих воспоминаний, как начальников оперативных управлений армии и флота Штаба Верховного Главнокомандующего.
Заседание происходило в Малахитовом зале Зимнего дворца. Все внутренние помещения дворца производили тягостное впечатление: полы не были подметены, вся обстановка была в чехлах, покрытых пылью, повсюду было видно полное запустение.
В Малахитовом зале стоял большой стол «покоем», покрытый зеленой скатертью, во главе которого занял место Керенский, а по левую его руку сел генерал Корнилов. Мы оба с генерал-квартирмейстером сели за малый стол, внутри «покоя», лицом к Керенскому и генералу Корнилову. Вокруг большого стола сидели многочисленные члены Временного правительства, состоявшего к тому времени почти исключительно из представителей левых социалистических партий.
На лицах большинства из них было написано враждебное к нам отношение, и они угрюмо молчали; лица их не выражали никакой одухотворенной мысли и ни на ком из них нельзя было «глаз остановить»: одеты они были больше чем небрежно и походили скорей на рабочих, чем на интеллигентных людей.
Открыв заседание, Керенский предоставил слово генералу Корнилову, который в качестве предисловия к своему проекту начал излагать положение на фронте в связи с потерей войсками боеспособности. Вдруг к нему наклонился Керенский и что-то ему сказал на ухо; мы увидели, как генерал Корнилов смутился, «скомкал» после этого изложение обстановки на фронте и быстро перешел к изложению мероприятий для восстановления дисциплины.
Впоследствии мы от генерала Корнилова узнали, что Керенский ему на ухо сказал: «Будьте осторожны; я не уверен, что ваши слова не станут известны немцам». Значит, в зале заседаний Временного Правительства мог быть тайный агент противника!
Доклад генерала Корнилова был принят без возражений, и все предложенные им мероприятия были Временным правительством одобрены.
После заседания Керенский пригласил генерала Корнилова и нас на завтрак. Он занимал в Зимнем дворце помещение, в котором в свое время жил император Александр II.
Мы сначала вошли в его кабинет, где «имели честь»(!) быть представленными находившейся там «бабушке русской революции» Брешко-Брешковской. Это была грузная, расплывшаяся в ширину, наполовину выжившая из ума старуха. Все вместе мы прошли в маленькую столовую императора
Александра II, где застали знаменитого художника И.Е. Репина, который с почтительными поклонами просил разрешения сделать во время завтрака эскиз с Брешко-Брешковской для ее портрета. Это Репин-то!
Он поместился со своим блокнотом в углу столовой, а Брешко-Брешковская во время всего завтрака, когда он ее зарисовывал, старалась принимать «авантажные позы», что было «и печально и смешно».
За столом прислуживали бывшие придворные лакеи, но уже не в ливреях, а в серых куртках без гербовых пуговиц. Когда один из них поднес мне блюдо, я заметил, что оно дрожало в его руках; я посмотрел на него и узнал в нем старика камер-лакея, который еще так недавно прислуживал в Ставке у царского стола. Слезы были у него в глазах: видимо, мое присутствие ему напомнило прошедшее время его долголетней и чинной придворной службы.
Во время завтрака Керенский был в хорошем настроении и неоднократно побуждал Л.Г. Корнилова самым энергичным образом приводить в исполнение предложенные им и утвержденные правительством мероприятия для восстановления боеспособности армии.
После завтрака мы тотчас же уехали в Ставку, где и было немедленно приступлено к осуществлению принятых решений.
Генерал Л.Г. Корнилов был безгранично храбрый, честный, правдивый и прямой по душе офицер, всецело проникнутый чувством своего воинского долга. Благодаря личной храбрости, проявленной им в боях, и благодаря своему смелому побегу из немецкого плена он пользовался в армии почти легендарной известностью и, несмотря на свою строгость и требовательность по службе, солдаты его любили и были ему преданы.
Во время начавшегося в армии развала после революции он создал, из оставшихся верными своему долгу солдат, ударный полк, носивший его имя, который отличался своей особой храбростью и был ему безгранично предан; особенно же беззаветно – буквально до степени обожания, – был ему предан текинский конный дивизион, который неотлучно был при нем и был готов весь «лечь за него костьми». Этот полк и дивизион приняли на себя охрану Ставки после назначения генерала Корнилова Верховным Главнокомандующим.
Одна лишь весть о его назначении имела уже магическое действие: солдаты на фронте, зная его решительность и строгость, «подтянулись» и стали даже отдавать честь офицерам, а солдатские комитеты стушевались и притихли.
Но, помимо своих выдающихся воинских качеств, генерал Корнилов не обладал ни дальновидностью, ни «эластичностью» мысли искусного политика и не отдавал себе отчета в трудностях и даже опасностях, с которыми сопряжена должность Верховного Главнокомандующего.
Сложные политические комбинации, особенно революционного времени, были ему совершенно чужды, и по простоте душевной он не замечал тех ловушек и пропастей, которыми была усеяна революционная почва.
После назначения генерала Корнилова патриотические, умеренно настроенные круги русского общества, потерявшие уже было надежду на спасение России, воспряли духом.
Круги эти состояли из деятелей Союзов земств и городов, из членов умеренно-либеральных буржуазных партий и из разных представителей культурно-просветительных объединений.
В то время как революционный центр, возглавляемый Временным Правительством и советами солдатских и рабочих депутатов, находился в Петрограде, деятели вышеупомянутых патриотических объединений, союзов и партий сосредоточились в Москве.
Они организовали там «общественное совещание» и пригласили на него генерала Корнилова, надеясь этим поднять патриотическое настроение в стране.
Стремясь расширить, опорой на общественность, «базу» для приведения в исполнение одобренных уже правительством мероприятий, генерал Корнилов принял приглашение на московское совещание и этим себя погубил.
Принимая это приглашение, он выходил из рамок своей военной сферы и вступал на политическую почву; будь он при этом дальновиднее и будь он ближе знаком с историей революций, он должен был бы ожидать, что вызовет этим среди революционеров подозрение в «бонапартизме», чего они всегда и везде больше всего боялись, особенно когда дело шло о боевом и популярном генерале, каковым был Л.Г. Корнилов.
Это, конечно, и случилось.
Если бы генерал Корнилов отдавал себе в этом ясный отчет, то решился бы на этот шаг лишь после всесторонней и серьезной подготовки, то есть после создания себе мощной военной опоры, путем сосредоточения в Ставке и вблизи столицы боевых и вполне ему преданных, сильных войсковых частей, на которые он мог бы в случае надобности положиться. Это возможно было сделать, исподволь и осторожно, под предлогом формирования в районах поблизости столицы «ударных частей» для Северо-Западного фронта, что было Временным Правительством одобрено и было в то время особенно «модно».
Между тем в Ставке при генерале Корнилове был один лишь ударный полк его имени и текинский дивизион, а на фронте он, по-видимому, ограничился обещанием поддержки со стороны главнокомандующего Юго-Западным фронтом генерала Деникина, что не могло иметь большого значения, ибо этот фронт был слишком далек от столицы.
В Москве генерал Корнилов был встречен с большим воодушевлением, и «Московское совещание» прошло в средине августа месяца под знаком громадного патриотического подъема, что, конечно, не могло не перепугать революционных деятелей и заставить их бояться «за свою шкуру».
В конце августа месяца Временное правительство предательски спровоцировало генерала Корнилова, обратившись к нему с «конфиденциальной» просьбой послать в Петроград конный отряд якобы для усмирения готовящегося большевистского восстания, и объявило, когда этот отряд под командой генерала Крымова подошел к столице, что Корнилов намеревается свергнуть правительство и «задушить» революцию. Обвинив его в контрреволюции, Временное правительство вынесло решение о его смене и аресте и, помимо Ставки, послало на фронт запрещение исполнять его приказания.
Войска на фронте вновь «революционно» вздохнули, и никто, конечно, не принял открыто его сторону. И таким образом пропало, как пропадают «покушения с негодными средствами», выступление генерала Корнилова и вместе с тем безвозвратно погибло успешно начатое им дело восстановления боеспособности армии.
Было ли в действительности у генерала Корнилова приписанное ему Временным правительством намерение свергнуть революционную власть, трудно сказать. В его планы и мысли были посвящены в Ставке лишь два-три близких к нему офицера и генерал Деникин на Юго-Западном фронте. Даже, объявленный вместе с ним арестованным начальник Штаба Верховного Главнокомандующего генерал А.С. Лукомский не был в его намерения посвящен, о чем я лично от него узнал во время разговора, который имел с ним ночью, после получения постановления об аресте генерала Корнилова и его. И я этому верю, ибо А.С. Лукомский, один из мудрейших и дальновиднейших людей, которых я в своей жизни встречал, конечно, удержал бы Л.Г. Корнилова от таких рискованных шагов, которые, без соответствующей подготовки, могли бы лишь привести его и начатое им дело к гибели.
Однако арестовать генерала Корнилова в Ставке было не так-то легко, и не обошлось бы без страшного кровопролития, ибо Корниловский полк и текинский дивизион решили воспротивиться этому силой.
Узнав об этом, Временное правительство поручило трудную задачу приведения в исполнение своего постановления генералу Алексееву, находившемуся в Петрограде «не у дел».
Генерал Алексеев, получив от Временного правительства заверение, что жизнь генерала Корнилова и его сотрудников не будет подвергнута опасности, взял на себя эту задачу, дабы сколь возможно «смягчить» последствия этого погибшего дела.
После переговоров генерала Алексеева с генералом Корниловым и преданными ему частями было решено, что генерал Корнилов и его сотрудники будут «заключены» под стражей текинского дивизиона в одной из гостиниц Могилева. По приведении этого решения в исполнение Корниловский полк ежедневно проходил мимо этой гостиницы парадным маршем, приветствуя своего вождя.
Вскоре затем могилевские «узники» были переведены в Быхов, где их так же, как в Могилеве, «караулил» текинский дивизион.
После большевистской революции Л.Г. Корнилов ушел из своей «тюрьмы» и, став во главе своих «тюремщиков» – верных ему текинцев, – прошел легендарным походом через весь Юг России на Дон, где впоследствии геройски погиб, сражаясь во главе Добровольческой армии с большевиками.
Глава III
Конец Ставки. Генерал Духонин
Вместо генерала Корнилова Верховным Главнокомандующим был назначен генерал Н.Н. Духонин. Это был храбрый и безупречно честный боевой генерал, по характеру очень мягкий и любезный человек.
После неудачи «Корниловского выступления» развал армии пошел с удвоенной быстротой. Вновь начались гонения и убийства офицеров по подозрению в принадлежности к сторонникам Корнилова. Комитеты солдат и матросов вновь забрали силу, и борьба их с правительственной властью и с командным составом обострилась на почве обвинения их в «попустительстве», приведшем-де к Корниловскому выступлению. Временное правительство, потерявшее всякую опору своим предательством Корнилова, принуждено было, в угоду большевистски настроенным революционным комитетам, усилить свою демагогическую политику, что, конечно, не могло привести ни к чему другому, как к захвату в ближайшее время власти крайними революционными элементами.
При таких условиях генерал Духонин не мог, конечно, ничего предпринять для задержания развала нашей вооруженной силы, и мы в Ставке оставались бессильными зрителями наступившей агонии великой Российской Империи.
В начале октября месяца немцы в целях давления на революционный центр в Петрограде и побуждения Временного Правительства к заключению мира, завладели Рижским заливом и заняли Ригу, чем была создана сильная угроза Петрограду.
Рижский залив, который фортификационными работами в течение трех лет войны был к осени 1917 года превращен в неприступный укрепленный район, был занят немцами без боя, ибо команда береговых батарей и гарнизоны островов залива отказались сопротивляться немцам и сдали им свои укрепления.
В Петрограде настала паника, и большевики, бывшие сторонниками немедленного мира, чем снискали себе расположение солдатских масс, взяли верх в борьбе с Временным правительством, всё еще старавшимся исполнять наши союзные обязательства.
25 октября произошел большевистский переворот, во время которого Временное правительство мгновенно и бесславно погибло.






