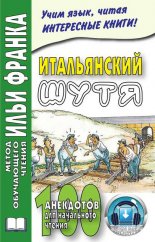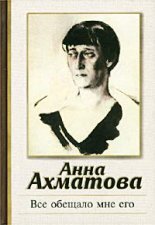Улыбка золотого бога Лесина Екатерина
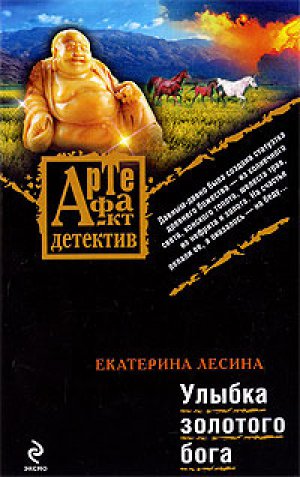
То не ветер по степи летит, то конь Унур-хана по-над травами стелется, копытами землю бьет, несет всадника быстрей стрелы и мысли быстрей. То не гром гремит, то конники Унуровы следом идут, оружны и доспешны, и горе тому, кого на пути своем встретят. И то не море перед ними – степь бескрайняя, травами укутанная, солнцем обласканная, неба необъятнее, воли вольнее. И сидит хан в седле, подбоченившись, смотрит вперед да любуется. Радостно сердце его свободою и милостью богов, что дали ему и коня, и воинов, а пуще всего – Туяацэцэг-синеокую, Туяацэцэг-круглоликую, Туяацэцэг-красавицу, жену разлюбимую. Куда ни пойдет хан – а с нею сердце остается, в руках ее ласковых, в заботе да тиши.
И хочется жить, и хочется петь, и кричать ветру навстречу, что вот оно – счастье человеческое. Но молчит хан, лишь улыбается, да пуще прежнего коня понукает. Лети, лети, каурый, неси хозяина туда, где небо подол спустило, сомни копытами твердь, взлети на небосвод, чтоб не золота-серебра, не шелку да парчи, не рабов с рабынями, а звезд собрать для Туяацэцэг…
Вот чудится – вздрогнула земля и вверх подалась, к небу выталкивая, и тут же, коварная, вниз ушла. И, оступившись, упал каурый, всадника придавил, да долго встать не мог, а как встал, увидели все: забрали боги хана, но легкую смерть подарили. С улыбкою ушел Унур.
То не птица в степи поет, то плачет горько Туяацэцэг-синеглазая, Туяацэцэг-круглоликая, о доле вдовьей, о муже ушедшем, о сердце разбитом. То не солнце, путь свой забыв, светом в ночи разлилось, то костры пылают, в честь хана ушедшего зажженные. То не грозные великаны землю разодрали, то раскрыли нутро ее для хана, чтоб схоронить по чести и достоинству. Но не позволит Туяацэцэг мужу своему одиноким за край мира идти, не останется жизнь доживать и горе горевать.
Живою вошла она в дом мертвый, велела одевать себя в наряды смертные, взяла все то, что ханом было дарено, а еще того, что шаманами дадено, и многого другого взяла, ибо мудра была Туяацэцэг – поди угадай, что в новом мире сгодится. И приняла она от людей дар последний – чашу с зельем травяным. Рабыням дала и сама выпила: пусть примут боги сей дар, пусть будут милосердны, вернув ей мужа.
Дурманят травы ласковыми снами, веки тяготят, грудь сдавливают, и вот уже не спит Туяацэцэг. Видится ей не утроба земляная, а степь необъятная, степь бесконечная, серебром лунных трав расшитая. И будто бы шепчут они ласково, за собою зовут, и будто бы видятся следы копыт, а вдали, у самого горизонта, и конь замер. Черен он, грива в землю, а сбруя золотом да каменьями сияет. Но не на них глядит Туяацэцэг – на всадника, что сидит в седле подбоченясь, плетку на бок свесивши, и улыбается по-доброму.
– Здравствуй, Туяацэцэг, – сказал хан, руки протягивая. Обнял крепко, поцеловал да к себе прижал, чтоб никогда уже не отпустить.
И снова летит конь, стелется по-над травами, тянется к горизонту, норовя попрать копытами твердь небесную, и вот-вот взберется к звездам да месяцу, что посверкивает хилым серпиком… Бесконечна степь, и бег бесконечен. И счастлива Туяацэцэг, а вместе с нею – Унур-хан, в ладони звезду сжимающий.
Дуся
Кто же из них? Кто?
Кто-кто-кто – стучится в висках мелкой дробью, кто-кто – бухает сердце. Кто? – скручивается ледяная спираль в животе. И от страха и оттого, что бояться утомительно, мне хочется спать. То есть спать мне хочется почти всегда, но сегодня особенно. Зеваю. Получается вызывающе нарочито, и мои дамочки брезгливо морщатся.
– Милая моя, с тобой все в порядке? – поинтересовалась Алла.
Правильно она сказала про порядок: по порядку их надо выстраивать, по ранжиру. По хронологии. И первой будет как раз она, Алла. Нет, сначала Аллочка, милая и застенчивая. Коса до пояса, васильковые глаза, в которых плескался восторг и робкое, стыдливое счастье, и оттого глядеть в них было страшно – а вдруг да выплеснется и затопит? Утонуть в чужом счастье – что может быть отвратительнее?
Аллочка – платья из набивного сатина и искусственного шелка, украшенные искусственными же цветами, и круглые, с ладонь, броши, вроде бы с разным рисунком, но все почему-то похожие друг на друга, как близнецы. Аллочка – польские духи и жирные тени, скатывавшиеся к уголкам глаз. Аллочка… Аллочка давно исчезла, сначала уступила место Алле – строгой и деловитой, потом Алле Сергеевне. Эта-то конченая стерва – короткая стрижка резких линий, галстук-удавка с красным пятном рубина и перстень-печатка. Алла Сергеевна не любит яркого света, потому и место выбрала у стены, где самый сумрак, еще и в профиль повернуться норовит, чтоб в глаза не смотреть.
Теперь мне вдруг интересно, куда счастье-то делось – то самое, что пугало когда-то.
Хотя знаю: счастье украла Вероника, мой номер два. Имени своего она не любит, ей больше нравится Ника. Ника – это победа, и девушка у нас победительница. Сначала школьного конкурса красоты, потом городского, потом районного, потом… потом она увидела Гарика и победила еще и его, он-то, наивный, полагал обратное, но я знаю правду.
Ника доминирует даже здесь, даже сейчас. Место во главе стола – плевать, что из приборов на столешнице лишь ваза с вялыми хризантемами отвратного желтого цвета и хрустальная пепельница, плевать, что за столом сижу лишь я и Топочка. Ника все равно во главе. Вполоборота: высокий лоб, скулы-треугольники, нос чуть длинноват, а губы – полноваты, выпячены, зато подбородок идеален, и линия шеи, и бюст, и… и завидую я ей. Я им всем немного завидую.
– Что? – Ника поворачивается ко мне, небрежно отбрасывая волосы назад. В этом месяце она брюнетка, и должна признать, ей идет. Особенно хорошо сочетается с траурной чернотой платья. – Господи, да сколько можно молчать? Как будто кому-то и вправду жаль эту сволочь! Извини, Дуся, ты не в счет.
Извиняю. В тысячно-стотысячно-миллионный раз извиняю, хотя вряд ли им и вправду есть дело до меня и моих переживаний. А Гарика я любила. Да, любила. И теперь люблю. Только признаваться стыдно – засмеют.
– Ни-иик, ну мы же ждем, – протянула Топочка. Номер три. Победившая победительницу – так я ее называю. На самом деле Топочке просто повезло, обстоятельства сложились в ее пользу. Это как в лотерее выиграть. А Ника ее за выигрыш ненавидит, хотя ненавидеть Топочку сложно – больно уж бесполезное создание. Вообще их двое – Топочка и Тяпочка, похожи, как близняшки: субтильные, вечно дрожащие, с круглыми навыкате глазами и привычкой прятаться при малейшей угрозе скандала. Только Тяпочка у нас чихуа-хуа, а Топочка – так, недоразумение. Могла она? Нет, вряд ли… или могла?
– Заткнитесь обе! – рявкнула Алла Сергеевна. – Кому не нравится, вон дверь, не заперта.
– Действительно, шли бы вы, девочки, – промурлыкала Ильве, потягиваясь. – Не тратьте время попусту.
Все трое зашипели, беззвучно, но явно, по-женски, по-кошачьи, а Тяпочка заскулила. Тяпочка Ильве боится, и хозяйка ее тоже, и Алла Сергеевна с Никой, хотя скрывают, скалятся, будто улыбаясь, делают вид, что совсем-то им и не страшно. Еще как страшно. Ильве здесь самая опасная: у нее получилось родить ребенка. Думаю, рожала она его, исключительно чтобы развести Гарика с Топочкой и на случай «обстоятельств» (все же четвертый брак несколько настораживал) обеспечить сытные тылы. Развела. Обеспечила. Она вообще умная, Ильве, и красивая, почти такая же, как Ника, но в медвяно-золотых тонах – для кожи прозрачный липовый, для волос и глаз – гречишный, для губ – цветочный. Да, у Ильве все шансы, она и после развода умудрилась остаться хозяйкой в доме. Мать ребенка, единственного, горячо любимого Гариком и как две капли похожего на мать.
– Дуся, а он сказал, во сколько придет? – нарушила молчание Лизхен. Номер пять, последний номер… Но не идет к ней номер, уж больно она… иная. Белые волосы (не пшеничный блонд, и не платиновый, и не седина, как шипит Ильве, а именно благородный белый) зачесаны вверх, белая шаль трогательно обнимает плечи, белая кожа изысканно гармонирует с черным кружевом платья. Кресло-качалка, томик стихов в руках. За полгода ее пребывания в доме я так и не поняла, читает она их либо же носит с собой для поддержания образа. Лизхен нравится быть «в образе»: томные жесты, печальные взгляды, вздохи не к месту и сушеная роза меж страницами романа, который она пишет. Тайком, но как-то так, что все вокруг знают.
– Дуся, не спи! Тебя спросили, – Ника шлепнула на стол сумочку и, достав пачку сигарет, передвинула пепельницу поближе.
– В два.
– Дуся, в два? Дуся, ты что, прикалываешься? Какого черта тогда я приперлась сюда в двенадцать?
– Что за выражения, – Алла Сергеевна постучала пальчиком по циферблату часов, крохотные и строгие. Дорогие. Она у нас бизнесвумен, единственная, пожалуй, самостоятельная из всех. Могла? Наверное.
Все могли. Все врут. Все «в образе», я-то знаю. Единственное, чего не знаю, – кто.
– Как хочу, так и выражаюсь! – огрызнулась Ника. Щелчок зажигалки, трясущееся пламя, ментоловый дым. Лизхен тут же закашлялась, Топочка с Тяпочкой затряслись, а Ильве, брезгливо скривившись, заметила:
– От дыма цвет лица портится, а если еще и с алкоголем сочетать…
– Уж как-нибудь обойдусь без твоих советов. Нет, ну два часа еще мариноваться!
– Полтора, – тихо поправила Топочка, прижимая к себе Тяпочку. Они и одеваются похоже: синий джинсовый сарафанчик и синий джинсовый комбинезончик – детки-близняшки.
– Ну полтора. У меня, между прочим, планы имелись. Я, между прочим, не подписывалась тут торчать за просто так…
– За просто так, милая, ты задницы своей от кресла не оторвала бы, – заметила Алла Сергеевна. – И твое здесь ожидание, равно как и присутствие в доме, нужно прежде всего тебе самой.
– Ну да…
– Алла права, ты на завещание рассчитываешь, – Ильве забросила ножки на спинку софы. – Хотя, если разобраться, прав у тебя никаких…
– Можно подумать, у тебя…
– У меня прав больше всех. Я Игорю сына родила.
– Еще нужно разобраться, Игорю ли.
– Хочешь сказать…
– Хочу и говорю. Почему Алка не забеременела? Ал, скажи, у тебя хоть разок залет с ним был? Не было. И у меня не было. И у Топки. Лизок, ты у нас, случаем, не в положении?
– Простите? – Лизхен густо покраснела. – Вы полагаете… вы извините, но это вас не касается.
– Не касается, – согласилась Ника, выпуская очередную дымную завитушку. – Но понимаю, что нет. Дусь, ты про Гарика все знаешь. Кто-нибудь, кроме Ильки, от него рожал?
Никто. Ни жены, ни любовницы, ни случайные подружки… Не было писем с требованием признать отцовство, не было скандалов на тему «делать или не делать аборт», не было подброшенных младенцев с записками и трогательными историями о плодах случайных связей. Не было, и все тут, а те редкие «ситуации», которые все же случались, не выдерживали самой простой проверки. И поэтому Гарик так любит Ромочку.
Любил.
– Во-о-от… никто. А Илька взяла и сумела. Мать-героиня. Алка, тебе в голову не приходило, что она тут всех дурит?
– Есть медицинское заключение. – Алла Сергеевна болезненно поморщилась, потерла пальцами виски и поинтересовалась: – Дуся, если Ферниш сказал, что придет в два, то почему ты позвала нас к двенадцати?
– Действительно, почему? – Ника раздавила окурок в пепельнице.
– Да! – тявкнула Топочка. Или Тяпочка.
– Будьте так любезны, – попросила Ильве, а Лизхен просто вздохнула, томно, тягостно и громко.
Повисла тишина, и мне снова стало страшно – ледяная спираль достигла предельной точки сжатия и вот-вот начнет разворачиваться, и тогда я лопну. А в висках по-прежнему молоточки стучат: кто-кто-кто?
Кто из них убил Гарика?
Ильве
Догадалась. Эта жирная тупая корова обо всем догадалась. О нет, она не тупая, просто жирная, просто корова с мягким брюхом, бесформенным выменем, подушками щек и осоловелым, будто сонным, взглядом. Губы двигаются – жвачку жует, не «Орбит» или «Дирол», нет, корова пережевывает факты, фактики, вспоминает, сортирует, а потом… или уже?
Спокойно. Это всего-навсего нервы. Не может она ничего знать, никто не может, и Ника-стерва на крепость пробует, у нее положение тут самое шаткое, вот и бесится.
Сама виновата, думать надо было, что вытворяет. Единственно, о чем жалею, – не видела рожи Гарика, когда он свою благоверную с этим не то таксистом, не то стриптизером застал. Вот удар по самолюбию!
– Я собрала вас раньше, – корова очнулась от спячки и заговорила. Вот чему завидую – голосу. Куда ей такой, мягонький, ласковый? – Чтобы зачитать письмо, оставленное Игорем незадолго до смерти. Вероятно, он предполагал нечто… подобное, – запнулась. Дура сентиментальная, как можно такой быть? Он об нее ноги вытирал, а она любила. По-коровьи любила, молчаливо, с постоянным приглядом и вздохами. Кто сказал, что самые верные животные – это собаки? Нет, до коров им далеко.
А настроение улучшилось. Не знает она ничего. Не знает!
Потому что я – умная.
Дуся
– Письмо? Ну надо же, как мило, – Ника достала еще сигарету, раньше я не замечала, что она столько курит. – Гарик и письмо… с того света, ага.
– Милая, твой цинизм неуместен. Дуся, что за письмо?
Это не совсем письмо, а скорее послание. Пусть и звучит претенциозно, но зато суть отражает верно – письмо было мне, а им – диск с размашистой Гариковой подписью: «Моим девочкам».
Они – его девочки, а я так, подруга, соратница, единомышленница. Отвратные слова, как же я их ненавижу. Почти так же, как его девочек.
– Ну же, Дуся, не тормози. Слушай, может, по такому случаю шампанского? Или коньячку? А что, дерябнем за упокой души раба Божьего…
– Ты и так уже дерябнула, – кошачий зевок Ильве. Только теперь замечаю, что Ника пьяна. Влажный, дурноватый блеск в глазах, румянец, проступающий сквозь пудру, и резкий, слишком резкий запах духов.
– Слушай, ты, мамочка, перестань морали читать, а?
– Девочки, девочки, не надо ссориться!
– Не надо, – поддержала Топочку Алла Сергеевна. – Дуся, все-таки давай к делу, раз уж… такое.
Что ж, наверное, и вправду так лучше. Страх отступает, только руки дрожат немного и коробка с диском не открывается, я нажимаю, а она только гнется. Эти смотрят, но помогать не будут, им весело. Они меня презирают.
А я их. Равновесие.
Наконец у меня получается извлечь диск из пластика, зато пропадает пульт: сначала от телевизора, потом от дивидишника. Чувствую себя все более глупо, но вот как-то сразу и вдруг все находится, телевизор включается, дивиди тоже, и синий экран сменяется дрожащей, нечеткой картинкой.
Гариков кабинет, вон шкаф виден, корешки книг (тома солидных размеров и содержания), глянцевый, вызывающе несолидный журнал, небрежно брошенный, портьера, мраморный бюстик Наполеона на столе, ноут… легче смотреть на вещи, на Гарика – не могу, слезы наворачиваются.
– Ну что, здравствуйте, дорогие мои. – Он сидит, откинувшись на спинку кресла, по привычке покачивается взад-вперед и также по привычке улыбается.
– Здравствуй, здравствуй, – буркнула Ника, перебираясь на софу, оттуда лучше видно. – Дусь, сделай погромче, а?
Пожалуйста.
– Если вы просматриваете эту запись, то… – Гарик развел руки, точно пытаясь обнять экран. – То меня, как ни прискорбно осознавать, уже нет в живых. Конечно, вряд ли вас это сильно опечалило, скорее уж наоборот…
– Ох, – Лизхен ноготком смахнула слезу и поплотнее укуталась в шаль. – Он… он такой…
Особенный.
– Скотина, – фыркнула Ника. – Улыбчивая скотина.
Да, в этом она права, Гарик всегда улыбался. Грустно, расстроенно, опечаленно, неловко, небрежно, счастливо, самоуверенно – список оттенков бесконечен, я научилась читать их все. Я научилась видеть то, что за улыбками, и молчать о том, что понимаю.
– Теперь вы ждете наследства. Ты, Аллочка, думаешь, что имеешь право, поскольку дольше всех была моей женой. Сколько лет? Шесть?
– Семь, – прошептала Алла Сергеевна. – И три месяца.
– Ты, Вероничка, надеешься на прощение и мою к тебе жалость.
– Больно надо… подумаешь…
– Ты, Топочка, пришла, потому что все пришли. И ты была хорошей девочкой, правда, псину твою я все равно терпеть не мог, извини.
– Тяпочка – хорошая, хорошая моя девочка, – Топочка поцеловала псинку в нос. – Зачем он так говорит?
Ей не ответили.
– Ильве… ты мать моего единственного сына. Ты уверена, что получишь если не все, то большую часть.
Молчание. Прикрытые глаза, коготки, скребущие обивку дивана.
– Ну и Лизок, последняя моя любовь, лебединая песня. У тебя формальные права наследования, ты же вдова. Кстати, черный тебе всегда шел…
Пауза. Шелест бумаг. Картинка вдруг резко прыгает в сторону, выхватывая белый манжет, часы, запястье, пальцы, перстень на мизинце и серую папку на завязках, на которой красным фломастером Гариковой рукой размашисто выведено: «Завещание».
– Да, мои милые девочки, – Гарик поднял папку и придвинул вплотную к камере, отчего изображение расплылось серо-алыми пятнами. – Вот оно, то самое, посмотрите, подумайте, что там внутри и стоило ли из-за него убивать меня.
Вот. Он сказал это. Он снова сказал это!
– Конечно, вероятно, смерть откровенно криминальной не выглядит. – Голос Гарика по-прежнему весел, а лица не видно, папка заслоняет. Разглядываю картон, серый, неровный, с какими-то шерстинками, пятнышками, потертостями. – Вы слишком чистоплюйки, чтобы замараться, слишком трусливы, чтобы подставиться, слишком не хотите привлекать внимания к вашим играм, чтобы позволить начаться официальному расследованию…
– Да у него окончательно крыша съехала! – воскликнула Ника. Возражать ей не стали.
– Поэтому здесь, – Гарик положил папку на стол и постучал по ней костяшками пальцев, – здесь, милые мои дамы, моя маленькая месть. Я не знаю, кто из вас задался целью, но мотив есть у каждой…
Алла Сергеевна прикусила губу. Задумалась.
Ника остервенело жует сигарету. Фильтр измочалила, горько, наверное, а вкуса не чувствует. Топочка уткнулась лицом в Тяпочкину шерстку, на экран вроде бы и не смотрит. Ильве… Ильве накручивает на палец локон. Накручивает и раскручивает, и снова накручивает. Лизхен то ли дремлет, то ли мечтает.
Гарик на экране спрятал папку в стол.
– Завещание это составлено по закону, с соблюдением всех условностей, и опротестовать его не получится…
– Вот урод!
– Заткнись.
– …но у вас будет шанс урвать кусок. Полагаю, вы его не упустите, точнее, скорее надеюсь на вашу жадность, чем на честность. Так что… целую всех. Дуська, котенок, тебя особенно. Пожалуй, ты – единственная настоящая женщина в моей жизни. Прости, что поздно понял.
Лизхен
Женщина? Дуся – женщина? Смех, да и только, носорог в шелках, смотреть невозможно без содрогания. Как можно было довести себя до такого? Хоть бы на диету села, а то ест и ест, ест и ест, даже теперь губы шевелятся, будто пережевывает чего. И что он в ней нашел?
Дуся умная. Дуся проницательная. У Дуси чутье.
Фу. Права была мама, когда говорила, что следует держаться в отдалении от некрасивых людей – это заразно. Смотрю на Дусю, и ощущение премерзейшее. Выставлю. Да, первым же делом выставлю прочь. Я тут хозяйка. Единственная. Эти могут даже и не дергаться, разве что Ильве… все же ребенок, и Гарик – вот идиот – признал его. Витенька же говорит, что ребенок, как и я, наследник первой очереди, и просто так избавиться не выйдет.
Правда, он же предлагает дать Ильве отступных. Может, и вправду попробовать? Витенька умный, он всегда знает, как поступить правильно.
Дуся
– Ну и что это значит? – первой молчание нарушила Алла Сергеевна. – Дуся, ты можешь объяснить?
– А что объяснять? Тебе ж прямым текстом сказали, что фигушки ты что получишь. – Ника расхохоталась, но смех быстро перешел в икоту. – Ой… да… задолбал он… шуточки… воды…
Топочка, сунув Тяпочку под мышку, торопливо и неловко, расплескав по скатерти, налила из графина в стакан, который протянула Нике.
– Итак, – мягко начала Ильве, – Дуся, он тебе до того говорил? Может, упоминал о чем-то подозрительном? Письма с угрозами? Звонки?
– Нет.
Не было писем, не было звонков, не было ничего, что предвещало бы беду. Просто однажды Гарик уехал в командировку в Челябинск и умер. Сердечный приступ, ничего удивительного при его образе жизни – так мне сказали, уже на похоронах, торопливых, суетливых, каких-то ненастоящих, что ли. Мне даже сообщить не удосужились, знаю – из-за Лизхен: маленькая месть маленькой дряни. Уезжала я, видите ли, неудобно было меня беспокоить… и дело внутреннее, семейное. Она это несколько раз подчеркнула и добавила, что очень-очень любила Гарика и любит меня, а поэтому настоятельно рекомендует проверить сердце, ведь с моим весом нужно тщательно следить за сердцем.
– Хорошо. Тогда с чего он решил, что его собираются убить? И в конце концов, Дуся, что он придумал с завещанием?
– Не знаю.
Не поверили. Алла Сергеевна кивнула, Ника фыркнула, Топочка с Тяпочкой переглянулись, Ильве зевнула, а Лизхен заслонилась от всего происходящего шалью-коконом.
– Значит, будем ждать. Уже недолго, полагаю, нас ждет большой сюрприз.
Алла Сергеевна и не предполагала, насколько права.
Аким Андреевич появился вовремя и даже на полчаса раньше договоренного времени, за что я несказанно ему благодарна. Он вошел, как всегда, без стука, по-хозяйски поставил на стол изрядно потрепанный кейс коричневой кожи, рядом с ним положил фетровую шляпу и кожаные перчатки, прислонил к краю стола трость и только после этого церемонно поклонился.
– Добрый день, дамы. Прошу прощения, если опоздал. Надеюсь, ожидание не было слишком тягостным для вас? – Аким Андреевич хитро подмигнул мне.
– Здрасьте, – отозвалась Ника.
– Всецело разделяю ваше горе, – Аким Андреевич возился с замочками кейса, в движениях его мне виделась нарочитая неторопливость, отдающая даже не театром – балаганом самолюбования.
Он хороший человек, умный и энергичный, а мне следовало бы снисходительнее относиться к его маленьким слабостям. Тем более что их не так и много: показушная галантность, фетровые шляпы с лайковыми перчатками, костюмы стиля американских тридцатых, кейс, доставшийся от дедушки, и усы, придававшие Акиму Андреевичу вид не солидный, а скорее плутоватый.
Ну да разве в усах дело?
И с Гариком они были очень дружны, и о случившемся мне как раз Аким рассказал. Не его вина, что так поздно.
– Дусенька, радость моя, пересядь-ка, пожалуйста, вон туда, – он указал на другую сторону стола. – Или еще куда-нибудь… итак, дамы, приступим.
Желтый конверт с круглой печатью показался мне таким же фальшивым, как Аким Андреевич, который небрежным жестом фокусника сорвал печать и крохотным ножиком вспорол бумагу.
– Так уж вышло, что я имел честь свести более-менее близкое знакомство с каждой из вас, а посему до начала процедуры оговорю: данное завещание составлено согласно принятым юридическим нормам, вследствие чего попытки опротестовать его, вероятнее всего, ни к чему не приведут. Надеюсь, вы мне поверите на слово?
Молчание было ярким и выразительным. Аким же Андреевич, отложив конверт в сторону, с ленцой пролистнул бумаги. Он заставлял их ждать, томиться, гадая, что же придумал Гарик, и я простила Фернишу все слабости. Я почти любила его.
– Что ж, дамы, к делу. Находясь в здравом уме и твердой памяти… соответствующие справки и заключения прилагаются… Игорь Владиславович Громов распорядился принадлежащим ему движимым и недвижимым имуществом следующим образом. Так… моей первой жене за терпение и характер, а также в качестве извинения за разрушенный брак я оставляю десять процентов акций «Ивлоры»…
Губы Аллы Сергеевны едва заметно дрогнули. Улыбнется? Нет. А кроме акций, квартиру ей оставил, родительскую, в которую когда-то привел после свадьбы.
– Вероника в знак моего прощения получает два процента акций…
– Козел!
На Никину злость, как и на нее саму, никто не обратил внимания, только шикнули, чтоб заткнулась.
Топочка получила пять процентов и двухкомнатную квартиру, Ильве – пять и ее сын десять, естественно, дом, в котором они проживали, также оставался им. Тринадцать процентов досталось Лизхен. Она же получила драгоценности и несколько картин из коллекции, не самых дорогих.
– Вот стерва! – не выдержала Ника, пользуясь возникшей паузой.
– Погодите, но ведь получается… получается… – Ильве нахмурилась. – Всего сорок процентов акций получается? Аким Андреевич! А картины? А нефрит? И… остальное? Кому?
Аким Андреевич пригладил усы, огляделся, проверяя, готова ли публика внимать монологу, и громко зачитал:
– Оставшиеся шестьдесят процентов акций, а также прочее имущество, согласно приложенному списку, я оставляю Дульсинее Вадимовне Гвельской, человеку мне дорогому и любимому, пусть и не так, как ей бы хотелось. Прошу простить меня за все обиды, прими это наследство в знак благодарности за наше долгое знакомство.
– Ей? – взвизгнула Ника, вскакивая. – Ей?! Он оставил все этой… этой…
Алла
Да, этой! Этой стерве Дуське.
Молодец, Гарик, уел. Даже после смерти уел. А следовало бы подумать, следовало бы догадаться… Дуся с самого первого дня мне не понравилась, чуяло сердце, неспроста она целыми днями у Гарика просиживает. Чего ей надо было? А и понятно – влюбленная. Дульсинея. Дульсинея Вадимовна Гвельская… любила, видите ли, бабка высокую литературу… до сих пор от этих ее литературных разговоров мутит, как вспомню. Зал, стол, скатерть, свечи, блюдо с фруктами, пирожные, которые ни фигища не понятно как брать, в первый раз, когда я торт ложкой есть стала, Дусенька, вежливая наша, выпучила глазенки, а свекровушка моя, пусть земля ей пухом, и сказала, что девочка я умная, постепенно научусь.
Научилась. И торт вилкой есть, и про Вольтера разговаривать, и Толстого цитировать, и на Бунина с Паустовским ссылаться. А ее все равно на дух не выношу, влюбленную, одно утешает – уродина. И тогда, в девичестве, уродиной была – туша в шелках, маменькой-папенькой вусмерть избалована, в жизни ничего-то, кроме литературы своей, и не видевшая, – а теперь и вовсе расплылась. Как она только не померла еще? Свекровь все убивалась, что у Дусеньки здоровье слабенькое, а она и Гарика пережила, и нас всех поимела.
Одна радость – Нику аж перекосило. Ну да, это не чужих мужей отбивать, пусть теперь попробует на Дуську прелестями своими подувядшими повоздействовать. Остальные… Топ-Топа, ласковый ребенок, вежливый. Бесполезный. Эта будет делать то же, что и все. Ильве… попробовать договориться? Она не глупа, только жадная очень и беспринципная. При удобном случае кинет и не икнет. Нет, опасно связываться. Лизхен тоже темная лошадка. Откуда она вообще появилась? Где Гарика подцепила и, главное, чем? Но Дуся, Дусенька, Дульсинея. Ну уела, ну уела… ничего, все еще можно исправить, все… только подумать хорошенько. Не спешить, не пороть горячки, подумать, проконсультироваться с умными людьми, а там и решать.
Дуся
– Он все ей оставил? Вот так взял и просто оставил этой… этой… – Ника указала на меня дрожащею рукой. – Взял и оставил?
– Взял и оставил, – спокойно повторила Алла Сергеевна, поднялась, подошла и, протянув руку, сказала: – Поздравляю, Дуся, ты получила то, что причитается. Все верно. Все заслуженно.
Верно, заслуженно. Только не нужно. Как он посмел так со мной? Взять и откупиться? Акции, деньги… да не нужно мне ничего этого! Не нужно! А они смотрят, думают: какая я хитрая, как верно все рассчитала, втерлась в доверие, окрутила, обманула. И не поверят, если скажу – не знала. Да и не знала ли? Он намекал ведь, вскользь, шутками, случайными оговорками, на которые я предпочитала не обращать внимания. Получается, к своей выгоде.
– Да, Дуся, поздравляю, – Ильве не пыталась скрыть издевки в голосе. – Верный друг… следовало бы догадаться.
– Но это же хорошо, да? – подала голос Топочка. – Пять процентов – это тоже много? Это лучше, чем ничего?
– Лучше, лучше, – уверила ее Ника. – А шестьдесят еще лучше.
И рявкнула:
– Не будь дурой! У нее вообще прав никаких нет! Она тут посторонняя! Никто, понимаешь? Пустое место.
– Уже не пустое, – это Лизхен. Сердитая, раскрасневшаяся от злости, не пытающаяся скрыть обиды Лизхен. – Извините, Аким Андреевич, но я, со своей стороны, буду подавать в суд. Мне положена доля…
– И Ромочке тоже, – перебила Ильве. – Ромочка наследник первой очереди. Наравне с Лизой, естественно.
– Ваше право, – ответил Аким Андреевич, до сего момента хранивший вежливое молчание. – Но для начала, может, позволите дочитать? Немного осталось. Итак, условие, выдвинутое завещателем, на мой взгляд, существенно меняет всю картину. Согласно последней воле Игоря Владиславовича Громова, настоящее завещание вступает в силу лишь после того, как будет найден его, то бишь Игоря Владиславовича Громова, убийца. Доказательства вины должны быть представлены комиссии из пятерых человек, которых завещатель указал в качестве доверенных лиц. Если в течение полугода имя не будет названо либо же названо, но доказательства сочтены недостаточно убедительными, чтобы большинством голосов признать вину обвиняемой личности, данное завещание теряет силу. Вследствие чего все движимое и недвижимое имущество надлежит разделить следующим образом: восемьдесят процентов акций переходят в распоряжение Дульсинеи Вадимовны Гвельской, а также она получает право распоряжаться оставшимися двадцатью процентами акций с обязательством передать их Роману Игоревичу Громову по достижении последним возраста двадцати одного года. Вот, кажется, и все. От себя добавлю, что я вхожу в число тех, кому предстоит выносить решение по… по пункту вины. Это меня не слишком радует, но отказать другу в просьбе я не мог. Увы. И еще, в качестве бесплатного совета, я бы настоятельно рекомендовал вам не пытаться решить проблему самостоятельно. Наймите специалиста.
– Он… он же урод! Псих! Он ненормальный! – первой не выдержала Ника. – Да что он о себе возомнил! Призрак папаши Гамлета! Отмстите за смерть мою…
– Если вдруг надумаете, – Аким Андреевич оставил выпад без внимания. Он аккуратно сложил бумаги, выровнял стопку, сунул обратно в конверт, тот самый, желтый с красной печатью, а конверт – в кейс. Потом закрыл замочки, любя и любуясь, провел ладонью по потрескавшейся коже и продолжил: – Если все же надумаете обратиться к специалисту, то могу порекомендовать одного в высшей степени толкового человека. Берет дорого, работает чисто. Умен. И, что в данном случае важно, терпелив.
– Аким Андреевич, как вы думаете… при определенных обстоятельствах нам удалось бы достичь полюбовного соглашения? – Алла говорила медленно, тщательно подбирая слова. – Вы ведь умный человек, вы понимаете, что последний пункт… несколько слишком. Глупая шутка. Последняя месть, хотя нам-то мстить не за что, это у нас были обиды.
– И мотивы. Прошу прощения, но боюсь, что вам все же придется следовать выдвинутым условиям. Да, простите, чуть не забыл, Игорь Владиславович оставил еще ряд документов незавещательного плана. Во-первых, – конверт Аким Андреевич достал не из кейса, а из кармана пиджака, – здесь шесть дарственных с правом распоряжаться одной шестой частью этого дома. Игорю это показалось справедливым. В отличие от завещания, распоряжаться дареным имуществом вы можете немедленно. Во-вторых, вам, Дуся, оставили вот это.
Третий конверт, из листика в клеточку, сложенный треугольником, на котором синими чернилами выведено: «Это ключ к ключу, который открывает дверь времен». Внутри прощупывался плоский длинный ключ. Сердце ухнуло в пятки: неужели Игорь оставил мне и Толстого Пта?
– Будьте уверены, все формальности соблюдены.
– И когда я могу забрать его?
– Когда захочешь. Хоть сейчас, но… Дуся, ты подумай, в банке ему надежнее. Все-таки ценность, и немалая.
Ему – да, а мне нет. Мне хочется, чтобы мудрый Толстый Пта был рядом, и дело отнюдь не в его номинальной стоимости, а в том, что Толстый Пта – удивительная вещь. Или нет, вещью его называть нельзя, он – личность, тот, кто бережет и оберегает.
Ника
Одна шестая дома? Два процента? И эти небось думают, что и так слишком много получила!
Да что они понимают? Твари. Все твари. Алка – стервозная, бизнес-леди наша. Нету в тебе леди и не было никогда, даже сейчас будто бы навозцем пованивает. А развода мне так и не простила. А что? Сама виновата, за собой смотреть надо было, не теперь, а тогда. Вспомнить – смех один: красавица от сохи, коса до задницы, румянец во всю рожу. Как он мог вообще на ней жениться? Зато развелся легко, когда понял, что такое истинный класс.
Понял-то понял, но… Ильве лыбится, она тварь хитрая, вот уж кто хорошенько птичку счастья пообскубал. Сына она родила… ага, так мы и поверили. Экспертиза… знаю я цену этой экспертизе, небось ножки перед экспертом раздвинула и бабок сунула, вложилась в будущее, а теперь королева.
Топка – тварь беспомощная и бесполезная, но умудрилась, умудрилась к Гарику в постель вовремя прыгнуть, теперь тоже своего ждет. Лизхен – тварь непонятная, мало про нее знаю, надо бы приглядеться…
Дуся… Дуся просто тварь. Урвала куш и радуется, ишь глазки поблескивают, и конвертик к груди прижимает. Ага, там сто пудов ключ от банковской ячейки, а в ней – божок тот, толстый, который диких бабок стоит. Подарочек… мне Гарик и прикоснуться не дал, показал только, а этой, значит, подарок. Ну тварюга!
И я тварь, только невезучая. Ну надо ж было так попасться. Дура, дура, дура… а эти-то радуются. У самих небось списочки любовников побольше моего будут, только они умнее… нет, не умнее, везучее. Ничего, я свое еще возьму, я их всех прижму… всех.
Дуся
– Итак, что мы имеем? – первой, как ни странно, заговорила Лизхен. Тишина, воцарившаяся было после ухода Акима Андреевича, разом наполнилась гомоном. Они заговорили одновременно, стараясь перекричать друг друга, залаяла испуганная Тяпа, заорала матом Ника, застонала, хватаясь за голову, Лизхен. А я мяла в руках бумажный конверт, в котором лежал ключ.
Завтра я верну себе Толстого Пта. Исправлю несправедливость, которая была допущена много лет назад, и моя жизнь переменится. Горечь и тоска постепенно уходили. Этот последний, пожалуй, единственный нужный мне подарок словно примирил со случившимся.
– Это у нее мотив есть! У нее! – Нике все же удалось перекричать остальных. – Алка, сама прикинь, она ж вся в шоколаде! Ей при любом раскладе бабла больше всех достанется! Это нам задницы рвать придется, чтоб копейки свои получить!
– Ника, подбирай, пожалуйста, выражения.
– А что? Алла, она, хоть и дура, верно говорит, – поддержала Веронику Ильве. – Дуся действительно получила больше всех, а значит, и Гарика убрать ей было выгоднее всех.
– Я не знала о завещании, – ненавижу оправдываться, но и молчать, когда в таком обвиняют, не могу. Не поверили. Ильве выразительно хмыкнула и произнесла:
– Ну да, Дуся, которая в курсе всех дел Игоря, вдруг не знала о завещании.
– А может, она и вправду…
– Топочка, ты лучше псинку свою уйми и не лезь во взрослые беседы.
– Действительно, Дуся, – мягко поддержала остальных Лизхен. – У вас и вправду имеется мотив. Только у вас…
– Неужели?
– Я лишилась супруга, которого любила, и осталась фактически ни с чем…
Я не хотела этого говорить. Я не люблю заглядывать в чужие жизни и уж тем паче вытряхивать перед всеми чужое грязное белье, но еще немного, и они договорятся. Они поймут, что сделать убийцей меня – выгодно, и найдут способ убедить в этом прочих. Поэтому, глубоко вдохнув и сжав конверт-треугольник так, что жесткие грани ключа, прорвав бумагу, впились в ладонь, я сказала:
– Игорь просил меня собрать информацию о некоем Викторе Горицыне. Возраст двадцать шесть лет, образование – высшее незаконченное, пятый курс юридического факультета МГУ, работает младшим сотрудником в небольшой частной компании, формально на хорошем счету.
С каждым словом Лизхен краснела все больше. Книжка, выскользнув из рук, громко шлепнулась на пол, и Ника, подняв, протянула:
– На, подруга, держи. А ты, оказывается, не совсем отмороженная…
– Заткнись! – зашипела Лизхен. – Он просто друг! Друг детства, и все!
– Ну да, конечно… Дуся, ты договаривай, договаривай, может, и вправду друг?
– Может. Я не успела выполнить просьбу, точнее, лишь передала ее службе безопасности, кстати, просьба была не единственной. Вторая касалась повторного анализа на отцовство, который следовало бы провести, не информируя вас, Ильве.
– Ур-р-род!
– Третья – финансового положения фирмы «АллКон», а именно последних заключенных ею контрактов. Извините, Алла Сергеевна, но Гарик считал: то, чем вы занимаетесь, можно квалифицировать как мошенничество. Четвертым пунктом шло некое десятилетней давности судебное дело, в котором свидетельницей проходила Татьяна Топина, пятым – наблюдение за квартирой Вероники. Не той, где вы сейчас проживаете, а той, которую сняли примерно полгода назад.
На ладони останутся следы, некрасивые красные полоски или даже синяки, но если отпустить ключ, смелость уйдет, и я никогда не скажу им то, что должна. Точнее, не столько должна, сколько хочу сказать.