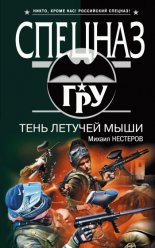Голоса исчезают – музыка остается Мощенко Владимир

2
Не сомневаюсь нисколько, что Флор, веселивший и печаливший публику своими очерками, статьями, репликами, в частности в журнале «Огонёк», в последние годы жизни испытал мильон терзаний, не в силах бороться словом с теми, кто привык «гнуть под себя факты», хотя бы в привычной ему реальности. Разве же он не замечал, как становятся дерзновеннее, смелее, многограннее его пишущие собратья. Всё круто менялось. С приходом «шестидесятников» в шахматной литературе и журналистике стало ощущаться новое, свежее дыхание, с чем согласился неугомонный, всегда готовый на парадоксальную шутку и небезопасные фейерверки почитатель Сало Флора Михаил Таль, с которым я нередко встречался и разговаривал в Тбилиси и Риге и который с удовольствием «оттачивал перо» и цитировался «широким кругом» читателей. Отзвуки этих разговоров с великим (и в чём-то трагичным) Талем – в моём «Горьком чешском шоколаде». Михаил Нехемьевич стоял на том, что людям вдруг захотелось увидеть человека, каким его рисовал Фёдор Достоевский, а не узаконенную схему, увидеть творческую личность во всех её человеческих и социальных взаимосвязях, а не пешку, тем паче в Большой Политической Игре, чётко обозначенной крупным деятелем партии большевиков Николаем Крыленко во время матча Ботвинник – Флор: «от шахмат – к политике» («таков твой путь, если ты хочешь идти вместе с нами, в рядах нашей единой шахматной организации»).
Началась пора хрущёвской «оттепели», пора ренессанса, давшей, по выражению поэта Евгения Евтушенко, «шестидесантников». Шахматная литература стала ощущаться частью всей отечественной литературы, которая, как говорил Василий Аксёнов, переживала процесс возрождения из парабиоза, из советской нежити. Без этого процесса не появились бы и «Записки злодея»
Виктора Корчного[57], где «возвратившийся невозвращенец» восклицал: «Кто знает, что случилось бы со мной, не будь у меня шахмат – этого ирреального мира, куда можно спрятаться от грязи жизни. Как однажды метко и цинично заметил один мой хороший приятель: „У вас, шахматистов, – важная миссия. Футболисты, хоккеисты – они нужны, чтобы люди поменьше водку пили, а вас показывают народу, чтобы он поменьше Солженицына читал!“»
Не появились бы и книги Юрия Авербаха, свидетельствующие о «жизни шахматиста в системе», и «Мои показания» Генны Сосонко, названного Гарри Каспаровым достойным продолжателем лучших традиций шахматной литературы первой половины двадцатого века, развитых, в частности, в довоенной русской эмиграции и почти полностью уничтоженных в СССР, «поскольку с началом советской гегемонии в шахматах игра сильно политизировалась и пропала малейшая возможность говорить о людях всю правду…»
Жаждой правды, в частности, пронизана долгожданная книга Вальтера Хеуэра «Пауль Керес» (М., 2004), посвящённая этому гению, хлебнувшему, как и Флор, лиха из-за Второй мировой войны и вхождения Эстонии в Советский Союз, вечно второму «матадору особого рода», о котором Макс Эйве сказал: «Когда я думаю о Пауле Кересе, читаю о нём или пишу предисловия к его биографиям, меня охватывает сильный протест против несправедливости жизни и общества по отношению к Кересу. Мы все бывали счастливы и несчастливы, но на протяжении длительного периода времени у большинства людей эти понятия как-то уравновешиваются. Но не для Кереса. С Кересом пришёл к концу удивительный и в то же время трагичный период в жизни шахмат».
Вот какая появилась тогда уверенность: конец трагичному периоду! Надежды на перемены на фоне упадка шахматной журналистики читатели начали связывать с именами тех, кто презирал законы «антишахмат». Дело не ограничивалось текстом партий – отнюдь: броско, правдиво изображались зарубежные гроссмейстеры, даже внешне не столь «однолинейные», как наши, – чудаковатые, забавные, обременённые заботами, но в то же время по-своему милые, религиозные или, наоборот, циники. Исчезала подобная однолинейность, шахматный мир в слове приобрёл многокрасочность и утратил «дробь барабанную».
3
О драме Флора-литератора мы нередко вели беседы с гроссмейстером Юрием Авербахом. Его заинтересовало моё желание поработать над книгой о Сало Михайловиче. Он обрадовался: давно пора! Вам надо, сказал он, почаще приходить к нам в Центральный шахматный клуб, когда здесь собираются едва ли не все пишущие на шахматные темы.
– У нас, – добавил он, – будет и Серёжа Воронков. Талантище и трудяга. Неужели вы с ним не знакомы?
И состоялось наконец моё знакомство с Воронковым, переросшее в дружбу. Он уже был автором популярнейших книг[58], которые в полной мере обладали новизной формы и содержания, о чём разговор – впереди. А пока – несколько слов о его отце, Борисе Григорьевиче, в ком текла кровь донских казаков, а к тому ж ещё – московских дворян, чьё детство было освящено добрыми старыми традициями: уроки французского и музыки, игра на фортепиано, любовь к литературе, к поэзии. Сочинял стихи – и часто очень неплохие, был сильным шахматистом[59]. Способностями своими не кичился. И ещё: чувствовал, какое тысячелетье на дворе. А кто тогда этого не чувствовал! Меня поразило некоторое сходство его судьбы с судьбами Юрия Грунина и Александра Ревича. Тоже воевал. На фронт уходил горячим патриотом. Не зря же им сказано: «Мальчишками, влюбленными в кого-то, мы в сорок первом уходили в бой. И первой шла студенческая рота: „Учебная! Не отставать! За мной!“ Рождённые на улицах Арбата, с Заставы Ильича и Моховой в атаку шли московские ребята: „За Родину! Не отставать! За мной!..“» И, как у многих, – окружение, плен…
По моей просьбе Сергей прислал отрывок из своих воспоминаний: «…Меня удивляло, почему отец, пройдя всю войну, имеет всего две медали: „За освобождение Праги“ и „За победу над Германией“? Он отшучивался: „Не заслужил“. Но однажды среди его фотографий я увидел снимок красавицы блондинки. „Кто это?“ Вот тогда-то отец и рассказал про концлагерь, как оттуда его взяли на ферму, как он там доил коров и плотничал, как влюбился в дочку хозяина (имя до сих пор не забыл – Инга Шпайдель), а она ответила взаимностью. Когда всё открылось, его отправили в тюрьму. Вообще-то за такое расстреливали, но, видно, фермер пожалел парня. Врезался в память и рассказ о побеге из той тюрьмы. Они – кажется, втроем – ночью прыгали то ли с крыши, то ли с третьего этажа, и один из беглецов сломал ногу. Что делать? На одной ноге далеко не уйдёшь, и утром наверняка всех поймают. Но как бросить друга на верную смерть?! Не знаю, чего стоило им решение уйти (несчастный уговаривал оставить его), но отец до конца дней ощущал свою вину перед этим человеком… Попал к польским партизанам и почти год сражался в Армии Крайовой… Невысказанное мучило его, выплёскивалось ночами на бумагу, а по утрам снова запиралось в стол, подальше от случайных глаз. Прошлое ему не принадлежало, вместо него была запись в военном билете: „Участвовал в партизанском отряде с 17.02.1942 г. по 26.01.1945 г.“. Запись, когда-то спасшая отца, ибо путь из немецкого лагеря для многих заканчивался в Сибири… Правда, свобода обошлась дорого. Он всегда помнил слова капитана-смершевца, который допрашивал его в январе 1945-го: „Вот что, парень. Всё, что ты мне тут рассказал, – забудь и никому больше никогда не рассказывай!“ В молодости трудно осознать цену пожизненного молчания… Он даже не мог опубликовать свои военные стихи! Появись они в печати при жизни отца, он был бы вынужден рассказать о том, как летом 1941 года попал в плен…»
Перед смертью Борис Воронков уничтожил свои записи. К сожалению, осталось лишь несколько стихотворений да черновик, случайно вложенный им в стопку чистой бумаги: «Эх, судьба ты, судьба проклятая! Что с годами ты делаешь с нами? Мы стояли насмерть солдатами, а теперь мы стали рабами…» Уцелевшие строки тоже наполнены горечью. «Мальчишек тех давно уж нет на свете…»; «Он шёл под конвоем в чужую страну…»; «Размерно шагал немецкий конвой, трофейным давясь шоколадом. И где-то всё глуше за нашей спиной ломилась в леса канонада…»; «Лай овчарок стынет по утрам. Кричев, Могилёв – родное небо! Пополам с мякиной двести грамм русского из рук немецких хлеба…»
Влияние отца на Сергея было огромным. Многому он научился у него и, думая о нём, многое переосмыслил. И хотя в книге «Шедевры и драмы чемпионатов СССР. 1920–1937» (М., 2007) он не повествует об отце, здесь тень его, пусть и не видимая постороннему глазу, сродни той, знаменитой и бессмертной, в шекспировском «Гамлете». Но Воронков-младший пошёл гораздо дальше: он заявил о намерении в своём творчестве выступать с открытым забралом (так, кстати, называется одна из главок книги). Спору нет, и до него было немало хороших книг, посвящённых шахматам и шахматистам, – и тем не менее всё созданное им, литератором, историком, бывшим в течение тринадцати лет шахматным редактором издательства «Физкультура и спорт» и затем – на протяжении семи лет – заместителем главного редактора журнала «Шахматы в СССР/России», – стоит особняком.
4
Как он сам характеризует свою творческую манеру? Он видит её прежде всего в своеобразных «кадрах» истории – то есть фактах, зафиксированных его величеством временем и удостоверенных соответствующими публикациями старых газет, бюллетеней, журналов, мемуарами видных современников, официальными документами и т. п.; проще: речь идёт о «кадрах», от которых, по его мнению, «никому при всём желании не отвертеться». Отсюда – и слова Воронкова: мол, не заблуждайтесь, господа, мой жанр сродни документальному кино; а как утверждал создатель фильма «Обыкновенный фашизм» Михаил Ильич Ромм, документальное кино – это далеко не компиляция, это особый вид авторского кинематографа, действующего на умы и сердца миллионов.
Впрочем, нельзя не согласиться с тем, что подобная специфическая фактура использовалась и прежде, в частности, в очерках того же Сало Флора, в изданной у нас книге Александра Алехина «На пути к высшим шахматным достижениям». Здесь можно найти, к примеру, рецензию Владимира Набокова, дающую оценку сборнику Е. А. Зноско-Боровского «Капабланка – Алехин. Париж, 1927», бесценные статьи Эм. Ласкера, С. Тартаковера, З. Тарраша, Р. Рети, Р. Шпильмана, П. Романовского, А. Ильина-Женевского, Г. Левенфиша, Н. Грекова, корреспонденции Вяч. Рахманова из Буэнос-Айреса, строки из дневников журналистов…
Да вот не найдём мы в сборнике (по понятным соображениям: период-то был советский) того, что можно назвать закономерностью страшного конца нашего великого гроссмейстера: его разрыв с большевистской Россией, гнев её вождей, вызывавшийся одним его именем, гнетущая тоска А. А. по Родине, пристрастие к выпивке, все мытарства, которые, к несчастью, выпали на его долю в годы Второй мировой.
Нина Грушкова-Бельская рассказывала мне, что в 1943-м она, совсем юная (но уже чемпионка Моравии), встречалась с Алехиным, сильно сдавшим, осунувшимся, еле выжившим после скарлатины (в его-то возрасте), подавленным (и куда прежняя горделивая стать его подевалась!), вспоминавшим со всеми потрясающими подробностями о том, как ещё в годы Первой мировой его вместе с другими русскими участниками турнира в Мангейме, в Германии, арестовали и объявили военнопленным, тяжело переживавшим неудачи в любовных делах, всяческие унижения «сороковых-роковых» и весть о разграблении его загородного дома (шато) во Франции, рядом с Дьеппом, – и тем не менее, несмотря на упадок сил, надеявшимся сыграть матч с Паулем Кересом. Известно, что было потом: конец войны, выступление чемпиона мира на банкете в парижском Русском клубе, после чего падкие на сенсации журналисты, очевидно, исказили смысл его спича, объявление, с одной стороны, советской властью А. А. своим заклятым врагом, а с другой – бойкота Алехину большой группой во главе с экс-чемпионом Максом Эйве, готовность генеральной ассамблеи ФИДЕ рассмотреть этот вопрос, прозябание и тоска непобеждённого чемипиона в Эшториле – португальской Ривьере, одинокая смерть чемпиона за шахматным столиком…
Прошу прощения за столь некороткое отступление. Но оно понадобилось мне для того, чтобы утверждать: к сожалению, у нас до сих пор нет полноценной книги об А. А. Алехине; даже книга Юрия Шабурова в серии ЖЗЛ (сознательно или бессознательно) обошла массу «острых углов»; ну и не считать же творческой удачей роман (или подобие романа) Александра Котова «Белые и чёрные», который остроумец Сало Флор называл «произведением социалистического реализма» – из-за его подрумянок и «патетических» несуразностей.
Как видим, «кадры», «документальная раскадровка», о которых говорит Сергей Воронков, – ещё далеко не всё. Очень много – но не всё. Его творческий метод (вот на что следует обратить внимание) опирается на достижения классиков мировой художественной литературы, отчётливо сознававших, что и в так называемой «теме» шахмат (как общечеловеческой), будто в особом фокусе, может проявиться «горестная участь личности», по гениальному замечанию В. Г. Белинского. Не зря же двухтомник о Фёдоре Богатырчуке Воронков назвал «Доктор Живаго советских шахмат» (М., 2013), сделав заявку на исследование судьбы своего героя, выдающегося шахматного мастера (клавшего на лопатки самого Михаила Ботвинника) и учёного – рентгенолога, радиолога и геронтолога с мировым именем, в некоторой, пусть и условной, увязке с судьбой героя Б. Л. Пастернака – Юрия Андреевича, человека яркого и противоречивого, пленника своей эпохи, чья трагедия взволновала и продолжает волновать до сих пор читательский мир. Воронков в связи с этим делает ударение на том, что Фёдор Бондарчук. сам сравнивал свою судьбу с судьбой доктора Живаго, «упоминал, что ему как-то сказали, что некоторые детали были списаны с него, с его печальным опытом врача, рекрутированного под угрозой оружия, а поэзия заменила шахматы для удобства сюжета и как более естественная для романа».
Вектор исследования судеб персонажей книг Воронкова со всей очевидностью указывает на его специфически-генетическую, идейную зависимость от таких шедевров, как «Защита Лужина» Владимира Набокова и «Шахматная новелла» Стефана Цвейга. И то, и другое произведение основываются на контрапункте, вскрывающем весь ужас бытия, несмотря на то, что в нём, этом бытии, есть место и быстротечным земным радостям, и надеждам, и иллюзиям. Кто главное действующее лицо цвейговской новеллы? Неужто же игроцкий монстр Мирко Чентович, схожий с муравьём в достижении поставленной цели? (У нас, заметим в скобках, таковые водились.) Было бы крайне обидно, если б именно он стоял в центре повествования. Да и, скажем прямо, об этой повести в таком случае давным-давно забыли бы, ибо она не затронула бы ничьего воображения. В том-то и секрет, что не этот персонаж вдохновил писателя. На первом плане у Ст. Цвейга – «человек лет сорока пяти с узким, мертвенно-бледным лицом», подвергшийся изощрённым пыткам захвативших Вену гитлеровцев, которые погрузили его в вакуум, изолировав от мира, от людей (ни книг, ни газет, ни бумаги; даже часы отобрали), он был как водолаз в батисфере. Впрочем, всё изменилось, когда во время мучительного допроса ему удалось незаметно от следователя стащить пособие по игре в шахматы, где «были расписаны лучшие партии» (150), – и жизнь его изменилась! Он стал гением – но какой ценой: сражаясь сразу за белых и за чёрных, считая на десятки ходов вперёд, рассматривая все варианты! Вот кому удалось разгромить Чентовича, хотя и его бытие было сокрушено извергами рода человеческого и проваливалось в бездну.
Безжалостно сокрушённой (войной, Октябрьским переворотом, высылкой за границу и т. д.) оказалась и жизнь набоковского Лужина, чьим прототипом послужил Алехин и чьей характерной чертой стала… незащищённость.
Итак, вот то главное, к чему мы стремились: здесь шахматы – на срезе трагедии и драмы, а в их центре – человек, каким бы гениальным он ни был. И, может быть, чем гениальнее человек, тем они явственней и, естественно, индивидуальнее, что ещё ужаснее.
Именно первая книга С. Воронкова и Д. Плисецкого «Давид Яновский» начинается с установки, данной Михаилом Роммом: «Анализ того, что происходит в мире, на документальном материале в тысячу раз доказательней, чем любая инсценировка этого мира. В документе остаётся навек память человечества». Но уже и тогда можно было заметить, как велика роль «склейки частей» и «дикторского текста». Обращение к читателю настраивало на особый лад: «Знакомо ли вам чувство страстного ожидания, с каким перелистываешь ломкие от ветхости страницы старых журналов? рассматриваешь стёртые, много раз переснятые фотографии? вглядываешься в кадры давней хроники – немой и быстробегущей?.. Усаживайтесь поудобней, свет в зале уже гаснет. Откуда-то сзади возникает мерное стрекотание, потом всё разом проваливается в темноту… и вот уже в тусклом экранном свечении старые, вытертые кресла синематографа становятся бархатными. Негромко вступает рояль…»
То был первый опыт, но и он оставил сильное впечатление. Мы увидели великого шахматиста с необычной судьбой, с психикой, чем-то напоминающей психику загнанного в угол набоковского Лужина, увидели человека в немалой степени по-талевски авантюрного, способного на красоту игрового конфликта и на конфликты, диктующиеся взрывами темперамента, на котором, скорее всего, и зиждется добыча этой красоты. Это был французский чемпион, не имевший французского паспорта, бедолага, попавший за компанию с Алехиным в передрягу военного 1914-го (Мангейм), потом, будто персонаж Ремарка, искавший где-нибудь и хоть какого-нибудь пристанища[60], наконец оказавшийся в Америке (да так и не удосужившийся принять её гражданство), не перенёсший нью-йоркского климата, что привело к резкому ухудшению здоровья, и отправленный сердобольными товарищами во Францию, где он в возрасте 59 лет и скончался в крошечном Йере. Кстати, весьма примечательны приведённые в книге прощальные слова Осипа Бернштейна: «Последние годы Яновского были очень трудными. Он болел, у него почти не было друзей…» Яновский был настоящим поэтом шахмат. А как сказано в известных стихах, «поэты умирают без любви».
А теперь – об «Исповеди последнего шахматного романтика» (или «Давид против Голиафа»). Ярко и выпукло Сергей Воронков раскрывает здесь «секреты» Давида Бронштейна, бунтаря (по определению Гарри Каспарова), «хитроумного Дэвика», драматическое противостояние этой выдающейся творческой личности не только с бездушным компьютером, но и с бездушием властной системы, которая была олицетворена в исполинской и мефистофельской по сути фигуре Михаила Ботвинника. Не обойдусь без отсебятины. Когда я какое-то время жил у моей дочери в Испании, в Овьедо, я не догадывался, что где-то по соседству живёт Давид Ионович, удравший из Москвы, чьи слякотные зимы (а может, не только они) ему до чёртиков надоели. Как сказал мне впоследствии Воронков, жаль, что я не встретился с Бронштейном: тот радовался каждому, кто приезжал из России, и нуждался в интересных собеседниках, – а я познакомил бы его с моим зятем – виолончелистом Михаилом Мильманом и другими музыкантами из оркестра «Виртуозы Москвы», которые обосновались в Астурии.
Печальна главка, где говорится, как Бронштейна «изгнали из этого рая» (закончился срок контракта) и как ему пришлось возвращаться в родные пенаты. Он признавался, что горевал по этому поводу: ведь «испанский паспорт открывал передо мною границы, не надо было вечно выпрашивать визы, объяснять, кто я, откуда и почему мне не сидится на месте. Ведь престиж профессии шахматиста в мире падал всё ниже, и сотрудники посольств резонно недоумевали, зачем пожилой российский гроссмейстер спешит на турнир, ему бы на печке лежать…» И как не согласиться с Гарри Каспаровым, написавшим, что «такой книги, как „Давид против Голиафа“, в шахматах ещё не было!»
Могу добавить, что не было никогда в нашей стране и такой книги, как «Шедевры и драмы…», в которой с удивительной убедительностью и силой развенчивается бренд «советская шахматная школа». В ней, вместо набивших оскомину баек, – блеск творчества и в то же время нищета подчинения государственной идее, помноженная на трагедии народа и отдельной личности. Сотни шахматистов имели право вослед за Анной Ахматовой повторить слова из её «Реквиема»: «Я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был». А как выразительны названия главок! «Осколки былого величия», «Смерть врагам революции!», «Нужен подлинно советский чемпион», «Полемика с переходом на личность», «Пир во время чумы», «Червонцы от диктатуры пролетариата», «Кто не с нами, тот против нас», «Нечеловеческая власть»… Сергей Воронков показал, как была тогда политизирована шахматная пресса: её логотипом стал призыв: «Смерть врагам революции!» Ведущие наши гроссмейстеры, которые остались на Западе, были объявлены фашистскими прихвостнями.
При подготовке романа-хроники, посвящённого судьбе гроссмейстера Сало Флора, я получил от Сергея Воронкова драгоценнейший подарок – записки из дневника Галины Михайловны Петровой-Маттис, вдовы загубленного чекистами в годы массового террора высокоодарённого Владимира Петрова[61], где подробно рассказывается о событиях тех лет. Она общалась с Раисой Ильиничной, женой Флора, по происхождению москвичкой, да и с ним самим была в дружеских отношениях. Вот характерный отрывок из этого дневника: «Как-то зашёл разговор о Москве. Зная от Раисы, что САЛО НЕ ХОЧЕТ ТУДА ПЕРЕЕЗЖАТЬ, я задала вопрос (не помню какой), касающийся этой темы. САЛО РЕЗКО ОТЗЫВАЛСЯ О ЖИЗНИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. ГОВОРИЛ, ЧТО ТАМ НАДО БОЯТЬСЯ КАЖДОГО СВОЕГО СЛОВА, ЧТО ТАМ ВСЁ ПОДСЛУШИВАЮТ, ВСЁ ВЫВЕДЫВАЮТ, ЧТО НАДО БОЯТЬСЯ КАЖДОГО НОВОГО ЧЕЛОВЕКА, С КЕМ ВСТРЕТИШЬСЯ. РАЯ ЕМУ ВОЗРАЖАЛА, ОСПАРИВАЛА, НА ЭТО ОН ОТВЕЧАЛ ОЧЕНЬ РЕЗКО И РАЗДРАЖЁННО (выделено мной. – В. М.). Наверное, такие разговоры между ними уже бывали. Невольно я оказалась виноватой в этой „перепалке“. Володя потом на меня сердился…»
5
В «Шедеврах и драмах» можно найти зерно, из которого произрос двухтомник Сергея Воронкова, – я имею в виду свидетельство «доктора Живаго советских шахмат» – Фёдора Богатырчука: «…В это время власть и возглавлявший её Сталин полностью распоясались и издевались над народом как хотели». А вот как говорит Богатырчук о визите к наркомюсту Н. Крыленко, курировавшему шахматы по личному поручению «великого вождя»: «Легендарного главковерха и генерального прокурора СССР я видел неоднократно при исполнении им шахматных обязанностей. Это был среднего роста, склонный к полноте человек с открытым и даже добродушным, но в то же время волевым лицом, никак не выдававшим той жестокости и беспощадности, с которой он требовал высшей меры наказания для пресловутых „врагов народа“. <…> В начале года арестовали моего второго секретаря шахматной секции Н. Г. <…> Один из комсомольцев-шахматистов, имевших какие-то связи с НКВД, сообщил мне, что якобы Н. Г. снял комнату неподалёку от товарной станции, и его обвинили в том, что он считал поезда с военным снаряжением и передавал эти сведения членам троцкистской группы при помощи невидимых чернил, будто бы найденных у него при обыске. Больше я Н. Г. не видел и ничего о его судьбе не знаю».
Действительно, от таких документальных кадров отвертеться никак невозможно, и Сергей Воронков умело их компонует, сопровождая редчайшими иллюстрациями, а если надо, то и комментирует – коротко, зато образно, энергично, воссоздавая портрет эпохи и портреты принадлежавших ей шахматистов.
Таким образом, мы перешли к двухтомнику о Богатырчуке. В годы строительства коммунизма имя Фёдора Парфеньевича, «явного врага народа и несомненного изменника», избежавшего «карающего меча пролетариата», злонамеренно замалчивалось как навечно опозоренное. Как замечает Воронков, Ф. Б. умер накануне первого матча Карпов – Каспаров, а родился, когда на троне восседал ещё Стейниц. «От первого шахматного короля до тринадцатого – вот это биография! Впрочем, в Москве о смерти бывшего чемпиона СССР тогда никто не узнал: имя человека, открыто бросившего вызов советской власти, да ещё посмевшего назвать свою книгу «Мой жизненный путь к Власову и Пражскому манифесту», уже давно находилось под строжайшим запретом. Для системы это был враг похлеще Корчного, второго такого в наших шахматах и не найти!»
В двухтомнике слышен голос Ф. Б.: «Иногда они пишут обо мне как о предателе в прессе, предназначенной для эмигрантов. Когда Шахматная федерация Канады попросила ФИДЕ присвоить мне звание гроссмейстера, советские сказали, что звание не может быть присвоено „предателю“, то есть мне, несмотря на тот факт, что я никогда не скрывал своего имени. Очень интересно – „предатель“, который совершенно не прячется, который, напротив, открыто выступает всякий раз, когда они подавляют свободу». Правда, сегодня табу на имя Ф. Б. не существует. Загляните в интернет – и википедия кое-что подскажет вам. Ну, вот, допустим: «В 1937 году против Богатырчука, в тот момент председателя шахматной федерации Украины, была развязана кампания в прессе. Его обвинили в растрате средств, выделенных на киевский шахматный клуб. Когда Богатырчук обратился в ЦК КП(б)У за разъяснениями, ему, по его собственным словам, заявили следующее: „Знаете, товарищ Богатырчук, и напечатание статьи в газете, и другие проявления недовольства вашей работой явились результатом того, что вашему политическому облику наша общественность больше не доверяет. Возьмем, к примеру, ваш выигрыш у Ботвинника в турнире 1935 года. Мы знаем, что у вас в турнире было плохое положение и что вы знали, какое громадное значение для престижа СССР являлось бы получение Ботвинником единоличного первого приза. И несмотря на это, вы приложили все усилия, чтобы эту партию выиграть“».
Двухтомник показывает, что делалось всё возможное, чтобы очернить образ Ф. Б. И, в свою очередь, страстно доказывает, опираясь на «показания свидетелей», что Фёдор Парфеньевич был не только лишь «светлым рыцарем Каиссы», чьи неувядаемые партии будут образцами шахматного искусства, но и истинным человеколюбцем. Он всегда и всем нуждающимся спешил на подмогу. Его называли «коллаборационистом»? Отчего же? Сотрудничал с гитлеровцами, которые оккупировали Украину? Чушь! Его потрясли события, связанные с расстрелами в Бабьем Яре, когда он «уразумел, что Киев попал из объятий одного разбойника в объятия друго го, не менее жестокого и беспощадного. Как председатель Объеди нения киевских врачей, добавляет Воронков, Богатырчук пытался вызволить коллег-евреев, «но это (пишет Ф. Б.) было совершенно безнадёжное дело: меня просто посылали по циничному выражению немцев, – от Понтия к Пилату, а все протесты выбрасывали в сорный ящик, угрожая расправиться со мной».
Ещё один «кадр» – свидетельство дочери Ф. Б.: «Единственное, что мог сделать отец, – это помочь некоторым близким бежать из Киева, не ожидая, пока сосед по коммунальной квартире донесёт, что в их квартире скрывается еврей или „полуеврей“». И ещё один кадр – от Ефима Лазарева: «Вспоминается, как Федерация шахмат Украины перед чемпионатом республики 1959 года выпускала буклет, в котором следовало указать фамилии всех чемпионов УССР. Ряд киевских шахматистов выступил против того, чтобы там упоминался Богатырчук. С этим, однако, не согласился мастер Борис Ратнер (кстати, участник войны). Он подчёркивал: „Богатырчук немцам не служил! Он во время оккупации руководил больницей Украинского Красного Креста, где, в частности, прятал мою родную сестру и спас её, и не только её, от Бабьего Яра! Она и я до нашей смерти будем благодарны Фёдору Парфеньевичу!“»
Чемпион мира Борис Спасский в своём предисловии к «Доктору Живаго советских шахмат» не обошёл вниманием эти впечатляющие факты. Он пишет, как в 1967 году на Сочинском турнире встретил Бориса Яковлевича Ратнера, который вдруг обратился к нему с просьбой: «Я знаю, что вы едете в Канаду, на турнир в Виннипеге. Если встретите там Богатырчука, передайте ему от меня сердечный привет и благодарность».
Я был на презентации двухтомника Воронкова, проходившей в Государственной научно-технической библиотеке, которая приобрела особое значение, поскольку на неё прибыл Борис Васильевич, едва оправившийся после парализации. Это было и волнующе, и трогательно. Мне вспомнился концерт великого пианиста Оскара Питерсона, который он дал в Карнеги Холле, почти не пользуясь левой рукой. Диск с записью этого концерта трудно смотреть без слёз. Таким же незабываемым событием было и выступление Спасского. Два момента из него запомнились сильнее всего. Это – любовь к Фёдору Богатырчуку, с которым он встречался в Канаде, хотя такая встреча не сулила ему ничего хорошего. «Широта натуры и доброжелательность всегда покоряли людей, знавших Фёдора Парфеньевича. „Орёл не ловит мух“ – гласит латинская поговорка. Его свободный дух, его шахматная эрудиция и яркая публицистика были свежей струёй, пытающейся пробиться в наше затхлое, крепко законопаченное помещение…» И это, кроме того, – огромная благодарность автору двухтомника Сергею Воронкову, чей едва ли не 10-летний труд над ним равен подвигу.
…Что остаётся сказать? Сало Флор не мог совершить такой подвиг. Тут нет его вины. Никакой. И вся эта история – лишь одна иллюстрация «шедевров и драм» советских шахмат.
Глава 12. Что-то вроде авторской исповеди (вместо эпилога)
1
«Начинай не с самого начала». У кого это сказано? У Аристофана, кажется. А может, у Еврипида. Надо проверить. Обязательно проверю. Но, согласитесь, сказано-то навека. Не отсюда ли и пастернаковское: «Стоит на мёртвой точке час, не оттого ль, что он намечен?..» А с намеченного – на крыльцо, на ступени, чтобы увидеть «у всех пяти зеркал лицо грозы, с себя сорвавшей маску».
Идею попытаться написать книгу воспоминаний подсказал мне Дионисио Гарсиа, ветеран российского Испанского Центра, когда, приехав из морозной январской Москвы в тёплую Астурию, чтобы прийти в себя после болезни, я встретился с ним. Об этой встрече мы договорились ещё в Москве. Он поразил меня страстью к писательству, причём сразу на двух языках – на испанском и на русском, который знал в совершенстве и тонкостях, начитанностью, крестьянскими навыками и некой столичной выправкой. Я, говорил он, скорпион по западному гороскопу и Дракон – по восточному, угораздило, мол: жутковатые названия. Однако успокоился, когда выяснил, что и Скорпион, и Дракон – как знаки – вполне симпатичные существа. Он и был симпатичнейшим человеком.
В Овьедо он спросил меня:
– Над книгой будете здесь работать?
– Не собираюсь пока, – ответил я. – Попозже, может быть.
– А о чём хотите писать? Мемуары, кажется? О себе?
– Почему – о себе?
– А слова Достоевского в «Записках из подполья» не помните? «О чём может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? Ответ: о себе. Ну так и я буду говорить о себе».
– Мне о других сказать хочется, – возразил я. – О тех, без кого я мало что значу.
Дионисио широко заулыбался:
– Ну, значит, и о себе. Иначе не бывает.
Он был доволен, что убедил меня, настоял на своём. Он всегда стремился настоять на своём – даже когда в конце тридцатых попал в числе испанских детей[62] в советский детдом, где пристрастился к чтению, к сочинению рассказов, в которых повествовал о своём детстве.
– А давайте-ка побываем вдвоём в моих родных местах, – предложил он.
– А где вы родились?
– Родился я в Серрапио. В тот же день, как я появился на свет, меня и окрестили. Принято так было в сельской местности. При желании или при особой нужде (например, когда нужно показать свою родословную), можно «пристёгивать» по очереди фамилии дедов и прадедов, так что я могу называться Дионисио Гарсия Сапико Гарсия Фернандес Фаэс Гутьеррес… Эк его! – скажет русский человек. Ну, что делать. Во младенчестве моём семья переселилась в деревню Орильес – это повыше в горы, два с половиной километра по извилистой дороге от Серрапио. Отец (его звали Эрминио) значил для меня много больше, чем мать, хотя любил я её ничуть не меньше. Он и сейчас у меня перед глазами: маленького роста, зато крепкого телосложения, как и всякий шахтёр-забойщик, небольшие усы. Когда я, побывав на родине, спросил у матери, какого он был роста, она примерилась ко мне взглядом и сказала: «Как ты», то есть 161 сантиметр (к старости растём вниз; теперь я ещё ниже). К нему тянулись люди. Вот вы иной раз пишете о музыке. Если не трудно, упомяните, что мой Эрминио играл на дудке (иначе – блок-флейте) и на волынке. По виду волынка, всегда богато украшенная бахромой, – более сложный инструмент, чем флейта, но по существу, по пальцовке, такой же простой. Представьте себе кожаный мешок размером с маленькую подушечку для сидения; в него вставлены несколько трубок: в одну, верхнюю, вдувают в мешок воздух, другая трубка, торчащая вниз, несколько сбоку, с пищиком для извлечения звука и отверстиями – для игры; третья трубка большая, тоже с пищиком, но без других отверстий, и значит издающая всегда один и тот же звук. Кожаный мешочек устраивают под мышкой, в верхнюю трубку губами вдувают воздух… Пока инструмент этот звучит, не исчезнет веселье и не исчерпается сила народной жизни.
Тут Дионисио не остановить! Его конёк. Рассказывает, как во время праздников – всяких, церковных и не церковных, – селяне собирались где-нибудь между домами, на малюсенькой площади; там речи рекой лились, пили сидр, вино, закусывали окороком и сыром, шутили, пели, танцевали, а надо всем – волынка. Чередуясь, играли двое или трое – те, кто умел. Доходила очередь до отца, и Дионисио преисполнялся гордостью: мой-то сейчас покажет, не только уголь добывать умеет, его музыка каждого заводит. Эрминио научил и сына играть на дудке (у братьев почему-то не получалось, или они просто не полюбили это занятие). Мы, говорит Дионисио, часто играли с ним народные мелодии, которые я до сих пор помню; могу вам сыграть хоть сейчас; от них веет глубокой стариной; слышал, что астурийцы – потомки древних кельтов, племён, обитавших в самой западной части Европы, за Рейном, включая северную Италию и северную Испанию; возможно, эти мелодии – от них.
Отец никогда не танцевал: танцы казались ему неподобающим серьёзному человеку занятием. С детьми был строг; наказывал их за проделки своим знаменитым ремнём молча, бесстрастно, деловито – так, как колют дрова или пол подметают. По вечерам, после ужина, он довольно часто читал ребятам книги. Прикрепив к стене листы бумаги с написанными его чётким почерком несколькими баснями, велел детям их выучить. Позже, уже в России, в детдоме, на уроках испанского языка и литературы, среди прочих басен задали выучить и те, отцовские.
В четырёхклассной сельской школе проучился Дионисио только год: в июне 1936-го началась Гражданская война. А 1934-й ознаменовался рабочими волнениями, которые в Астурии вылились в вооружённое восстание. Дружины рабочих заняли столицу Овьедо и удерживали её целый месяц. Восстание было подавлено, и, как обычно, начались аресты и суды. Дионисио был свидетелем такой сцены (ему шёл шестой год): «В наше село нагрянули полицейские; они приехали на своих длинных открытых машинах; стали быстро ходить по домам; явились и к нам, энергично шарили повсюду, открывали шкафы и сундуки, вытряхивали оттуда одежду, бельё… (Это Солженицын или Шаламов могли бы здорово описать!) Мать ходит за ними, жалуется, кричит, плачет – они не обращают на неё никакого внимания. Отец неподвижно и молча наблюдает. Наконец полицейские нашли большой моток бикфордова шнура, используемого в шахтах для подрыва скальной породы. Они допрашивали отца, он им что-то объяснял. Кончилось тем, что они надели на него наручники и увели. Мы, дети, смотрели на всё это примерно так же, как потом смотрели кино. Всех арестованных собрали на небольшой нашей площади и поставили их в круг, лицом друг к другу. Приведут нового – круг расширяется. Я смотрел на отца в наручниках и ничего особенного не чувствовал: я плохо понимал происходящее. Возможно, думал: у взрослых происходит что-то очень важное. Народ молча окружил арестованных. Если бы люди кричали что-то, протестовали, я бы запомнил это. В памяти осталась такая сценка: около высокого молодого парня из арестованных стоит молодая женщина, плачет и что-то говорит, припав к его плечу. Я слышал только обрывки разговора, но по движениям парня, по его лицу могу теперь передать его слова так: мол, перестань… люди смотрят… стыдно; ничего страшного… обойдётся… Отца осудили на несколько месяцев тюрьмы.
Мы едем с Дионисио, поглядывая на горы. Молчим.
Потом он опять рассказывает:
– Два года держалась республика. Пала она – и пошли в ход репрессии. Говорят о двухстах тысячах расстрелянных и двух миллионах заключённых. Победители поступили хитро: несколько месяцев мало кого трогали, арестовывали только главных противников, некоторых уличённых в «военных преступлениях». Затем репрессии почти прекратились, и все, кто боялся ареста, вышли из своих укрытий, вернулись домой, устроились на работу. Так поступил и наш отец, скрывавшийся у друзей в другой провинции. Ему сообщили, что всё спокойно, что аресты закончились, что знакомые уже работают на известных ему шахтах, и он вернулся. Франкисты же устроили облаву, схватили всех, кого считали виновными в убийствах богачей, грабежах, поджогах монастырей… Среди них оказался наш отец. Рано утром к арестантам являлась расстрельная команда, старший зачитывал список приговорённых, и те, чьи имена он называл, отвечали как положено: «Здесь!» После переклички приговорённых выводили, увозили на грузовике подальше от селений и расстреливали; жертвы сами падали в яму. Ставили следующих, расстреливали и затем закапывали. Сколько раз я представлял себе эту жуткую сцену: «Эрминио Гарсия и Гарсия!» – «Здесь!» О чём он думал в эту минуту? Может быть, вспоминал нас, своих детей, остающихся жить без него, далеко на чужбине? Он знал, что нас отправили за границу, в особые детские дома. А может, ни о чём не думал и ничего не чувствовал? В России, в восемнадцатом году, одного молоденького офицера, уже поставленного к стенке и чудом спасшегося, знакомый священник потом спросил: «Митя, что ты чувствовал тогда? Страшно было?» – «Ничего не чувствовал, весь одеревенел».
– А как сложилась ваша судьба, после того как вас привезли в СССР?
– Ну, это целый роман. Я его когда-нибудь напишу.
– На испанском или на русском?
– В общем, всё равно. Главное – показать, как жизнь перевёртывается (можно так сказать – перевёртывается?), когда льётся кровь, человек теряет право на жизнь и вообще все права. Запомнилась посадка на корабль в Хихоне. Незнакомые звуки и запахи порта, торопливые движения взрослых, молчаливые группы детей – всё говорило о том, что совершается что-то очень значительное, непоправимое. И сейчас снится: я, деревенский мальчик, поднимаюсь по трапу, один, оторванный от родной семьи, в толпе чужих людей… Прибыли в Ленинград. Вот она, страна социализма! Нас встречала несметная толпа народа. Милиционеры, взявшись за руки, устроили для нас коридор для прохода. Нам суют шоколадки, конфеты. Мне (наверное, и другим детям) надавали денег – видимо, те, кто не догадался купить сладостей. Деньги я сунул за пазуху. Потом нас повели в баню. И – о ужас: найденные у нас рубли не вернули. Вскоре я подхватил флегмонозную ангину, которая у меня часто повторялась. А летом 1938 года на недолгий срок я оказался в окрестностях Одессы. Не помню даже, почему и как. Этим же летом нас перевели под Калугу, в село Ахлебинино, неподалёку от Оки. Тут я увидел побивание камнями и палками портретов некоторых разоблачённых вождей, в том числе Бухарина, Рыкова, Блюхера и других, висевших по стенам коридора, ведущего в классы. К новому учебному году отправили весь детдом на железнодорожную станцию Тарасовка, в сосновый бор на берегу Клязьмы. Кто-то распорядился, чтобы ребята старшего возраста дежурили в лесу на случай появления в нашей местности диверсантов-парашютистов. Одного из ребят-испанцев, Юлиана, по ошибке застрелили патрульные из здешних рабочих. Вообще-то очень многих из нас мы не досчитались. Из-за наступления немцев где-то в августе весь детдом поднялся с насиженного места и, словно огромный цыганский табор, отправился кочевать. По Москве-реке, по Оке, затем по Волге поплыли мы на юг, за Саратов, и что интересно – к немцам Поволжья! Выгрузились на пристани Нижней Добринки, 140 километров южнее Саратова и 200 километров севернее Сталинграда – вот куда нас забросило! И снова громадным табором, везя скарб на грузовиках и телегах, а сами пешком поплелись к селу Галка, расположенному в семи километрах от Добринки, на высоком берегу Волги. Это очень большое немецкое село. Советских немцев уже третий день как выселили оттуда, дав им три дня на сборы. Поместили нас в большом каменном двухэтажном доме, где раньше находилась школа и нечто вроде клуба со всякими комнатами для кружковых занятий и актовым залом. На стене висел плакат: «ES LEBE GENOSSE STALIN! (Да здравствует товарищ Сталин!)». Использовали нас на полевых работах, да и на любых других, когда требовалось. Голодали мы, конечно, нередко. Разве одни мы? Кое-что из съестного подворовывали. Попадались. И милиция задерживала – кто с жестокостью, кто – с состраданием. Что дальше? Орехово-Зуево. Завод «Карболит». Техникум. В общежитии – трофейный альт-саксофон, красивый инструмент, из белого металла, с позолоченным изнутри раструбом и клавишами, украшенными перламутром. Я быстро выучился играть на нём. Стал читать такие книги, как «Опыты» Мишеля Монтеня. После окончания войны мои испанцы стали возвращаться на родину. Большинство плакали, клялись, что сюда больше – ни ногой: столько перестрадали. Но были и такие, что всё собирались вместе с ними, да так и не смогли оставить землю, которая их приютила. Трудно описать чувства, испытанные тогда мною. Просто невозможно. Я никуда не уехал.
– Это как с поэтом Юрием Груниным, – сказал я.
– Да, – отозвался Дионисио, – вы рассказывали. Он был зэком в Джезказгане, там и остался доживать свою жизнь. В общем, я догадался, на что вы намекаете. Вы и о нём хотите написать?
– Обязательно.
– Ну вот и замечательно. Чтобы вы не забывали о своём обещании и о сегодняшней нашей встрече, я вам подарю этот ветхий альбом пьес Баха с прелюдиями, менуэтами, сарабандами, маршами в переложении для мандолины. Да, и эту вот книгу – «Исповедь» Жан-Жака Руссо (к сожалению, на испанском).
Возвращаясь, мы задержались у главного символа города – Кафедрального собора, который в течение веков неоднократно реставрировался и перестраивался; в неизменном виде сохранилась лишь колокольня, датируемая XV столетием. На территории собора – Сокровищница (Camara Santa), где хранится коллекция религиозных экспонатов, среди которых самые известные – крест Победы и крест Ангелов.
Простились с Дионисио по-русски:
– Ну, пока.
– Пока. – И всё же он не удержался: – Hasta la vista. Пишите книгу!
2
Но мне не хотелось здесь не то что сочинительствовать, но даже думать ни о чём не хотелось. Из окон смежных, залитых невероятнейшим солнцем, комнат в моё сознание вплывали Кантабрийские горы. С одной стороны – те, что повыше и с вершинами, занесёнными снегом (где-то там и Орильес). С другой – те, что пониже, уже без всякого снега, вполне весенние, с зелёными проплешинами, с Клубом миллионеров, стариннейшим, почти разрушенным храмом и парящей в синеве над городом гигантской статуей Иисуса Христа. Эти горы (слева и справа), подумал я, – как строчки из стихотворения. Вернее, как рифмы из красивой строфы об Овьедо. Да нет, не об Овьедо. О моей жизни. О жизни моих друзей, моих наставников. О жизни вообще.
Я раскрыл «Письмена Бога» Хорхе Луиса Борхеса. Начал читать – и тут встала передо мной в сияющих кустодиевских красках зима сорок второго. Станция Курорт Боровое. То самое Боровое, которого у нас теперь, увы, нет, потому что оно – у г-на Назарбаева, в Казахстане. Метелица. Обгоняя меня и направляясь к крохотному Щучинску, идёт девочка по имени Нюся, или Нюша. Она – из Харькова. Мы с ней – второклашки, и наши парты – рядом. Я в неё влюблён, что ли. Я боюсь: а вдруг она узнает об этом. Что тогда? Она сворачивает за угол, и в моё лицо бьёт густое, осязаемое тепло, пахнущее тлеющими кизяками. Идти за Нюсей дальше? Нет смысла. Смотрю вослед этой девичьей фигурке, ещё не понимая как следует, что такое девичья фигурка. У Нюси аккуратные, незаштопанные валеночки. Она вся – в классическом зеркале загадок, и эти кривобокие улочки – точь-в-точь сад расходящихся тропок.
А надо всем, в морозном воздухе, – Синюха. Самая прекрасная в мире гора (сами можете проверить). И я неожиданно шепчу: «Синюся…» Так уж, само собой, срифмовалось. Может быть, именно поэтому и не забываю никогда ослепительную девочку с Сумской улицы, из трёхэтажки возле парка Шевченко.
Пишу это – и размышляю: в рифме ли дело? Да ведь отшутились великие: дескать, пара неиспользованных рифм, может, и осталась разве что в Венесуэле. Так о чём речь? Особенно в наши дни. Радио и ТВ глаголят:
- В норме сливки, сахар, кофе —
- Вот гармония маккофе.
И зачем сегодня, уже в третьем тысячелетии, размахивать картонным мечом? Что, уже победила «гармония маккофе»? Ни в коем случае. А как же быть с криком, с болью, которые рвутся к свету из глубин темницы, существующей не только в воображении Хорхе Луиса, но и в словах и мыслях тех, о ком повествует моя книга?
Неужели обращаться к одним лишь каменным стенам?
Но не всё так беспросветно. Жизнь – будто трагедии Шекспира, куда он – пусть и весьма нечасто – вставлял и короткие комические сценки, наподобие той, в «Гамлете», открывающей пятый акт, где хоть и действуют могильщики, но в ходу – простецкие шутки, на которые наша жизнь не скупится. А иначе и не появлялись бы поэты. Там, где ахматовские лопухи, лебеда, запах дёгтя соседствует с соколовской несбыточной сиренью. И снова – Пастернак: «Так начинают. Года в два от мамки рвутся в тьму мелодий…» А как иначе?
3
Первое, что я запомнил, – движущиеся фигурки людей, втиснутые утренним солнцем в щели закрытых ставень, и (наверное, поэтому) перевёрнутые. Все они шли вниз головой, шли быстро-быстро и, под немыслимым углом удлиняясь, неожиданно исчезали и ныряли в некую субстанцию, калейдоскопическую и таинственную. И все они без умолку говорили, говорили, и их ярмарочно-цветастая речь казалась мне самым значительным из того, что меня окружало. А было мне тогда что-то около года (может, чуть меньше, а может, чуть больше). Это происходило в 1932-м внутри комнатёнки, которую мои родители снимали в домике на берегу речушки Бахмутки (на дне которой – ну разумеется! – увязли турецкие фелюги с золотом), – да, в старинном и живописном, пахнувшем возле базара дымом рыбокоптильни, лозой и очеретом Бахмуте, переименованном большевиками в честь революционера Артёма.
Помню я себя почему-то чаще всего у бабушки Анны Марковны Мартыновой, у которой, как и у многих вокруг, крыша хаты возле трёх болот была крыта очеретом и для крепления – дранками и полосками зернистого толя. Во дворе у неё в конце лета, ещё жарком и не скудеющем, млели на верхотуре сарайчиков вишни разных сортов.
Бабушкин сожитель Пантелей Георгиевич в подпитии и добром настроении играл на гитаре настоящие джазовые хиты, привезённые им из Чехословакии, где он после Первой мировой был в плену какое-то время, о котором нередко тосковал, в честь чего в ход шли четвертинки. Моя Анна Марковна, златоустинка по рождению, ничуть не стеснялась крепких выражений, знала не печатавшиеся ни в каких книгах сказки, легенды, песни, присказки, говорила мне вечерами, что городишко когда-то был Бахмутской сторожей, что казаки пресекали набеги на наши солеварни – такой наказ получили от Петра I, которого открыто недолюбливали за неуважение к ним и оскорбления. А позже у нас появились гвоздильно-костыльный завод (уже одно его название вызывало у меня дикий восторг), в придачу к нему – заводы салотопный, кирпичный, мыловаренный, самые разные предприятия – гипсовые, стекольные, свечные, воскобойные, алебастровые, черепичные…
Больше всего мне нравились балки, начинавшиеся во множестве сразу же за городом и опьянявшие полынью и чабрецом, шуршанье уточек в камышах, бабушкин чердак с дореволюционными ёлочными игрушками в сундуке и стекольный завод – вернее, кучи бракованной продукции у его ворот, ослепительно сверкавшие под лучами солнца всеми своими призмами. Я обожал мир взрослых вещей. С удовольствием ходил вместе с отцом в скобяную лавку. Там я наслаждался особым звучанием таких волшебных слов, как саморезы, заклёпки, замки дверные и навесные, ручки, петли, доводки, завёртки, такелаж…
Пламенному большевику Артёму (по неведомой нам причине уничтожив его на испытаниях какого-то странного аэровагона!) установили в самом центре города массивный кубистский памятник. Рядом с этим самым памятником (надо признать: страхолюдным) находились театр и два кинотеатра, две площади – одна со сквером, другая – Соборная, поменьше (храм приспособили под складское помещение).
Первые внешние приметы бытия: мартовское наводнение, лодки и плоты на нашей улочке, пожар на углу, возле окраинной аптеки, и отсвет ночного пламени в ледяной воде.
Читать (непонятно, каким образом) я научился по книге для работников обувной промышленности; в ней было много скучных, очень неприятных картинок и схем. Некоторые буквы (на полях страниц этого же пособия) я писал задом наперёд. Затем мне попался какой-то дореволюционный роман (ветхий, потрёпанный). Он был мне не по зубам, но рисунок на обложке до крайности поразил меня: дети пляшут в сумерках вокруг костра неподалёку от сельского кладбища.
Самые сильные запахи той поры: лоза для плетения корзин, дымок мотовоза, бегавшего к каменному карьеру и обратно, источавшие необъяснимый аромат оклады потемневших, старинных икон, хранившиеся на чердаке у бабушки Анны. Она жила на Магистратской улице, рядом с домом, где родился Борис Горбатов, автор «Обыкновенной Арктики» и «Непокорённых». Что касается второй бабушки, Веры, белошвейки, то она умерла очень молодой (моей матери было тогда всего лишь двенадцать лет). Дед Андрей (по отцу), неимоверный красавец, застрелился на почве несчастной любви, а у тридцатилетнего деда Григория остановилось сердце, когда он возвращался домой с бутылкой подсолнечного масла (он прислонился к фонарному столбу, сполз по нему, не пролив ни капли «олии»).
Я рано догадался, что ничего не умею делать и правы те, кто говорит, что у меня «руки не оттуда выросли». Я горько сожалел, что появился на свет именно таким. Очень сожалел, мечтал о ремесленном училище. Потом – война, эвакуация, Джезказган с его буранами, Степлагом и часовыми в тулупах на вышках, Боровое с горой Синюхой, с десятками озёр, лучше которых уже не доводилось видеть, с речкой Громотухой, с вагоном-библиотекой, с казачьим говором, нисколько не изувеченным близостью казахского.
Голодал, таскал антрацит со станции, чтобы не замёрзнуть. Дружил с нашим молчаливым соседом, машинистом Новиковым, седым приземистым человеком, который подарил нам электрическую лампу, чтобы я мог читать и готовить уроки, угощал меня иногда солёными груздями. Именно он дал мне Гоголя – «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Здесь под его синей лампочкой (других в те времена, по-моему, не было) я и читал и перечитывал эти книги и всё, что попадалось под руку, написал первые рифмованные строчки. Новикова, этого доброго старика-боровика из-за чего-то, по доносу его помощника, арестовали, и он сгинул.
4
Вернулся я осенью сорок третьего в свой Бахмут и увидел сплошные руины. Бабушку Анну Марковну убило осколком за три дня до нашего возвращения, когда немцы бомбили Николаевский мост.
Я не любил ходить в школу, прогуливал, зато не пропускал ни одного фильма, тем более трофейного, с утра до ночи сражался в шахматы, знал наизусть десятки партий, сыгранных Морфи, Капабланкой и нашим Алехиным, подыгрывал на гитаре юному скрипачу Юре Мазневу. Родственники не раз собирались на совет и решали, что правильнее всего – поскорее отдать такого недоумка в ПТУ. Об этом у меня есть вот что – «Подзаборные стихи»:
- Родне я был не по нутру
- В суде махорочном и скором.
- Все знали, что вот-вот помру
- С амбарной книгой под забором.
- А во дворе – темным-темно.
- За мной – гараж, Бахмутка, ивы.
- Слова в открытое окно
- Рвались. И были справедливы.
- На то она ведь и родня —
- Как выжить здесь поодиночке?
- В амбарной книге у меня
- Гнездилась ересь в каждой строчке.
- Не помню, у кого я спёр
- Ту книгу. Оттого без спора
- С рассветом я разжёг костёр
- У захудалого забора…
Меня чуть было не выгнали из восьмого класса, но когда я перешёл в школу рабочей молодёжи и стал сотрудничать в редакции городской газеты, то вдруг стал отличником. К удивлению (и моему, и моей родни), я лучше всех сдал вступительные экзамены и был зачислен на факультет журналистики Харьковского университета.
Меня вдруг заметил известный в ту пору поэт Сергей Васильевич Смирнов, который был проездом в Харькове и прислал мне потом из Москвы несколько писем. Писала мне с полгода и Мариэтта Сергеевна Шагинян, которая советовала перейти от стихов к прозе (ей почему-то нравились мои газетные очерки). Но учиться я и в университете не захотел – тем более, что получил от редактора газеты «Комсомолец Донбасса» Павла Филиппова приглашение возглавить отдел литературы и искусств. Работал я вместе с молодым шахтёрским поэтом Николаем Анциферовым; с ним мы снимали комнатку на выселках, в районе 6-го ставка. Не успел я привыкнуть к хорошим пальто и шляпам, как загремел в Нахичевань-на-Араксе, в в/ч 33100, в школу артиллерийских разведчиков. Летом в полдень, дотронувшись рукой до станины гаубицы, можно было получить сильный ожог.
В «Литературной газете» состоялся мой поэтический дебют (в памяти осталось очень мало строчек из той подборки), и меня тут же каким-то образом разыскал Леонид Николаевич Мартынов. Он прислал мне в Нахичевань огромную бандероль с самым первым «Днём поэзии», где были широко представлены его стихи. То был праздник! В Нахичевани я болел москитной лихорадкой, видел останки моста Александра Македонского через Аракс, ездил в командировку в Тбилиси, и там меня благодаря поэту Иосифу Нонешвили пригласили на службу в газету Закавказского военного округа; побывал я и в Баку, встретился в журнале «Литературный Азербайджан» с поэтами Абрамом Плавником и Иосифом Оратовским, которые меня охотно печатали.
Наконец я демобилизовался. Жизнь моя в Тбилиси была сущим раем. Этот город открыл мне сурового, не от мира сего Галактиона Табидзе, ласкового Симона Чиковани, взрывного Алеко Шенгелию и ещё Гоги Мазурина, Шуру Цыбулевского (о них я постарался написать более подробно). Сюда приезжали Александр Межиров и Владимир Соколов, и мы стали друзьями. Но самым большим моим другом была поэтесса Светлана Кузнецова, с которой мы оставались духовно близкими вплоть до её ранней кончины… Я объездил и исходил весь Кавказ, особенно Закавказье. В 1962-м в «Заре Востока» вышла моя первая книжка стихов «Встречный ветер», которая подверглась справедливой резкой критике в республиканской газете и полному приятию в Литинституте (там я учился заочно). Странно вообще, что столь бездарная писанина привлекла внимание.
5
Я затосковал по Москве, по русской литературной среде, путь к которой оказался весьма причудливым. Служебная командировка в Венгрию («самый весёлый барак соцлагеря»), в Будапешт, знакомство с совершенно другим образом жизни, с такими джазменами, как контрабасист Аладар Пэгэ, художниками-авангардистами, писателями-диссидентами. Потом пошла сплошная казёнщина, служба в министерстве внутренних дел, из-за которой страсть к творчеству у меня несколько поостыла. Жизнь мою скрашивала дружба с гроссмейстером Сало Флором и семейством Есениных (Флор был женат на дочке Александры Александровны Есениной, Татьяне). Став полковником, я не захотел дослуживаться до пенсии и, воспользовавшись случаем, по ходатайству Союза писателей получил разрешение уйти на «вольные хлеба».
В писательском Союзе состою уже давно, но поэтом и прозаиком, как мне кажется, стал лет всего лишь пятнадцать-двадцать назад, притом абсолютно случайно, сумев оказаться «по ту сторону строки». Это было похоже на озоновую дыру. Тут от желания абсолютно ничего не зависит. Потому я и сказал, что это жизнь меня подстерегла – что с того, что, может, по ошибке… Озоновая дыра может привести и к гибели, но иначе, как известно, не бывает.