Басилевс Гладкий Виталий
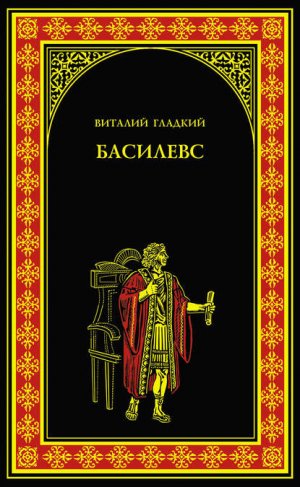
Первым не выдержал Макробий, тонко подметив несвойственную Авлу Порцию нерешительность. Когда их разговор и вовсе перестал клеиться, ростовщик доверительно сказал:
– Уважаемый Авл Порций, я человек не любопытный, и ты это знаешь. Но я так понимаю своим ничтожным умишком, что нам, возможно, придется принять участие в событиях немаловажных и, похоже, в ближайшем будущем. Поэтому, позволь испросить у тебя совета: не пора ли мне свернуть свои дела в Понте? Ибо время бежит, как молодая, необъезженная кобылица, а мне не хотелось бы оказаться под ее копытами.
От непривычно длинного монолога Макробия даже в пот бросило. Смахнув рукой капельки пота с чела, он потянулся было к фиалу с вином, но передумал и взял сушеный финик. Пожевал его все еще крепкими крупными зубами, проглотил, морщась, испытующе посмотрел на купца.
Авл Порций медлил с ответом. Они знали друг друга достаточно давно. Авл Порций ценил Макробия за могучий ум, по прихоти капризной Фортуны избравший себе такое незавидное вместилище. А тот, в свою очередь, относился с пониманием к тайной деятельности купца, о которой догадывался, и помогал, чем мог. И все же дело, затеваемое Тубероном, было такого свойства, что могло стоить не только карьеры купца на варварском Востоке, но и жизни.
– Неумолимое время… – наконец решился Авл Порций, по-своему обыкновению начав издалека. – Ты прав, уважаемый Макробий – оно летит, скачет, как дикая кобылица, и нужно иметь немалую сноровку, чтобы удержаться в седле. А совет… Что ж, совет дать легко, да только будет ли от него прок?
– Умный совет от умного человека на худой конец может послужить утешением. А это не так мало.
– Утешением в торговых делах является прибыль, – Авл Порций не обратил должного внимания на тонкую лесть в словах Макробия. – Но, скажу прямо, – боюсь, что наша коммерция в скором времени будет приносить одни убытки.
– Та-ак… – протянул ростовщик и надолго углубился в размышления.
Авл Порций не мешал ему, сидел молча, потягивая вино и рассматривая непритязательное убранство комнаты – ростовщик, один из богатейших дельцов азиатского Востока, любил скромность и чистоту как в обстановке, так и в одежде.
– По правде говоря, – медленно начал Макробий, – я соскучился по Риму. Но не настолько, чтобы бросить здесь все и сломя голову мчаться туда. Из-за реформ достопочтенного Гая Гракха мне там придется довольствоваться ролью полунищего менялы.
– Все в этом мире имеет начало и конец, – приободрился Туберон – похоже, Макробий согласился ему помочь. – Гай Гракх не вечен, как и его брат Тиберий…
– Ты думаешь? – уколол купца пронзительными черными глазами Макробий.
– Я знаю мнение многих сенаторов, в том числе и консула Луция Опимия. Республика приходит в упадок из-за раздоров и смут, посеянных и взращенных реформами. А истинные патриоты Рима этого допустить просто не могут. Не сомневаюсь, что и для Гая Гракха найдется кинжал, и не один.
– Значит, ты советуешь мне все же направить свои стопы в Рим?
– Не так скоро, не так скоро, дорогой Макробий, – растянул тонкие губы в улыбке Авл Порций. – Прежде, чем готовить поклажу на повозки, нужно убедиться, что довезешь ее в целости и сохранности…
– Ибо не все зависит от мулов, запряженных в нее, пусть даже резвых и выносливых, – подхватил мысль гостя Макробий – он уже начал догадываться, куда клонит Авл Порций.
– Вот именно.
– И все же, лучше возничему потерять груз, но спасти голову.
– Не скажи, дорогой Макробий. Что лучше, что хуже – судить трудно. Потому как возничий – всего лишь слуга, и как знать, что придет на ум господину при виде пустой повозки.
– Мысль мудрая, уважаемый Авл Порций, – ростовщик уловил скрытую угрозу в словах гостя; но, по здравому размышлению, не обиделся – видимо обстоятельства сложились так, что его приятель пребывает сейчас в крайне затруднительном положении. – Из двух зол нужно выбирать меньшее. Хотя слуге от этого все равно не легче…
– Если он достаточно умен, то господин несомненно не оставит без внимания и награды его усердие и преданность.
– Все дело как раз и упирается в размер вознаграждения, ибо ничто так не облегчает страдания и не придает силы, как благосклонность Меркурия[59].
– Глубокочтимый Марк Эмилий Скавр в разговоре со мной дал понять, что Меркурий на этот раз будет весьма щедр.
– М-м… – Макробий быстро потер ладони, будто его вдруг зазнобило – он наконец понял, откуда ветер дует. – Марку Эмилию верит можно. Но от обилия слов и обещаний, увы, кошелек тяжелее не станет.
Теперь он уже точно знал, что услуга, которая от него потребуется, наверняка небезопасная. Но понимал также, что отказать – значит навлечь на себя беды: за спиной Скавра скалой высился Сенат. Оставалось единственное – не продешевить.
«Пора… – подумал Авл Порций, с удовлетворением заметив, как потускнел нестерпимо-черный блеск в глазах ростовщика; это был верный признак, что Макробий покорился неизбежному. – Но, однако, Макробий, ты хват…» – с некоторым сожалением отметил про себя купец, запуская руку в свою вместительную дорожную сумку, прицепленную к поясу, где хранилось золото, полученное от легата. Львиную долю ему хотелось оставить себе, но прижимистого Макробия провести было трудно, ибо его любовь к Риму возрастала в прямой зависимости от количества золотых монет, подкрепляющих это чувство.
При виде кожаного кошелька с золотом сердце невозмутимого Макробия сладко трепыхнулось в груди. Чтобы удостовериться, что это не сон, он распустил завязки, вынул несколько ауреусов[60] и взвесил кошелек на руке. И неожиданно почувствовал страх, который редко посещал его черствую, практичную натуру: за какую же услугу столько?!
– Это… все? – хрипло спросил, не отрывая взгляд от кошелька.
– Половина… – поколебавшись, ответил Авл Порций; на самом деле в кошельке находилась треть того, что дал ему легат.
– А когда остальное? – Макробий от волнения стал говорить еще невнятней; но купец его понял.
– Когда Плутон[61] воздаст должные почести тому, кто в ближайшее время, – с нажимом сказал римский агент, – предстанет перед его взором.
– Плутон? Почести… – у Макробия задрожали руки; боясь, что ослышался, он переспросил: – Кому почести?
– Ты правильно меня понял, досточтимый Макробий. Именно – почести. Ибо в царстве Плутона их может удостоиться только тот, чей род происходит от богов великих и бессмертных.
Макробий помертвел. Широко открыв глаза, он отдернул руку от кошелька с такой скоростью, будто вместо красного шнурка завязки увидел змею. Авл Порций с кривой ухмылкой поднял кошелек, тряхнул; послышался мелодичный звон золотых монет.
Ростовщик опомнился. Туберон смотрел на него жестко, требовательно. Глаза Макробия снова потускнели, лицо стало хмурым, сосредоточенным. Подняв взгляд на купца, ростовщик обречено вздохнул, скривившись так, будто жевал недозрелое яблоко.
– У меня есть на примете… один человек… – тихо начал Макробий, собравшись с мыслями.
– Я этим не интересуюсь, – поспешно перебил его купец.
– Почему? Разве мы теперь не в одной упряжке?
– Если ты за свои услуги получишь деньги, и немалые, то я буду довольствоваться только сознанием честно выполненного долга.
– Видят боги, я в своей жизни никогда не заключал сделки, более невыгодной, чем теперь, – печально ответил ростовщик. – Кто знает, понадобятся ли мне эти деньги когда-нибудь… – и добавил с неожиданной твердостью в голосе: – Но то, что в этом предприятии мне очень пригодится твоя проницательность, в этом у меня сомнений нет.
Авл Порций понял, что это решение Макробия – окончательное.
– Кто этот человек? – спросил он, подавив вздох сожаления – ему до смерти не хотелось влезать так глубоко в лабиринт опасной интриги.
– Клеон, сын Хариксена.
– Клеон? Который в чести у царицы Лаодики?
– Да.
– Этот трусливый сердцеед? И ты думаешь, он способен…
– Он – вряд ли. Но с его помощью мы найдем нужного человека.
– Думаешь, согласится?
– Куда он денется, – глаза Макробия хищно блеснули. – В этом он заинтересован не меньше нашего. А если нет…
– Тогда что?
– Есть верные люди… Чтобы его язык не сплел нам петлю… Но я уверен, что он согласится. Клеон занял у меня под проценты некую сумму, а срок уплаты уже давно истек.
– Что ж, это довод весьма убедителен. Разумно, разумно…
В это время над притолокой двери от удара крохотного молоточка тонко запел, зазвенел серебряный диск.
– Зайди! – позвал Макробий.
Вошел слуга, рослый малый с хитрой физиономией и суетливыми движениями.
– Что там? – спросил ростовщик.
– Записка… – слуга протянул ему небольшой пергаментный свиток в ладонь шириной.
– Царица Лаодика… – разглядев печать, в недоумении пробормотал Макробий, разворачивая свиток. – Ты еще здесь? Пошел вон! – свирепо вытаращил он глаза на слугу, пытавшегося через его плечо прочитать записку.
Слуга, как ошпаренный, опрометью выскочил за дверь.
– Клеон… – ростовщик протянул записку купцу. – Прочти.
Купец быстро пробежал глазами скоропись царицы, нахмурился и вопросительно посмотрел на Макробия.
– Она просит отсрочить выплату долга на два дня, – пожал плечами ростовщик.
– Просит… – хмыкнул Авл Порций. – Такие просьбы в устах порфирородных особ звучат весьма убедительно. И отказать… – он с огорчением покачал головой.
– И все же, мне интересно знать, где он достанет такую сумму? Клеон – полунищий. Хорион этого прощелыги из-за его непомерных трат пришел в упадок.
– Заплатит царица. Ей не впервой.
– Даже Лаодике это не так просто. Уж не думаешь ли ты, что она подступит к Митридату с просьбой выделить из казны деньги для любовника?
– Марк Север… – тихо сказал купец; Макробий понял.
– Ах, превеликие боги! Марк Север… – ростовщик приуныл.
– Только у него…
– Все рушится, все рушится… – безнадежно склонил голову ростовщик.
– На этот раз от Марка Севера она не получит ни сестерция[62], – твердо сказал Авл Порций, поднимаясь. – Прости, я тороплюсь.
– Он не посмеет отказать.
– А он и не откажет.
– Тогда… как?
– Просто у Марка Севера появились срочные дела. Например, в Амисе. И они требуют его личного присутствия. Он прямо-таки обязан туда поехать. Притом сегодня, немедленно.
– Авл Порций, ты мой Гений[63], – засиял ростовщик и довольно хихикнул, потирая руки. – Клеон, голубчик…
Макробий даже не услышал, как хлопнула дверь за купцом. Он погрузился в глубокие раздумья – сеть, которую ростовщик собирался сплести для своего клиента, на этот раз должна быть прочна, как никогда прежде…
ГЛАВА 4
Синопа погрузилась в вечерние сумерки. Гроза прошла стороной, лишь редкие капли, подхваченные низовым ветром, рассыпались темными точками по серым плитам городских улиц. Море ворчало глухо, устало; в воде отражалась узкая светлая полоска неба; медленно истончаясь, она стекала в черную зыбь у горизонта.
В главной гавани столицы Понта дневная суета уступила место разгульному ночному веселью: в многочисленных харчевнях, лепившихся за складами, коротали время команды судов, вольноотпущенники и нищие.
Возле посольских либурнов неторопливо прохаживался высокий, немного сутулый человек в длинном просторном плаще. Воины охраны, примерно половина манипулы[64], оставив по дозорному на каждом из пяти суден, собрались на либурне, чей форштевень был украшен с обеих сторон резными фигурами зубастых крокодилов. На его палубе горели факелы, дымились жаровни с древесными углями, слышался говор и смех, раздавался дробный стук, будто кто-то горстями швырял на палубу крупные бобы – легионеры играли в кости.
Гребцы-рабы по случаю удачного плавания получили на ужин дешевое кислое вино и теперь веселились, как могли. Кто-то из них затянул высоким, срывающимся голосом песню; ее тут же подхватили остальные:
- Эй-я, гребцы, пусть нам эхо отдаст наше гулкое: Эй-я!
- Глуби морской властелин, улыбнувшись радостным ликом,
- Выровнял синюю гладь и дыхание бурь успокоил;
- В долгом безветрии спят – не колышутся тяжкие волны.
- Эй-я, гребцы, пусть нам эхо отдаст наше гулкое: Эй-я!
- От равномерных толчков пусть дрогнет корабль и помчится.
- Неба улыбчивая синь – и на море нам обещает
- Ветром надуть чреватые наши ветрила.
- Эй-я, гребцы, пусть нам эхо отдаст наше гулкое: Эй-я!
- Нос, как веселый дельфин, ныряй, рассекая пучину,
- Глубь, застони под веслами и вставай на руках, подымаясь,
- Борозды пенные пусть расходятся долго кругами.
- Эй-я, гребцы, пусть нам эхо отдаст наше гулкое: Эй-я!
- Дышит над далями Кор, назовем его нашим: Эй-я!
- Светлое море у нас под кормою запенится: Эй-я!
- Гулкими стонами нам побережье откликнется: Эй-я!
Похоже, человеку в длинном плаще эта песня была хорошо знакома. Он прослушал ее до конца, повторил негромко припев: «Эй-я!» и коротко вздохнул.
Тем временем прозрачные сумерки постепенно заволокло туманом, который, казалось, изливался из невидимых трещин в земле, поднимаясь все выше и выше, – сначала вровень с крышами приземистых складов, потом от подножья к вершине горы Педалион, а затем и вовсе утопил звездное небо в серую мглу.
Дождавшись полной темноты, человек в плаще, окидывая из-под капюшона цепким взглядом встречающихся на пути людей, свернул в узкий переулок между складами, откуда вышел на одну из улиц города. Несмотря на поздний час и густой туман, улица отнюдь не была пустынна, как того, судя по его поведению, хотелось человеку в плаще: гремела доспехами и оружием ночная стража, шныряли какие-то подозрительные личности с мягкой кошачьей поступью и способностью внезапно появляться и тут же исчезать словно бестелесные призраки, шли знатные горожане в сопровождении слуг с факелами.
Стараясь держаться поближе к домам, где была самая густая темень, человек наконец добрался до городской агоры. Там было еще более людно, нежели на улицах, и он долго в нерешительности топтался на месте, прежде чем подошел к дому с великолепным портиком[65], украшенным беломраморными фигурками наяд[66]. Поколебавшись самую малость, человек в плаще взял молоток, подвешенный на бронзовой цепочке, и постучал им в массивную дубовую дверь.
Это был дом стратега Дорилая Тактика. Он напоминал потревоженный пчелиный улей – домочадцы стратега собирали его в дальнюю дорогу. Сам хозяин занимался весьма важным делом – подбирал оружие и доспехи для себя и сыновей, Лагета и Стратарха. Служанки его жены укладывали дорожные сумы и сундуки; дочь Дорилая, шестнадцатилетняя смуглянка Аристо, усердно трудилась над составлением описи имущества, которое стратег пожелал оставить в Синопе под присмотром городского агоранома[67]. Только племянник Дорилей не принимал участие в сборах, – уединившись в одной из комнат с матерью, слушал ее наставления и просьбы, нередко прерываемые невольными материнскими слезами.
Человек в длинном плаще молча склонил голову перед удивленным стратегом. Дождавшись, пока удалился слуга, сопровождавший незванного гостя, Дорилай горячо обнял его со словами:
– Приветствую тебя, Рутилий! Вот уж кого не ожидал увидеть в Синопе… Какими судьбами?
– И я приветствую тебя, Дорилай Тактик, – гость снял плащ и небрежно бросил на скамью. – Мне удалось устроиться на один из посольских либурнов проревсом[68].
– Ты смыслишь и в мореплавании? – удивился стратег.
– Научили… – горькая улыбка чуть тронула крупные, резко очерченные губы гостя. – Мне довелось два года служить вольнонаемным транитом[69] военного флота Эллады[70]. Пока нашу триеру[71] не пустили на дно киликийские пираты… Потом меня привезли на остров Делос, где продали по сходной цене пергамскому купцу. В Пергаме мы с тобой и встретились, стратег.
– Как ты очутился в Риме?
– После поражения Аристоника я некоторое время скрывался в лесах. Но нас травили словно волков, и мне ничего иного не оставалось, как бежать из Пергама. В трюме грузового судна я перебрался в Афины, а оттуда – в Рим. Там меня, понятное дело, не искали – кто мог подумать, что один из ближайших соратников Аристоника Пергамского осмелится сунуть голову в пасть льву?
– Я от всей души рад увидеть тебя в живых, – с невольным восхищением посмотрел на гостя Дорилай. – Приглашаю тебя отужинать…
Ужинали вдвоем, из предосторожности – так захотел Рутилий. После обильной трапезы их беседа продолжилась.
– …Прости, Рутилий, возможно, мой вопрос покажется тебе бестактным… Но, все-таки, как мог ты, римский гражданин, поднять оружие против Рима?
– Римлянин… Сын доблестных родителей, оставивших ему в наследство десять югеров[73] земли, дряхлого вилика[74], распутную девку-ключницу, четырех престарелых рабов, от истощения едва державшихся на ногах, и около двух тысяч денариев долга, – в низком, немного хрипловатом голосе гостя звучал сарказм. – Чтобы не быть закованным в кандалы должника, мне пришлось записаться в легионеры. Два наградных венка – за храбрость и за взятие крепости – центурион… Тяжелое ранение – и пленник иллирийцев[75]. Тогда клеймо раба мне наложить не успели – бежал в Элладу. Чтобы не помереть с голоду, нанялся гребцом на триеру. Киликийские пираты, Пергам… Сначала раб в черепичной эргастерии[76], затем вольноотпущенник. Заслужил свободу тем, что спас хозяина от грабителей. Поступил на службу в войско царя Аттала III, где уже через год под моим командованием была тысяча отборных гиппотоксотов[77]. И наконец – дружба с Аристоником. Остальное тебе известно.
– Ты так и не ответил на мой вопрос.
– И вряд ли отвечу… – Рутилий стал угрюм, черты его смуглого, покрытого шрамами лица затвердели, длинный орлиный нос еще больше заострился. – Даже себе. Все случилось помимо моей воли. Возможно, из-за дружбы с Аристоником. Я не мог его предать.
И добавил после раздумий:
– Но, вернись время вспять, я поступил бы так же.
– Опасный ты человек, Рутилий…
– Римскому Сенату это хорошо известно, – хрипло рассмеялся гость стратега. – За мою голову обещано столько золота, сколько она весит, – и уколол Дорилая пронзительным взглядом.
– Надеюсь, ты не считаешь, что у меня денежные затруднения? – понял его Дорилай и обиженно нахмурился.
– И что Дорилай Тактик любит Рим больше своей отчизны… – подхватил его мысль Рутилий. – Конечно, нет. Потому и пришел сегодня именно к тебе. Ты был во дворце на приеме легата?
– Нет.
– Почему? – удивился Рутилий. – Ты в опале?
– У меня нашлись дела поважней… А если честно, то физиономия достопочтенного Марка Эмилия Скавра мне надоела еще со времен пергамской войны.
Рутилий понимающе улыбнулся.
– Но о чем шла речь, я знаю.
– Фригия?
– Да.
– Давно и хорошо отработанный прием римской дипломатии. Понту нужно готовиться к большой войне.
– К сожалению… – стратег наполнил фиалы вином из кратера. – Судя по всему, жрецы Беллоны[78] скоро принесут свои секиры в храм богини.
– Поэтому я и стремился во что бы то ни стало пробраться в Понт.
– Я так и понял. И с нетерпением жду твоего рассказа.
– Могу утешить тебя, стратег. Риму пока не до Понта. Похоже, там назревают события, последствия которых непредсказуемы. Гая Гракха на этот год трибуном не выбрали. Консуляр[79] Фульвий Флакк, эта грубая, несдержанная скотина, вместо того, чтобы помочь ему, сутками пьянствует и устраивает оргии. Гай Гракх теряет единомышленников. Новый консул Луций Опимий не скрывает своих намерений покончить с реформами братьев Гракхов, а значит, и с бывшим трибуном. Свободных легионов для похода на Восток у Рима нет – идет война с арвернами и аллоброгами.
– Спасибо тебе, Рутилий, – крепко сжал кисть его руки стратег. – Ты вселил в мою душу надежду.
– Я еще не все сказал. Вместе с Марком Эмилем в Синопу прибыл Авл Порций Туберон.
– Купец? Ну и что из этого? – с недоумением воззрился на гостя стратег.
– Берегитесь его. Я не знаю, что он замышляет, но этот хитрый лис немало попортил нам крови в Пергаме. Он такой же купец, как я римский сенатор.
– Авл Порций был в Пергаме?
– Под чужим именем. Он представлялся там киликийцем. Снабжал войска Аристоника продовольствием и оружием. У него много друзей среди киликийских пиратов.
– Но ведь он помогал вам…
– Еще как… – в глазах Рутилия зажегся опасный огонек. – Мне очень хочется отблагодарить его за эту помощь… Солонина, за которую мы платили, не скупясь, была протухшая, с червями. От вяленой рыбы воины маялись животами и даже умирали. Зерно оказалось потравлено мышами…
– А оружие?
– Щиты раскалывались, как ореховая скорлупа, мечи были не каленые, а луки ломались после десятка выстрелов.
– Но он купец. Его бог-покровитель Меркурий всегда слыл обманщиком.
– Это еще не все. Где лестью, где золотом он сеял раздоры среди стратегов Аристоника. А когда не помогало ни то, ни другое, пускал в ход иные средства – удар из-за угла ножом или яд.
– Неужто Авл Порций..? – на лице стратега явственно отразилось недоверие к словам Рутилия. – И вы, зная об этом, доверяли ему?
– Узнали чересчур поздно. Когда внезапно умершего Марка Перперну сменил Маний Аквилий. Но тогда нам уже было не до купца. Он кстати, внезапно исчез, будто провалился в царство Плутона.
– Я предупрежу начальника следствия… – Дорилай сурово сдвинул брови. – Он пустит по его следу своих ищеек. А тебе, Рутилий, моя искренняя благодарность, – голос его потеплел. – Что ты собираешься делать дальше?
– Думаю остаться в Понте. С твоей помощью, стратег.
– Можешь не сомневаться в моем добром расположении к тебе. Нам очень нужны опытные, закаленные в боях воины. Место гопломаха[80] тебя на первых порах устроит?
– Это больше, чем я мог надеяться…
В этот же час в доме царского лекаря иудея Иорама бен Шамаха собрались члены тайной секты ессеев[81].
В просторной комнате с совершенно голыми стенами царил дрожащий полумрак. Только три жировых светильника в дальнем конце ее, напротив входа, высвечивали фигуру хозяина дома с изрядно потертым пергаментным свитком в руках. Иорам бен Шамах размеренным голосом читал слова молитвы, вырисованные древнеэллинским языком «койне» на тонкой, почти прозрачной коже искусным каллиграфом. Единственное окно комнаты было тщательно занавешано.
– …И дела, неугодные Господу, Богу своему, стали творить, и построили себе высоты во всех городах своих…
Словно приглушенное эхо вторили словам Иорама бен Шамаха молящиеся, стоявшие коленопреклоненно на простом тонком коврике.
– … И стали совершать там курения на всех высотах, и служили идолам…
Среди сектантов были люди самого разного возраста и сословия: ремесленники, купцы, вольноотпущенники, городской демос, мореплаватели, гоплиты… Большинство составляли «сыны Израилевы», переселившиеся в Понт, чтобы спастись от преследований саддукеев[82] и фарисеев[83], а также нынешнего царя Иудеи, жестокого и властолюбивого Иоханана Гиркана, сына Симона Маккавея. Но были здесь и каппадокийцы, и эллины, и персы, и представители других племен, населяющих Понтийское государство.
– … И закончится греховное царство тьмы, и придет Сотер, и воздаст сынам света…
«Сотер… Сотер… – исступленный шепот постепенно перерастал в гул. – Воздаст сынам света… Не пройдет род сей…»
Седые волосы Иорама бен Шамаха, сзади подсвеченные светильниками, образовали вокруг головы нимб, в глазах загорались и гасли оранжевые искры, и вся его фигура, закутанная в белый плащ, казалось, парила над полом…
После моления ессеи перешли в соседнюю комнату, где был накрыт длинный деревянный стол для священной трапезы – только недорогое красное вино и по лепешке на брата. При полном молчании отведав вина и хлеба, они стали прощаться с хозяином дома. Иорам бен Шамах обнимал каждого, прикасаясь щекой к щеке единоверца. Одному из них, коренастому юноше с коротко подстриженными кудрявыми волосами, он шепнул на ухо: «Останься…», и тот покорно отошел в темный угол, дожидаясь, пока последний ессей не покинет дом.
– Следуй за мной, – приказал юноше Иорам бен Шамах, когда проверил надежность засовов на входной двери.
Освещая путь сильно чадящим глиняным светильником, наполненным земляным маслом, он повел юношу внутрь дома.
Комната, куда они вошли, была уставлена сосудами всевозможных форм и размеров из керамики, стекла и металла. Воздух в ней был напоен запахами трав, связками висевших на всех четырех стенах от пола до потолка. Посреди комнаты стоял круглый стол и два дифра[84].
Иорам бен Шамах молча указал юноше на один из них, а сам, насыпав в шаровидный сосуд из стекла серебристо-белый порошок, зажег его. Комната осветилась ярким голубоватым светом. Сдвинув сосуд в центр стола, и потушив глиняный светильник, лекарь сел и надолго задумался, глядя на перламутрово-белую сферу, внутри которой рождалось таинственное голубоватое свечение. Юноша с почтением и опаской наблюдал за хозяином дома, не смея шелохнуться.
– Паппий… – голос Иорама бен Шамаха был усталым и бесцветным. – Я доволен твоим прилежанием и твоими успехами.
– Спасибо, танаим[85]…
– Не называй меня так, – глубокая борозда перечеркнула высокий лоб иудея от корней волос до крупного горбатого носа. – В этой комнате мы прежде всего слуги Асклепия[86]. Потому, если хочешь, зови меня впредь просто учителем.
Паппий молча склонил голову в знак согласия.
– Восемь раз плодоносили оливы с тех пор, как твой отец Менофил привел тебя за руку в этот дом. Своими знаниями в высоком и благородном искусстве врачевания делился я с тобой без утайки и теперь очень рад – у меня появился достойный преемник. Ибо я уже стар и смертен, несмотря на то, что многие тайны человеческого организма мне понятны и ведомы…
Юноша встрепенулся, хотел что-то сказать своему учителю, но тот ласково положил ладонь на его колено, заставив умолкнуть на полуслове.
– Выслушай меня до конца… – Иорам бен Шамах задумчиво погладил черную с седыми прядями бороду. – Тяжелые грядут времена. Ненасытные римляне не успокоятся до тех пор, пока весь Понт Евксинский не станет Маре Романум[87]. Остановить их, тем более – победить, невероятно трудно. Понту нужна твердая рука, железная воля и могучий ум великого стратега. К большой кручине нашей, такого человека пока нет.
– Прости, учитель, – а царь Митридат Евергет?
– Я с тобой всегда был откровенен. Не покривлю душой и на сей раз. Я преклоняюсь перед его мужеством и дальновидностью. Он мне люб, как брат. Но… – лекарь горько улыбнулся. – Великий царь Понта потерял главное, что движет любым человеком – надежду. Он не верит в победу над Римом. Безверие – болезнь страшная, неизлечимая. Она притупляет ум, делает человека безвольным, слабым, легко поддающимся чужому влиянию.
– Что же… тогда?
– Я не гаруспик[88] и будущее по куриным потрохам предугадывать не умею, – нескрываемая ирония звучала в голосе Иорама бен Шамаха. – Мое дело – лечить раны телесные. Говорят, больную душу умеют исцелять жрецы Айгюптоса[89]. Мне подобное искусство, увы, неведомо. Как не дано проникнуть и в божьи помыслы. Но все, что зависит от меня и тебя, мой юный брат по вере, мы обязаны сделать.
– От меня? – удивился Паппий.
– Да. Отныне ты назначен лекарем старшего сына царя. Молодой Митридат – личность сильная, целеустремленная. Он ненавидит Рим. Нужно помочь ему подняться на крыло. Митридат умен –уже сейчас он знает семь языков. Знаком он и с трудами выдающихся философов, историков и географов. Усиленно изучает воинское искусство. Он честолюбив и в достаточной мере скрытен. Это тоже неплохо. По моему глубокому убеждению сын Митридата Евергета именно тот человек, который способен возвеличить Понтийское государство и дать отпор Риму.
– В чем заключается моя главная задача?
– Ты правильно меня понял, Паппий, – с удовлетворением улыбнулся Иорам бен Шамах. – Лечить болезни – твое ремесло. Но ты, ко всему прочему, должен стать тенью будущего владыки Понта, его вторым «я». Нужно во что бы то ни стало оградить юного Митридата от злых умыслов, приобщить его к нашей вере, единственно истинной и справедливой. Ты хочешь мне возразить? Что ж, твои сомнения не беспочвенны. Митридат вряд ли когда-нибудь примет нашу веру. Да это и не требуется. Основное – посеять в его душу зерна мудрости, взятые из колосьев истинной веры, а затем бережно взращивать и лелеять ростки. Что получится в конечном итоге предугадать трудно. Помни: на благодатной почве хорошо произрастают не только хлеба, но и плевелы…
Проводив юношу, Иорам бен Шамах зашел в молельню, встал на колени перед светильниками и долго молился. Три огненных цветка исторгали из своих жарких глубин белесые струи. Ароматный дым благовоний приятно щекотал ноздри, но, вместо благостного приподнятого состояния, душа царского лекаря полнилась дурными тягостными предчувствиями.
ГЛАВА 5
Звон клинков нарушал знойную истому полуденного покоя царского дворца. Неподалеку от его стен, на утрамбованной ногами до каменной твердости фехтовальной площадке гимнасия[90], азартно сражались затупленными мечами сын царя Понта Митридат и его друг Гай.
Площадка была посыпана тонким слоем речного песка, и маленькие вихри, взлетая из-под сандалий подростков, окрасили прозрачный весенний воздух в желтый цвет. Пот, смешанный с пылью, щедро орошал надетые под тяжелые учебные доспехи полотняные туники, заливал глаза. Но юные воины рубились, не обращая внимания на зной, подзадоривая друг друга краткими окриками.
Шагах в десяти от них под навесом стоял, скрестив на груди жилистые руки, гопломах Тарулас – наблюдал за поединком. Его лицо было неподвижно и бесстрастно. Только ноздри носа, похожего на клюв хищной птицы, изредка раздувались от скрытого волнения, когда гопломах подмечал особо удачный выпад или удар.
Громкий смех и веселые голоса позади заставили Таруласа вздрогнуть. Он резко обернулся.
Несколько поодаль, возле набитых соломой чучел, на которых упражнялись в точности колющего удара, расположились на отдых эфебы[91] – пять или шесть юношей восемнадцати-двадцати лет, отпрыски самых знатных семейств Синопы. Они только что вышли из бани, обязательной после фехтования и гимнастики, и их смуглые тела, натертые оливковым маслом, блестели на солнце как хорошо полированная бронза.
– Ола! Ола! Молодые петушки! Ха-ха-ха! – смеялись они, радуясь солнечному дню и переполняющей их мускулистые тела энергии.
– Эй, малыш! Ты, который длинный! – вскричал один из них, невысокий, с мощным торсом. – У тебя в руках не фаллос, а меч. Разить врага нужно в грудь или живот, а ты им тычешь между ног.
Грохнул смех – эфебы дурачились. Таруласа они словно не замечали. Этот новый гопломах был из племени траков – фракийцев, и молодые аристократы могли себе позволить такие вольности в его присутствии, на что не решились бы, будь он перс или эллин.
Митридат и Гай опустили мечи. Сын царя, посверкивая сквозь прорези забрала учебного шлема глазами, полнившимися вскипающим янтарем, неторопливо подошел к эфебам.
Крепыш-шутник, смеясь, протянул руку к мечу Митридата:
– Отдай эту игрушку. Иначе натрешь мозоли. Вон то тебе больше подойдет, – показал она на метлу, которой рабы-уборщики подметали площадку для прыжков в длину.
– Возьми, – коротко ответил Митридат – и ударил эфеба в челюсть почти без замаха.
Тот покатился по земле. Но тут же, кипя от злости, вскочил и, обнажив меч, ринулся на сына царя. Клинки скрестились, лязгнули…
– Стоп!
Голос, рокочущий, властный и немного хриплый, прозвучал уже тогда, когда мечи словно обрели крылья – сверкали в воздухе, будто невиданные железные птицы, выбитые из рук страшными по силе ударами.
– Не сметь! – гопломах Тарулас встал между Митридатом и эфебом.
Опешившие эфебы схватили за руки своего товарища, уже готового вне себя от ярости броситься на самого гопломаха.
– Стыдно! – Тарулас говорил по-эллински с легким акцентом. – Затевать ссоры и драки в стенах гимнасия запрещено правилами. И вы их знаете. Тем более – обнажать оружие против младшего по возрасту. Какое наказание может за этим последовать – не мне вам говорить. Но будем считать, что ссоры не было. Просто – недоразумение. Вы можете уйти, – тоном, не терпящим возражений, отчеканил эфебам гопломах.
Митридат снял шлем, полностью скрывавший его лицо, и с вызовом тряхнул медными волосами.
– Царевич… Митридат… Сын царя… – тревожный шепоток послышался среди эфебов, и они в смущении и раскаянии склонили перед ним головы…
Эфебы поторопились исчезнуть. Вскоре за ними ушли и Митридат с Гаем. Гопломах, проводив их задумчивым взглядом, уселся на сложенные стопкой соломенные борцовские маты и принялся неторопливыми, но уверенными движениями точить свой кривой фракийский меч-махайру[92]. Увлекшись, он не заметил, как чья-то темная, согбенная фигура промелькнула за колоннами портика и исчезла в путанных переходах между строениями гимнасия…
Это был Авл Порций Туберон. Легат Рима, все еще гостивший в Понте в ожидании ответа царя Митридата, не забыл своей клятвы в андроне. Он попросил купца-агента не спускать глаз с царевича, чтобы узнать его привычки, наклонности, а в случае удачи – и мысли. Что предпринять в дальнейшем, Скавр еще не решил. Пока он с нетерпением ждал развязки затеянной им интриги, где главная роль была отведена ростовщику Макробию.
Авл Порций торопливо вышагивал по улицам Синопы, погруженный в воспоминания. Его обычно загоревшее до черноты лицо теперь напоминало плохо вычиненный и отбеленный, а потому серый, пергамент: лжекупца обуял страх.
«О, превеликие боги! Или я сошел с ума, или… Этот гопломах – кто он? Двойник? Не может быть… Но он так похож… Неужто остался в живых? Тогда почему он в Синопе? И это имя – Тарулас. Фракиец… – Авл Порций споткнулся и больно ушиб палец на правой ноге; боль неожиданно вернула ему способность трезво мыслить. – Из царства Плутона еще никто не возвращался. А значит, если, конечно, Грайи не пошутили со мной чересчур зло, он и впрямь не призрак. Нужно пустить по его следу псов Макробия. Иначе, если он до меня доберется…» – от этой мысли римлянину стало дурно. Он привалился к стене какого-то дома и в отчаянии возопил в мыслях к покровителю своего рода…
Царица Лаодика принимала Скавра. Они ужинали на свежем воздухе – в перистиле[93], возле фонтана.
– …Я не склонен к преувеличениям, глубокочтимая Лаодика. Но тебе достаточно известно о том исключительном положении, которое занимают римляне среди прочих народов. Мы ни в коей мере не претендуем на абсолютную власть, а всего лишь стараемся нести благоденствие как своим подданным, так и тем, кто погряз в беззакониях и варварстве, кто поклоняется вместо светлоликих олимпийских богов поганым идолам.
– Государственное устройство Понта не менее разумно и целесообразно, чем в республиканском Риме, – Лаодика жестом выпроводила обслуживавших их рабынь. – Законоуложения Митридата Ктиста и Фарнака Понтийского освящены великой мудростью богов олимпийских. Капища идолопоклонников в Понте давно разрушены. И, наконец, мы всегда поддерживали Рим, видели в нем светоч, надежную опору в нашей борьбе против варваров.
– Все это так, прекрасноликая… – Скавр с вожделением смотрел на печеного осетра, фаршированного куриной печенью. – В Риме ценят дружбу Понта. В особенности расположение к римлянам царственной Лаодики, – легат расплылся в улыбке. – Я уполномочен Сенатом поблагодарить тебя за помощь, оказываемую нашим торговым людям и дипломатам. Прими этот скромный подарок в знак того, что в Риме не забывают своих друзей… – с этими словами Марк Эмилий взял из рук секретаря, будто по мановению волшебной палочки появившегося в перистиле, объемистый сверток и передал его царице.
Лаодика трепетной рукой развернула пурпурную ткань и тихо ахнула, не в силах сдержать восхищения – золотая царская китара[94], украшенная каменьями, засверкала, заискрилась в лучах заходящего солнца.
Посол, довольный произведенным впечатлением, мысленно похвалил себя – Сенат не соглашался на подобное расточительство во время войны, но он настоял. Пользуясь паузой в разговоре, Скавр приналег на осетрину, щедро поливая ее острым соусом.
– Благодарю тебя и в твоем лице Сенат, мой дорогой Марк Эмилий… – Лаодика была на верху блаженства.
– М-м… – поспешил прожевать очередной кусок посол и окунул жирные пальцы в чашу с водой. – Рад тебе услужить, порфирородная, – он вытер руки о свою тогу с пурпурной каймой и осушил залпом вместительный фиал с вином. – И позволь мне, рабу твоей несравненной красоты, слово молвить о делах очень важных, напоминания о коих неуместны за этой великолепной трапезой; но, увы, они безотлагательны.
– Да… да, я слушаю… – царица никак не могла расстаться с подаренной китарой, разглядывая ее со всех сторон.






