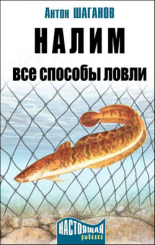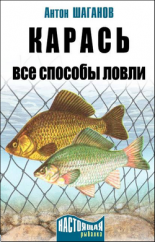Небесная тропа Алферова Марианна

Часть I
«Мчался он бурей темной, крылатой…» [1]
Глава 1
Анастасии снились только вещие сны. Открывая утром глаза, она подолгу лежала в постели, перебирая в памяти подробности ночных путешествий, вылущивала крупицы смысла из шелухи ненужных подробностей.
В ту ночь ей приснился расстрел. Черный ров в болотистой низинной почве, где на дне вырытой ямы сразу скапливалась вода. Стрекот пулеметов, падающие вниз тела. Она стояла на краю ямы и смотрела. Но те, кто умирал внизу, в ямине, ее не видели. И те, кто убивал, не видели тоже. Лишь один человек, упавший в ров, оказался зрячим. Глаза его на мгновение, прежде, чем померкнуть, впились в лицо Анастасии. А губы, искаженные предсмертной гримасой, дважды беззвучно шевельнулись. Анастасии показалось, что она разобрала по губам одно-единственное слово: «глаз». Напрасно Анастасия силилась проснуться – сон вновь и вновь возвращал ее к влажной ране в земле, наполненной мертвыми человеческими личинками. Она уже готова была упасть в эту яму и очутиться среди мертвых – живая.
– Нет! – закричала Анастасия и открыла глаза.
Несколько секунд она лежала неподвижно, раскинув руки и ощущая невыносимую тяжесть во всем теле. Потом, превозмогая слабость, поднялась и зажгла свечу. Была середина ночи – время, когда до рассвета, даже июньского, бесконечно далеко. Синий потолок с золотыми нарисованными звездами в эту минуту казался настоящим небом.
Увиденное во сне не походило на пророческое видение – это было реальное событие, случившееся уже давно, если судить по одежде, вернее, белью казнимых. Но вот когда точно и кто тот человек, что пытался, умирая, сказать что-то важное?
– Очередная гадость случилась в нашем дерьмовым мире, – прошептала Анастасия. – Только пока абсолютно неясно, какая.
Она взяла свечу и подошла к зеркалу. Но вместо рыжеволосой женщины в мешковатой ночной сорочке она увидела паренька лет семнадцати с длинными, связанными в узел волосами. Анастасия покачала головой и поднесла свечу еще ближе к зеркалу. Теперь появилась девушка в сиреневом плаще с дорогой кожаной сумочкой через плечо.
– Интересно, – процедила сквозь зубы Анастасия.
Свеча в ее руке дрогнула, и тогда в глубине зеркала возник человек неопределенных лет в железнодорожном купе у окна. На его желтоватое костистое лицо с резко очерченными скулами падали отсветы проносившихся за окном фонарей. У путешественника были абсолютно белые волосы до плеч. Он пил вино из простого граненого стакана и улыбался.
– Этого еще не хватало! – воскликнула Анастасия.
Изображение тут же пропало. В черной поверхности зеркала теперь не отражался даже огонек свечи.
– И кто же все это объяснит, если я ничегошеньки не понимаю?! – раздраженно пробормотала Анастасия.
Она вышла в коридор, как была, в одной ночной сорочке, со свечою в руке и направилась к соседней двери.
– Викентий Викентьевич! – Анастасия постучала по фанере костяшками пальцев.
Несмотря на поздний (или, быть может, ранний) час, в комнате не спали: изнутри доносилась шумная возня, бросанье предметов и ругань. Лишь после третьего стука дверь наконец приоткрылась, и наружу высунулся толстенький коротышка в одних пижамных полосатых штанах, босиком. Он близоруко щурился и поглаживал ладонями круглый, как арбуз, живот, покрытый черной растительностью.
– Чем могу служить, сударыня? – спросил он с легким поклоном. – Надо полагать, случилось нечто экстраординарное?
– Вот именно. У старухи родился сын.
– Младенец? – уточнил Викентий Викентьевич.
– Нет, сразу взрослый. Вор и бродяга.
– Ну, такое частенько случается. Стоит ли из-за подобной мелочи вскакивать посреди ночи?
– А если я скажу, что господин Фарн направляется сюда?
– Фарн?.. – Викентий Викентьевич испуганно обернулся, будто за его спиной тут же возник господин с белыми, как снег, волосами.
– Не к нам конкретно, – поправилась Анастасия. – А к нам – в город.
– Может быть, все не так страшно? Образуется, так сказать. – Викентий Викентьевич покосился на дверь, шум за которой ничуть не стихал, а напротив, усиливался.
– Мы сделаем вид, что нас это не касается, – задумчиво проговорила Анастасия.
– Как будет угодно, сударыня. – Вновь не без изящества поклонился коротышка. – Решение зависит исключительно от вас. Я все исполню.
Анастасия повернулась, чтобы вернуться к себе, но вдруг остановилась.
– Послушай, киса, Барсик, а почему ты не называешь меня королевой?
– Простите, сударыня, не могу.
– Не тяну, значит, на королеву?
– Сударыня, вы же знаете, как я вам предан!
– Но встречать Фарна на вокзал не поедешь, так ведь?
– Шайтаниров поедет, ему такие поручения по душе. А меня увольте, я человек умственного труда.
Вновь в комнате что-то грохнуло, дзинькнуло, разбиваясь, следом завизжали – истошно и на разные голоса. Барсик вздрогнул всем телом и сделал попытку ретироваться за дверь.
– Послушай, избавься от них! – в сердцах воскликнула Анастасия.
– Никак не могу, – потупился Барсик.
– А если я прикажу?
– Если прикажете, – Викентий Викентьевич глубоко вздохнул, – что ж, дело подневольное, исполню. Но я бы просил нижайше…
– Ладно, ладно, делай, что хочешь, – милостиво разрешила Анастасия и вновь собралась идти к себе, и вновь остановилась. – Знаешь, что этот пацан придумал, а? Будто бы он из параллельного мира на трамвае приехал. Ну, каково? Тебе нравится?
Барсик, услышав такое, даже подпрыгнул на месте.
– Ох, лучше не надо! – воскликнул он в сердцах. – Не люблю я переправы. Пограничье, неопределенность.
– Это теперь не в нашей власти, – заметила Анастасия. Ясно было: сама она на что-то решилась, только боится признаться в этом.
– Ну да, да, одни наделают, а нам расхлебывай. Знаем мы такие штучки.
– Да не ворчи ты, Барсик, киса, – одернула его Анастасия.. – Надоело. Я отправляюсь спать, завтра день будет хлопотный.
– У тебя все равно ничего не получится! – выкрикнул Барсик, и сам сконфузился от таких дерзких слов.
– Это почему же?!
– Потому что тебе никогда не удается сладить с Фарном. – Он еще больше сконфузился.
– Посмотрим, – прошипела Анастасия.
Вернувшись к себе, Анастасия бросилась на постель, но заснуть не могла – слова милашки Барсика ее уязвили. Можно, конечно, обратить его в крысу или сделать какую-нибудь другую гадость, но вряд ли это утолит ее душу. Глупец! Что он ведает об ее замыслах?! Ничего! Сколько лет она таилась и ждала. Все эти долгие-долгие годы казались сном. Но наконец она проснулась. Нельзя сказать, чтобы прежде она не открывала глаза по утрам. Вставала, куда-то шла, делала вид, что врачует, а вечером опять занимала горизонтальное положение на своей широкой продавленной тахте. Один день походил на другой, а часы исправно тикали, и так же исправно опадали листки отрывного календаря. Эпохи разнятся, дни остаются схожими. Когда очередной облысевший календарь вышвыривается в окно, ватная неподвижность сна начинает казаться невыносимой. Время требует соблюдения условностей даже во сне. Окружающим надо предъявлять морщины, седину в волосах, набрякшие вены. Если такие жертвы тебе кажутся чрезмерными, приходится менять имя и тот маршрут, по которому ты ежедневно уходишь из дома.
Труднее всего во сне дождаться пробуждения. Кто-то должен подойти и тронуть тебя за плечо. Но никто из персонажей твоего сна не может этого сделать. Ни милый Барсик, ни фантазер Шайтаниров. Они послушно ждут пробуждения вместе с тобой.
Но в эту ночь Анастасия проснулась.
Наконец-то! Явь! Как солнечный свет после театральной подсветки. Вещи приобрели плотность, пространство – глубину, тело – силу, разум – ясность. Анастасия вскочила. Достаточно она насмотрелась снов во сне! Теперь дорога каждая минута. В этот раз все должно получиться. Этот паренек сделает все, что от него ждут, хотя сам не подозревает, на какой опасный путь ступил. Главное, чтобы он не испугался, исполнил…
Она оборвала собственную мысль, боясь, что кто-то может услышать ее и помешать осуществить то, о чем она грезила все эти годы.
Глава 2
На ржаво-красных, в потеках, обоях вспыхнули две синие полосы – два отсвета посреди серой важности сумерек. Блики перепрыгнули на потолок и, скользя, принялись обегать комнату. С улицы слышалось звяканье: раскачиваясь на перегоне, мимо окна проносился трамвай. В такт перестуку колес о рельсы вздрагивали блики на потолке. Рик прижался лицом к стеклу. Трамвай был совсем рядом. Казалось, еще немного, и стальная обшивка шаркнет о кирпич накрененной стены. Рик всматривался изо всех сил, пытаясь различить силуэты в вагоне, но видел лишь синее свечение, пронизанное светлыми иглами разрядов. На секунду трамвай застыл напротив окна, будто призывая вскочить на подножку. И подножка эта четко высвечивалась в полутьме, будто не по земле мчался трамвай, а парил в воздухе на уровне третьего этажа. Но Рик растерянно моргнул и подался назад. В следующее мгновение трамвай оказался безнадежно далеко, насмешливо дразня хвостовыми огнями, и перестук колес замер в густеющих сумерках.
– Рик, скотина, ты что, спишь? – Серж тряхнул его за плечо. – Дело есть. – Он хотел наклониться к самому уху приятеля, но не устоял на ногах и, пошатнувшись, шлепнулся на пол.
Рик открыл глаза. Он лежал на кровати, на тощем вонючем матраце, под головой сбилась комом клейкая подушка. Как он очутился здесь, в углу? Ведь только что он стоял у окна, прижимаясь лбом к пыльному стеклу, и смотрел на мчащийся мимо трамвай – два корявых вагончика на ржавых колесах с огромными ребордами.
– Водка дерьмовая, – бормотал Серж, пытаясь подняться, но опять сползая на пол. – От хорошей водки так не может развести… Пр-р-равда? Только от плохой водяры чертики мерещатся.
– Да, от хорошей водки являются настоящие черти, – согласился Рик.
– Ты – зараза, ядовитая зараза, – пробормотал Серж. – Я тебе это говорил? Нет? Короче, я тебе это сейчас говорю. Я еще посмотрю, возьму ли тебя с собой на дело.
«Надеюсь, в последний раз у него ночую», – подумал Рик, стискивая зубы.
– Все-таки ты придурок, – продолжал бормотать Серж, – мозги у тебя умные, а голова гнилая. Настоящего друга из тебя никогда не получится. Вот у меня друг Валька есть, я тебе говорил. В армию весной загремел. А до армии мы с ним как братья. Он – это я, я – это он. Точно, не вру. – Серж выразительно выпятил губы. – Мы друг для друга все, что угодно… Все… – Он потряс пальцем и еще раз сказал: – Все!
Под окнами комнатушки раздраженно звякал трамвай, выворачивая с соседней улицы.
«Догнать, вскочить на подножку и…» Откуда эта дурацкая мысль? И сон дурацкий, похожий на бред. Уехать… Чушь! Куда можно уехать на трамвае? Разве что в трампарк. Или, как в старом анекдоте, в Швецию…
– …У нас с Валькой случай один был, просто хохма, – продолжал тем временем бормотать Серж. – Нет, ты послушай…Девчонка к нам одна забрела. Еще школьница. Короче, дура, выпила стакан водки и отрубилась. Ну полностью, как доска.. Мы с Валькой жребий бросили, кому первому. Оттрахали ее по три раза. Хорошо повеселились. К утру она очухалась и ушла. А потом… – Серж затрясся от смеха. – Приходит через два месяца ко мне и говорит: я беременная, женись, мол. Я ее выгнал, конечно, и сразу к Вальке побег – предупредить. А она, дура, у него уже была, и тоже просила жениться. Вот дура! – Серж вылил себе в стакан остатки из бутылки и отковырял от стола засохший бутерброд. – Ведь дура, да, женись, хи-хи…
Рик тоже решил немного посмеяться.
– А я-то думал, чего это вдруг мент тобой интересовался, – проговорил он наигранно-безразличным тоном.
– При чем здесь мент? – Серж растерянно хлопнул глазами. – О чем ты?
– Она вполне могла в милицию заявить: затащили меня, напоили и изнасиловали. Она несовершеннолетняя, срок вам обоим светит верный, причем за групповуху. И заявление она забрать не может, потому как несовершеннолетняя.
Серж подавился водкой и закашлялся.
– Ты ведь прикалываешься, да?
– Нет, серьезно. Это если она дура. А если умная, ментами только припугнет, и сдерет с каждого по сотне-другой баксов. А то и больше. Знаешь, что в зоне делают с севшими по такой статье?
Глаза Сержа сделались совершенно оловянными, с нижней губы потекла струйка слюны. Рик едва сдерживался, чтобы не расхохотаться, глядя на него.
– Фигня все это! – заорал вдруг Серж, опомнившись. – Никуда она не заявляла! Столько времени прошло!.. Не было никакого мента! Это все твои шуточки дебильные. Гад! Гад! – Серж с облегчением фыпкнул..
«До сих пор трусит, – усмехнулся про себя Рик. – Трусит и спрашивает у каждого: я уже выпутался, ведь правда, выпутался?»
В эту минуту дверь в комнату приоткрылась, и внутрь протиснулась Светка – хрупкая, как подросток, в ярко-синей блузке и белых, сомнительной чистоты брючках. На самом деле ей было уже за двадцать, но ее маленький росточек, пухлые щечки, а более всего умильное выражение наивности в глазах многих и часто обманывало.
– Пожрать принесла? – спросил Серж требовательно.
– Я тебе паек таскать не нанималась, – огрызнулась Светка, – у меня дела поважнее. Я бабку нашу пасла.
– До часу ночи, что ль? – хмыкнул Серж.
Светка пропустила его шуточку мимо ушей.
– Порядок, ребятки, я все разведала. Замочек на двери дрянь, его отверткой отжать можно. Дождемся, пока бабка в магазин уйдет – у всех бабок страсть по магазинам шляться. Видака или там стереосистемы у бабульки, конечно, нет, но старинными вещичками поживиться можно будет. Антиквариатом разным и золотишком. Это верняк.
– С чего ты взяла? – поинтересовался Рик.
Светка покосилась на него, ощупала взглядом лицо, мятую рубашку, грязные джинсы. Потом глянула на Сержа, сравнивая. Серж ее явно не устраивал. Но и Рик, судя по всему, не производил впечатления.
– Бабка в этой квартире сто лет живет, еще с довоенных времен. И муженек у нее был из семьи… как это она странно так сказала… во – «из бывших». Да там наверняка в каждом матрасе по десятку бриллиантов зашито.
– Ерунда, в революцию таких обобрали до последней нитки, – усмехнулся Рик.
– Все-то он знает! – озлилась Светка. – Как будто сам присутствовал! А сам ни хрена в жизни не рассекает! Бабки, милый мой, двух сортов бывают: у которых пьяной родни полон двор – у тех выносить нечего, тех свои давно обшмонали. И другие – вроде нашей Ольги Михайловны, одинокие кубышки – они всю жизнь неизвестно на что копят, их тепленькими брать можно. Въезжаешь?
– Она одна живет? – Серж на секунду протрезвел и отнесся к монологу Светки с пониманием.
– Абсолютно! Никогошеньки у нее нет. Муж помер, свекровь тоже. А сын еще в блокаду с голодухи. Она мне сегодня битый час про него рассказывала, сопли по веткам развешивала, какой он был хорошенький и умненький… – Дечонка неожиданно расхохоталась. – Самое смешное знаете что? Звали этого ненаглядного сыночка, как тебя, Эриком. Въезжаешь, Рик? Надо же, такое совпадение! Я, как только это услышала, так сразу поняла, что старушенция нам самим Боженькой послана. Адресок я на коробке записала, – Светка швырнула замусоленный спичечный коробок на диван. – Завтра утречком пусть Рик на разведку сходит, дверь хорошенько обсмотрит.
– Почему Рик, почему не я? – пробормотал Серж и попытался облапить Светку, но та от него увернулась.
– Потому что завтра ты будешь совершенно никакой. – И Светка направилась к двери.
– Ты куда? – обиженно вякнул Серж. – А секс?
– Сегодня дома ночую, – объявила Светка, и при этом почему-то смотрела на Рика.
– Ты думаешь, я пьяный. Да я ни сколечко не пьяный, да тут такое…
Но пока Серж поднимался, скребя ногтями стену, пока, набычившись, мотал головою, пытаясь рассчитать траекторию до двери, Светка уже исчезла. Серж сделал бесполезную попытку нагнать ее, но, опрокинув чьи-то ведра и тазы в бесконечных закоулках квартиры и обменявшись матерными тирадами с соседкой, вернулся в комнату.
– Во стерва, – ругался Серж, вползая обратно в свою берлогу, – но хитрая зараза. Дура, но по жизни хитрая.
– Это она придумала бабку ограбить? – спросил Рик.
– Дело мне нравится, – пробормотал Серж. – Простенькое и верное.
– В прошлый раз ты тоже говорил: дело верное. А мы даже дверь взломать не смогли, и ты свой ножик потерял с инициалами.
– Ты, говнюк, больно надрывался! – взвизгнул Серж. – Сам-то ты кто? Бомж долбанутый, вот кто. Или, может обратно к папаше своему трахнутому желаешь вернуться?.. – Серж не доорал все, что хотел, – кулак Рика въехал ему в подбородок.
Серж утробно хрюкнул и, взмахнув руками, шлепнулся на пол, да так и остался лежать неподвижно. Рик встряхнул приятеля за плечи, и услышал в ответ громкое сопение и причмокивание. Серж мгновенно заснул пьяным мертвецким сном и теперь до утра проваляется на полу, как это частенько бывало. Ночь летняя коротка, и не успеет последний трамвай прокатиться по затопленными синими сумерками улицам, а уж вместе с лимонной полоской зари выкатывается из трампарка заспанный первый трамвай, злобно визжит на повороте ребордами и проносится по улицам в погоне за сонными пассажирами.
Рик отыскал среди мусора на столе вполне приличный хабарик и закурил. Курил и изображал, что думает. Хотя о чем тут думать? Как выбрать между «нет» и «нет», когда любой выход неприемлем. Уйти отсюда немедленно – позыв был сильный и необоримый, как позыв к рвоте, – из этой заблеванной комнаты, из пропитанной грязью, табачным дымом и руганью коммуналки. Но куда? Обратно домой, где Клавка с Орестиком спят на полу, накрываясь старым пальто, а отец умудрился пропить даже конфорки от электрической плиты? Рик не знал, кого он ненавидит больше – отца за его вечные пьяные дебоши, или мать, которая терпит ругань и каждодневные побои? Чем старше Рик становился, тем больше склонялся к тому, чтобы сделать выбор в пользу матери. Слово «терпеть» он ненавидел люто.
Рик докурил хабарик, затушил его о грязное блюдце и решил не думать о неразрешимом, а заняться одним деликатным делом, для которого давно подыскивал подходящий час. Еще три дня назад заприметил он на макушке шкафа обувную коробку, замаскированную драными газетами. Судя по тому, как газеты дважды успели поменять свои очертания за эти три дня, было ясно, что коробку частенько спускают вниз, а потом водружают на место. Сейчас, пока Серж мирно похрапывал в углу, Рик подставил к шкафу колченогий табурет (шкаф был старинный, под потолок, и потому невыездной, переходящий от одного хозяина комнаты к другому) и спустил коробку вниз. Втайне Рик подозревал, что Серж прячет там наркотики. Но вместо пакетиков с белым порошком обнаружилось множество кусочков бумаги и картона, неровно обрезанных ножницами. Рик вытащил один наудачу.
«Кошелек, Кошелев Валент. Петр. – 20 лет, или чуть больше, хозяин ларька на углу. Живет с Тонькой-продавщицей, болел триппером, лечился у знахарей, по-пьяни расск., что забил насмерть Б., потому что тот пошел поперек Милославу. Очень сильный. Ларек – прикрытие. Сам он в услужении у Милослава (см. «Милослав»). К делу старика-антиквара на Малом пр. причастен точно. Вещи продавал через Тоньку, не таясь»
Рик перевел взгляд с Сержиной коробки на самого Сержа. Тот сладко шлепал губами во сне.
Рик вытащил следующую карточку.
«Светка Винникова, 24 года. Хочет, чтобы я на ней женился. Сама одно время жила с Кошельком. У родителей шикарная квартира на Большом, дверь железная. У папаши наверняка много баксов, но придуривает, ездит на старой «шестерке». Месяц проработала в комке, попалась на краже, с нее удержали «должок» и выгнали. Можно ее использовать до определенного времени, пока я не найду нормальную бабу».
Потом следовала зачириканная строка и приписка:
«Надо подловить ее на каком-нибудь деле и раскрутить ее на тысчонку».
Интересно, что будет, если подсунуть Светке эту карточку?
«Белкина Танька, живет этажом ниже, папаша ее воображает себя крутым, на самом деле дерьмо. Танчо изображает из себя недотрогу, на самом деле шлюха, как и любая баба».
«Пытался подъехать, но его отшили», – сделал вывод Рик.
«Васька Шатун, связан с Милославом. Когда идет на дело, надевает оранжевую жилетку ремонтника и лоб обвязывает желтой повязкой. Любит называть себя трамвайщиком, хотя никогда по этому профилю не работал».
И для кого он эти данные собирает?..
«Тимошевич, бывший мент, недолго работал в охранном бюро, теперь в услужении у Белкина. Тупица, но кулаки здоровые. Ленив, как всякий русский человек».
Оказывается, у Сержа талант – разнюхивать о людях все самое тайное и грязное. Может быть, эти бумажки предназначены для ментов? Тогда ограбление старухи, всего лишь ловушка, после чего Серж сдаст и Рика, и Светку? Уж больно дело подлое и дурацкое одновременно. Замечательного друга Рик нашел себе, ничего не скажешь!
Рик отыскал свою карточку.
«Рик, Эрик Круглов, восемнадцать лет. Школу не закончил, ушел из последнего класса. Возможно, псих. Работал в частной шарашке по ремонту квартир, но заболел, попал больницу, и его выгнали из артели. Ставит себя очень высоко, но ни на что серьезное не способен. Отец – законченный алкоголик, мать – забитая дура, брат и сестра – дебилы».
Рику показалось, что под ребра ему воткнули заточку. То, что он поведал Сержу в порыве откровения, оказывается, звучало так:
«…Рик прячется и домой не идет. За ним есть уголовное дело, но без свидетелей. Не доказано. Но в случае чего можно надавить. Хорошо бы использовать придурка, сыграв на его самомнении. Но вообще-то он рыбешка мелкая…»
Рик спрятал свою карточку в карман. Затем закинул коробку обратно на вершину шкафа. На Сержа он старался не смотреть, боялся, что не выдержит, схватит со стола нож и всадит в сопящий мешок на полу. Надо бежать отсюда, и немедленно. Какой ответ можно отыскать в этом логове? Нанизывать в уме бесконечные «нет» друг на друга – занятие бесполезное. Для движения вперед необходимо одно короткое «да», как глоток горячего чая утром.
Под окнами вновь забрякал трамвай. Ночь кончилась вместе со злобным скрежетом трамвайных колес за поворотом. Начинался день. Сознавая, что в логово Сержа он уже не вернется, Рик попытался отыскать на столе еще один приличный хабарик, но не нашел. На всякий случай захватил коробок со спичками – тот, что бросила на диван Светка.
Во рту хинно горчило, а на месте желудка ворочался камень. Хотелось разрезать кожу и вытащить проклятый булыжник наружу. Рик выбрался на кухню, налил из соседкиного чайника холодного кипятку, в заварнике нашлось немного бурой жидкости. Он выпил чай без сахара, горький и холодный, и тут же почувствовал, как все внутри сжалось в комок. Он едва успел добежать до туалета, как его вырвало. Рик заперся в ванной и расплакался от унижения. Он ненавидел свое жалкое существование, свою дурацкую судьбу. Особенно мерзко было ощущать свою исключительность и в то же время чувствовать себя зверем, загнанным в угол. Рик подозревал, что только самомнение и уверенность в своей предназначенности спасают его от окончательного превращения в подонка типа Сержа. Но откуда такая уверенность? Всю жизнь окружающие унижали и топтали его. Разве что чувство избранности заложено в нем от рождения – иного объяснения мальчишка придумать не мог.
Рик отыскал под раковиной оброненный кем-то обмылок, включил холодную воду (горячей в этой квартире никогда и не бывало) и долго мылся под душем. Уже соседи Сержа пробудились и яростно колотили в дверь ванной – пришло время отправляться им на работу и по делам, а Рик все подставлял и подставлял свое костлявое тело под струи воды, ощущая, как с холодом в него медленно проникает странное, почти позабытое ощущение чистоты. Наконец он выключил воду, вытерся собственной рубашкой и покинул квартиру, не представляя, куда пойдет и что будет делать сегодня. Да и завтра тоже.
Хорошо бы, с утра не было дождя. Пусть жара до одурения, пусть ветер или туман, но только не дождь. Дождь слишком подчиняет себе, слишком неволит, ему надо сопротивляться и противостоять, а это отнимает много сил. Конечно, есть люди, которые не замечают дождя, капли стекают по их волосам и коже, а они идут и улыбаются прозрачными льдистыми губами. Но в Рике слишком много тепла, весь он закрученный, взвихренный, спиральный, а не прямоточный, как водосточный желоб. Сам Рик податливых людей не любил и опасался их. Его восхищала твердость, он ненавидел студень и кашу. Вот лестница – она прекрасна в своей тяжкой неподвижности, в ней двести сорок две ступеньки, перила сломаны, а на четыре ступени нельзя наступать. Но Рик уважает ее не за рядность ступеней, не за безызменность счета, а за твердую неподатливость. И еще за то, что она не пытается проникнуть внутрь него и сделать человека своей ступенькой. Да, она может убить, но все равно останется вне его, и за это Рик ей благодарен.
Он остановился этажом ниже, на площадке второго этажа. Здесь было две двери. Одна обычная, фанерная, вторая – инкрустированная деревянной мозаикой, наложенной на стальной каркас. Почему он, Рик, не живет в квартире за этой дверью, а… Тут он услышал звяканье замков внутри и благоразумно отошел в сторону, непринужденно облокотился на присутствующие на втором этаже перила. Если бы у него была сигарета, он бы закурил.
Из квартиры вышла девушка лет двадцати. Тонкий, как шелк, сиреневый плащ, туфельки на обалденных каблуках, плетеная сумка с золотым замочком. И все же Рик не мог назвать незнакомку фифой, завернутой в дорогую обертку лакомой конфеткой. То ли абсолютное небрежение к дорогим вещам, то ли отсутствие кокетливости в движениях и крикливый макияж были тому причиной. Казалось, девушка ставила своей целью не привлечь, а оттолкнуть, спрятаться за внешними атрибутами, за шмотками и краской, и ни в коем случае не выдать себя. Рик ощутил это настолько отчетливо, будто это были его собственные чувства. Девушка открыла сумочку и не торопясь вытащила пачку сигарет. Рик спешно достал Светкин коробок и чиркнул спичкой.
– Огоньку не желаете? – Но подойти к красотке он не успел – между ними возник парень, здоровый, как дубовый шкаф, и схватил Рика за руку.
Рука тут же онемела, будто в нее вкололи десять доз новокаина.
– Убирайся, – прошипел обладатель стокилограммового тела.
– Я только огоньку, – обалдело прошептал незадачливый ухажер.
– Пшел!
Лестница ушла из-под ног, Рик кубарем покатился вниз, пересчитывая ступеньки, и наконец замер в углу пролета, больно стукнувшись коленом о стену.
– Ну зачем так, Тим, – донеслось до Рика. – Вдруг он себе шею сломал?
– Такие живучи, как собаки, – хмыкнул охранник. – Этот тип, наверняка, из двенадцатой. Не волнуйся, скоро этот гадюшник разорят.
Каблучки лакированных туфелек зацокали возле самого уха.
– Он точно жив? – вновь спросил девичий голос.
Рику представилось, что сейчас девушка пнет его носком туфельки как падаль. Он спешно поднялся, давая понять, что ее участие ни к чему. Он стоял, скрючившись, делая вид, что ему очень больно, но краем глаза наблюдал за Тимом. Его не смущало то, что противник может сделать из него котлету. Просто никому Рик не мог спустить подобное. Тим решил, что инцидент исчерпан, и отвернулся. Тут же нога Рика мгновенно взметнулась в воздух. До головы здоровяка, конечно, не дотянуться не удалось, но и удара в живот вполне хватило, чтобы Тим потерял равновесие и, как мгновение назад Рик, скатился на пролет вниз. Рик не стал дожидаться, когда громила поднимется, высадил ногой узкое лестничное окно и выпрыгнул на улицу. Проходные дворы во всем квартале были ему знакомы, как любой бездомной собаке, и через три минуты он очутился в густом сплетении улиц, в торопливо снующей толпе. Он шел, и его разбирал счастливый смех. Давно он не чувствовал себя так радостно. Ему казалось, что он одержал победу над целым миром. Мерзостный утренний осадок, оставшийся после общения с Сержем, окончательно улетучился. И Серж, и громила Тим, и безвкусно размалеванная девица казались теперь просто смешными.
Рик, победитель, шагал навстречу неведомому.
Прошагав изрядно, он наконец остановился у книжного лотка, на котором только-только разложили товар, и выбрал книгу наугад. Продавец неприязненно на него покосился, но ничего не сказал.
У Рика был свой метод чтения, им же самим и изобретенный. Самый совершенный и самый быстрый. При этом не требовалось покупать книгу. Сначала Рик читал первые три-четыре страницы – обычно здесь появляется главный герой и говорит свои первые фразы. Обозначен мир, время, мечта. Далее надо перелистнуть страниц пятьдесят и прочесть еще два листа, потом через сотню – еще пару. Несколько намеков, ярких образов (если они есть) с тобой. И дальше ты можешь накручивать на них все, что угодно, – выдумки и реальность, подлость и благородство. Фантазии ему было не занимать.
В этот раз книга попалась странная. Интересными в ней оказались как раз только первые несколько страниц, где излагалась вся суть, а дальше шел бессмысленный наворот событий. Сама идея понравилась: тысячи, миллионы, миллиарды миров, и каждый от другого разнится лишь той малостью, что, к примеру, там, за углом Рик повернет налево, вместо того чтобы свернуть направо. И где-то есть мир, в котором он, Рик, живет в квартире за металлической дверью, а красотка в сиреневом плаще расхаживает в драном свитере и продает свое тело, чтобы заработать на дозу.
Только стоит ли ради этого создавать целый мир?
Рик отложил книгу и двинулся по улице. Но не прошел и двадцать шагов, как вновь остановился на углу. Куда свернуть? Направо? Налево? В эту минуту, визжа тормозами, к остановке подкатил трамвай. И, повинуясь внезапному решению, как приказу, Рик вскочил на заднюю площадку. Два старых скрюченных вагончика дернулись и помчались, раскачиваясь на рельсах, будто хотели сорваться и улететь далеко-далеко в небеса.
Глава 3
Неужели он все еще живет? Каждый вечер и каждое утро она думает об этом, и с годами появляется надежда, что ей все-таки удастся его пережить. Это очень важно. Маленькая, последняя, быть может, единственная победа, которая никому не нужна. Потому что ее жизнь – это только ее жизнь, никем не удлинена. Ни сыном, ни внуком. Но когда он умрет, а она останется, тогда будет она доживать не свою жизнь, а Эрикову. Хоть годочек, хоть два, хоть пять… Может, это все и не очень хорошо придумано, но она это придумала, и поверила, и обрадовалась.
Отчетливо представилось, как он, обрюзгший, похожий на кусок рыхлого теста, стоит, по-дыбному голый, на коленях перед пустым белым креслом и что-то неслышно бормочет лиловыми старческими губами. Что – не разобрать. Бывает так ночью: проснешься с какою-то внезапной и страшной мыслью. Сегодня опять – он.
Как много лет назад, отлепился от каменной стелы моста и загородил узкую тропинку в снегу. А она-то понадеялась, что уже миновала мост. Перед ней был не просто человек – он олицетворял власть. Человек – толстый, власть – непоколебимая. Разумеется, толстым он казался лишь по тем временам. На самом деле он был впалощек, ушанка стягивала в узел голодное темное лицо. Сомнительная его упитанность говорила о преступности головы и рук. От другого она бы попыталась бежать, несмотря на безнадежность попытки. Но власть, как мороз, сковала ее руки и ноги.
– Что несешь? – милиционер кивнул на холщовый мешок, который она прижимала к груди.
– Это для Эрика, – проговорила Ольга, с трудом ворочая языком.
– Дай. – Он вцепился в мешок и потянул к себе.
Он был сильным, но все же не мог выдрать у нее мешок. Они топтались на месте, вцепившись онемевшими от мороза пальцами в драгоценную холстину, каждый тянул к себе, обливаясь потом и молча стискивая зубы.
За Невою вспыхнули два белых луча прожекторов и заметались по небу. Неведомый отблеск света упал на его лицо, и Ольга разглядела противный нос луковицей и черные, будто налитые мертвой водою глаза.
– Это посылка для сына! Муж с фронта передал! Эрику годик, ты слышишь, ему только годик! – торопливо пробормотала она, как спасительное заклинание.
Но у него было свое заклинание – страшное.
– Пойдем в отделение, там разберемся, кто тебе и что передал. И откуда… – пригрозил он, пыхтя, по-прежнему не в силах отнять мешок.
Упоминание об отделении сделало свое дело: замерзшие пальцы разжались, мешок оказался у него. Он запустил руку внутрь и вытащил банку сгущенки. Сгущенка! Тут же представился кипяток, густо забеленный и сладкий.
– Это молоко! – крикнула она. Неужели он не понимает, ЧТО отнимает у ее ребенка?! – Возьмите лучше хлеб.
– Хлеб тоже возьму. Я, в отличие от таких, как ты, голодаю.
Теперь в руках его очутился кусок масла. Секунду он взвешивал его на руке. Потом посмотрел на Ольгу. Глаза… Может быть, в то мгновение глаза его что-то выражали? Она не поняла. Он зажал мешок под мышкою и попытался разломить брикет. Ничего не получалось, пальцы соскальзывали, и он уронил кусок масла в снег. Наклонился поднять. В кармане старой шубки у Ольги лежал ключ – огромный, тяжелый, с острым, как шип, навершьем. Не ключ, а нож. Она видела голую шею, высунувшуюся из ворота шинели, такую тонкую, с удобной, глубокой ямкой посередине. Неужели у нее не хватило бы силы ударить?! Она бы вернула хлеб, и сгущенку, и брикет масла. Эрик остался бы жить. Господь, в которого она не верит, простил бы ей этот грех. Господь бы простил…
Но Ольга лишь потрогала ключ и разжала пальцы. Не ударила. Не смогла. Грабитель выпрямился. Еще раз потискал брикет. Отломился маленький кусочек, меньше трети, и он милостиво вернул его вместе с мешком.
– Бери, всю жизнь будешь помнить и благодарить.
Да, помнит всю жизнь. Будь ты проклят!
…Ольга Михайловна встала. В свете хмурого утра виден стол с неубранной посудой, в чашке до черноты настоялся недопитый чай. Тихо в квартире. Только слышно, как капает на кухне вода. Окно в доме напротив оживилось тусклым светом. Там встали, суетятся, спешат. Заглатывают яичницу. Ругаются, теряя терпение. Если бы Ольга Михайловна жила за тем окном, она бы никогда не кричала. А лишь счастливо улыбалась, радуясь, что вокруг нее так много живых людей.
Она хотела убрать посуду, потом передумала и подошла к буфету, поправила фотографию в рамочке. За стеклом – полугодовалый Эрик, сидит, прижимая к себе попугая. У Эрика толстые щеки, надутые губы и испуганно-удивленные глаза. Поразительные у него были глаза – как два прозрачных больших изумруда. Но фото черно-белое, и вместо изумрудов получились просто серые кружочки. И зеленый попугай тоже серый, как голубая кофточка, как синие пинетки. Фотографию сделали за две недели до войны. Еще никто не знал, как все будет.
Фото Сергея хранится среди бумаг. Иногда Ольга Михайловна достает его. Но очень редко. Сергей вернулся с войны, но, пожалуй, им обоим было бы легче, если бы он остался там. Упорхнуло ее счастье, выскользнуло из рук, как мешок с драгоценной посылкой. Ночами ей снится не Эрик, нет, а не выпитый им кипяток со сгущенкой. Или масло. Оно тает крошечным желтым солнцем в алюминиевой мисочке с жиденькой кашей. Господи, если Ты есть, пусть там, у Тебя, Эрик каждый день пьет чай со сгущенкой, сладкий-сладкий. Очень прошу Тебя.
Попросила и перекрестилась на пустой угол без иконы. Грустно начинается новый день. Долгий, обычный. Ольга Михайловна накинула халат и, шаркая отечными ногами, побрела на кухню. Дверь в соседнюю комнату закрыта. Там темно. Уже три года, как умерла Эмма Ивановна. С тех пор в ту комнату Ольга Михайловна заходит, только чтобы вытереть пыль. На другой день после похорон внучка Эммы Ивановны от младшего сына Василия три дня разбирала сундуки с вещами. На полу валялись груды ветхих платьев и облезлых меховых горжеток, пачки поздравительных открыток, перевязанных тесемками, драные книжки на французском и немецком без конца и начала. Внучка искала сокровища. До внучки дошли смутные семейные предания о прежних богатствах Эммы Ивановны и супруга ее, офицера царской армии. Где же кольца и серьги, и знаменитое украшение из двенадцати бриллиантов?! Напрасно Ольга Михайловна объясняла молодой (то есть сорокалетней ) женщине, что немногие ценности, которые удалось сберечь в революцию, Эмма Ивановна благополучно сдала в Торгсин, потому как в послереволюционные годы нигде не работала, а только все проживала. Последние двенадцать бриллиантов у нее украли из сумочки в трамвае в тридцать девятом году, а последнее колечко с изумрудом она «проела» в эвакуации. Племянница в истории эти не поверила, силой ворвалась в комнату Ольги Михайловны, выбросила вещи из шкафа и все перерыла. Ничего не найдя, принялась орать, что старуха их обокрала, и требовала немедленно «отписать» ей квартиру, такова якобы была воля покойной. Пришлось звонить Гребневу, и он, приехав, выдворял Ирину и супруга ее из квартиры, а после отпаивал Ольгу Михайловну валидолом. Вспомнив о Гребневе, Ольга Михайловна подумала, что тот давненько уже не звонил и в гостях не бывал полгода. Она хотела немедленно ему позвонить, но потом передумала и пошла на кухню.
Кухня в квартире полутемная, напротив окна кирпичная глухая стена почти вплотную. Но Ольга Михайловна не стала включать лампочку. И в полутьме можно нащупать коробок и зажечь газ. Жизнь была слишком долгой и потеряла цельность, распалась на тысячи мелочей: на зажженные по второму разу спички, на старые, хранимые в ящике открытки, на ожидание писем от позабывших ее подруг. Молодые живут иначе, им кажется, что все еще впереди. А впереди ничего нет. Только усталость. И ожидание смерти.
Старуха вздрогнула, когда раздался этот звук… Не сразу сообразила, что стучат в дверь громко, нетерпеливо. Именно стучат, а не звонят. На цыпочках вышла в прихожую, чтобы подпереть дверь гладильной доской: в неурочное время она давно уже никому не открывала. Но гладильной доски на месте не оказалось. А дверь вздрагивала, как живая, под ударами. Старый хлипкий замочек дергался, готовый выскочить из гнезда.
– Мама! – крикнул голос за дверью. – Мама, это же я! Я! Эрик!
Сердце ее так и покатилось. Дверь выросла в высоту, а звуки сделались резкими, пронзительными до визга. Когда Ольга Михайловна пришла в себя, то поняла, что сидит на полу, сжимая в руках обгорелую спичку.
– Эрик, Эрик, – пробормотала она, – разве ты не умер? Ведь я зашила тебя в голубое одеяло и повезла на саночках… Эрик, значит, ты ожил, да? Ты спасся? Ты чудом спасся?
И руки сами повернули замок.
На площадке стоял паренек лет двадцати в клетчатой рубашке и драных джинсах. Обычный парень, каких много, – невысокий, немного сутулый, с худым бледным лицом. Острые скулы, темные брови, длинные русые волосы стянуты на затылке в пучок. Постой… Но ведь Эрику… Эрику должно быть уже за пятьдесят.
– Что, молодо выгляжу? – засмеялся гость, как будто подслушал ее мысль. – Все очень просто: в нашем мире время течет иначе, – гость обнял Ольгу Михайловну и поцеловал в седые поредевшие волосы. – Я так рад, что ты жива, мама.
Она хотела оттолкнуть его, но не смогла. Коротенькое слово «мама» прозвучало заклинанием, и околдовало ее. За всю жизнь никто ее так не называл. Эрик умер, не начав говорить, а Гребнев все годы, что прожил у Ольги Михайловны, всегда называл ее «тетя Оля». Она заплакала.
– Ну что ты, мама? – Рик отстранился и попытался стереть слезу с ее щеки. – Не надо. Я так хотел тебя увидеть! Потому первый и согласился на переброс среди добровольцев.
Она посмотрела ему в глаза. Они были зеленые, со светлым ореолом вокруг зрачка. Совершенно невозможный, невероятный цвет.
– Эрик… – выдохнула она и в ту минуту поверила ему совершенно.
– Какое счастье, что ты здесь есть! Мне говорили, что это так, но я не верил. Сказал себе: не поверю, пока не увижу.
– То есть… – не поняла она.
– В моем мире ты умерла, а я остался жив, – прошептал он.
Через пятнадцать минут Ольга Михайловна суматошно металась между плитой, столом и холодильником, не зная, чем таким невероятным угостить своего внезапно объявившегося сына. Впрочем, выбор был невелик: чайная колбаса да яйца. Она решила: пусть будет и то, и другое.
Пока колбаса жарилась, Эрик нетерпеливо приплясывал у плиты, хватал ломти со сковородки руками и отправлял их в рот целиком.
– Неужели в вашем мире еды не хватает? – покачала головой Ольга Михайловна и улыбнулась. – Впрочем, у нас тут совсем недавно было такое… опять карточки… очереди…
– Хватает, – отвечал Рик с набитым ртом. – Но переброс отнимает много энергии. Просто жуть.
– Расскажи мне о своем мире. Какой он? Лучше нашего? – попросила она.
– Не знаю. Там иначе… – обманщик запнулся. – Впрочем, я и вашего мира почти не видел… – он вновь запнулся и сбился с роли.
Мгновенно возникшее между ними доверие исчезло. Ольга Михайловна почувствовала неладное и посмотрела на гостя.
«Жулик? – пронеслось в голове. – Я никогда не была так счастлива, как последние полчаса», – подумала она и вздохнула.
– У нас каждый сам по себе, – спешно заговорил Рик, – каждый носит оружие и воюет сам за себя. Ты невозможно одинок и в столкновении с другими теряешь частицы самого себя, ты все время как будто таешь, уменьшаешься, постепенно превращаясь в «ничто». – Фантазер опять нащупал нужную тональность, голос его зазвучал убедительно, было невозможно ему не поверить.
Это его стихия – фантазия, которая кажется подлинней реальности.
– Чем же мне тебя еще угостить? – засуетилась Ольга Михайловна, будто извиняясь за то, что минуту назад усомнилась в своем ненаглядном Эрике. – А, знаю! Сгущенка! Или… – Она опять засомневалась. – Ты, может быть, ее теперь не любишь?
– Сгущенку не люблю? – расхохотался Рик. – Да что ты, мама! Кто же сгущенку не любит? Это же самая моя любимая еда! – Он вскрыл банку и принялся поглощать густую белую массу ложками.
Может быть, это как раз та самая банка… ну та… которую отняли?
– Эрик, мальчик мой… – Ольга Михайловна почувствовала, что голос ее срывается. – А там, в вашем мире, тоже был милиционер?
– Что?
–Я тоже повстречала милиционера, когда несла посылку?