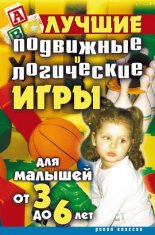Зима тревоги нашей Стейнбек Джон
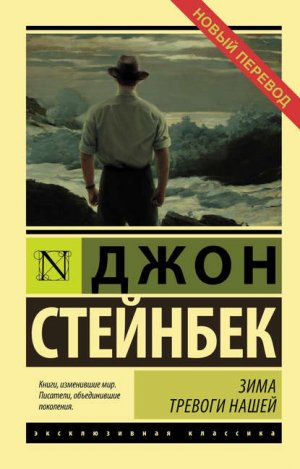
— И ты ни разу ни цента не положил в карман, ни разу не унес ничего домой, не записав в книжку.
— Честность — мой рэкет.
— Ты не шути. Я верно говорю. Я проверяю. Я знаю.
— Что ж, прицепите мне медаль на грудь.
— Все воруют — кто больше, кто меньше, а ты нет. Я знаю!
— Может, я просто жду случая украсть уж все сразу.
— Брось свои шутки. Я верно говорю.
— Альфио, вам попался бриллиант. Не трите его слишком сильно, а то как бы не обнаружилась подделка.
— Хочешь, я возьму тебя в дело компаньоном?
— А капитал? Мое жалованье?
— Что-нибудь придумаем.
— Тогда я ничего не смогу украсть у вас, не обворовав самого себя.
Он весело засмеялся.
— Ты умен, мальчуган. Но ведь ты и так не крадешь.
— Вы не слыхали, что я сказал. Может, я задумал украсть все сразу.
— Ты честен, мальчуган.
— Вот и я говорю. Чем ты честней, тем меньше тебе верят. Знаете, Альфио, лучший способ скрыть свои настоящие побуждения — это говорить правду.
— Что ты там мелешь?
— Ars est celare artem.[20]
Он пошевелил губами, повторяя, и вдруг расхохотался.
— Xa-xa-xa! Hic erat demonstrandum.[21]
— Хотите выпить холодной кока-колы?
— Мне вредно — вот тут! — Он хлопнул себя по животу.
— Не так вы еще стары, чтоб возиться с больным желудком, ведь вам еще нет пятидесяти?
— Пятьдесят два, и желудок у меня в самом деле больной.
— Допустим, — сказал я. — Вы, значит, приехали сюда двенадцатилетним, если это было в двадцатом году. Рано же в Сицилии начинают учить латынь.
— Я был певчим в церкви.
— Я сам участвовал в церковном хоре — носил крест во время богослужения. Ну, как хотите, а я выпью. Альфио, — сказал я, — вы придумайте для меня способ вступить в дело, а тогда я погляжу. Но предупреждаю вас, денег у меня нет.
— Придумаем, придумаем.
— Но у меня будут деньги.
Он смотрел на меня в упор, как будто что-то притягивало его взгляд. И наконец сказал тихо:
— Io lo credo.[22]
Чувство силы, если не славы, всколыхнулось во мне. Я открыл бутылку кока-колы и, поднося ее к губам, посмотрел поверх стеклянного ствола прямо в глаза Марулло.
— Ты славный мальчуган, — сказал он и, пожав мне руку, направился к выходу.
Что-то вдруг толкнуло меня его окликнуть:
— Альфио, а как ваше плечо?
Он удивленно оглянулся.
— Теперь не болит, — сказал он. И пошел дальше, повторяя самому себе: — Теперь не болит.
Вдруг он вернулся взволнованный.
— Надо тебе взять эти деньги.
— Какие деньги?
— Эти пять процентов.
— Зачем?
— Надо взять. Будешь мне выплачивать свой пай постепенно — сейчас немножко, потом еще немножко. Только требуй не пять, а шесть.
— Нет.
— Как это нет, если я говорю да?
— Мне это не нужно, Альфио. Я бы взял, если бы мне нужно было, но мне не нужно.
Он глубоко вздохнул.
Днем в лавку не так валил народ, как с утра, но все-таки дела было много. Не знаю отчего, но между тремя и четырьмя часами всегда наступает затишье минут на двадцать или на полчаса. Потом идет новая волна покупателей — трудовой люд по дороге с работы или хозяйки, спохватившиеся, что у них ничего нет на обед.
В час затишья явился мистер Бейкер. Он долго разглядывал сыры и колбасы за стеклом холодильника, дожидаясь, когда уйдут два замешкавшихся покупателя, оба из породы нерешительных, таких, которые сами не знают, чего хотят, — возьмут одно, положат, возьмут другое, положат — и точно надеются, что нужная вещь сама вскочит им в руки и попросит купить ее.
Наконец они все-таки что-то купили и ушли.
— Итен, — сказал мистер Бейкер. — Вам известно, что Мэри взяла тысячу долларов?
— Да, сэр. Она меня предупредила об этом.
— А вам известно, зачем ей понадобились деньги?
— Еще бы, сэр. Она уже полгода толкует об этом. Вы же знаете женщин. На мебели разве что немного пообтерлась обивка, но с того дня, как она задумала купить новую, это уже старый хлам, на котором сидеть нельзя.
— А вы не считаете, что сейчас глупо тратить деньги на такие вещи? Я ведь вам вчера говорил, какие намечаются перспективы.
— Это ее деньги, сэр.
— Речь идет не о каких-нибудь рискованных спекуляциях, Итен. Речь идет об абсолютно надежном помещении капитала. С этой тысячей она бы через год и мебель купила и еще бы тысяча у нее осталась.
— Мистер Бейкер, я не могу запретить ей тратить ее собственные деньги.
— Но вы бы могли объяснить ей, вы бы могли ее урезонить.
— Мне как-то не пришло в голову.
— Это ответ в духе вашего отца. Это ответ слюнтяя. Я берусь помочь вам стать на ноги, но только в том случае, если вы не будете слюнтяем.
— Постараюсь, сэр.
— Вдобавок она еще, кажется, не хочет иметь дело с местными фирмами. Польстится на скидку где-нибудь на распродаже и уплатит все наличными. Да еще неизвестно, что ей там всучат. Здесь, может быть, обошлось бы и дороже, но по крайней мере есть с кого спросить, если что не так. Вы должны вмешаться, Итен. Заставьте ее положить деньги обратно. Или пусть доверит их лично мне. Она не прогадает.
— Эти деньги — ее наследство после брата, сэр.
— Знаю. Я попытался ее образумить, когда она пришла за ними. Она сделала голубые глаза и сказала, что хочет поехать посмотреть. Как будто нельзя ездить и смотреть без тысячи долларов в кармане! Если у нее соображения не хватает, так вы-то должны соображать!
— Не разбираюсь я в этих делах, мистер Бейкер, привычки нет. Ведь у нас, с тех пор как мы поженились, никогда не было денег.
— Ну так советую вам разобраться, и как можно скорее, а то у вас их и не будет. У некоторых женщин пристрастие к мотовству все равно что наркомания.
— У Мэри нет такого пристрастия, сэр. Откуда?
— Нет, так будет. Стоит ей раз отведать крови и она почувствует вкус к убийству.
— Мистер Бейкер, вы это не серьезно.
— Совершенно серьезно.
— Мэри — самая бережливая жена на свете, да ей и нельзя иначе.
Тут он неизвестно почему разбушевался.
— От вас я этого не ожидал, Итен. Если вы хотите чего-то добиться, прежде всего сумейте быть хозяином в собственном доме. Можете повременить с новой мебелью еще немного.
— Я-то могу, она не может. — Мне вдруг пришла в голову мысль, что у банкиров особое зрение на деньги, вроде рентгеновских лучей, и он сейчас видит конверт, лежащий в моем кармане. — Попробую ее уговорить, мистер Бейкер.
— Если она уже все не истратила. Где она сейчас, дома?
— Собиралась поехать автобусом в Риджхэмтон.
— Боже мой! Ну конечно, тысячи долларов как не бывало.
— Это ведь не весь ее капитал, сэр.
— Не в том дело. Без денег вам никуда нет хода.
— Деньга деньгу делает, — вполголоса сказал я.
— Именно. Зарубите это себе на носу, иначе вы пропащий человек, так и будете всю жизнь торчать за прилавком.
— Мне очень жаль, что так случилось.
— Чем жалеть, лучше заставьте ее слушаться.
— Женщины чудной народ, сэр. Вы вчера говорили о том, как наживают деньги, и, может быть, ей показалось, что это очень легко.
— Так рассейте ее заблуждение: ведь, если у вас не с чего будет начинать, вам ни о каких деньгах и думать не придется.
— Не хотите ли выпить холодной кока-колы, сэр?
— Да, хочу.
Пить из бутылки он не умел, пришлось открыть пачку бумажных стаканчиков. Зато он сразу поостыл и теперь только глухо ворчал, как гром, замирающий в отдалении.
Вошли две негритянки из дома на перекрестке, и ему оставалось только залпом проглотить свою кока-колу и свое негодование.
— Так не забудьте поговорить с ней! — сердито рявкнул он и пошел из лавки. Я подумал, не оттого ли он так злится, что заподозрил подвох, но тут же откинул эту мысль. Нет, просто он чувствует, что вышло не по его, а он к этому не привык, оттого и злится. Нетрудно прийти в ярость, когда ты советуешь, а твоих советов не слушают.
Эти негритянки — приятные покупательницы. На перекрестке живет целая колония цветных, очень славные люди. Они сюда ходят редко, потому что у них есть своя лавка, но иногда делают у нас кое-какие покупки для сравнения, чтобы выяснить, не слишком ли дорого обходится им расовая солидарность. Эти две не столько покупали, сколько приценивались, но я понимал, в чем дело, и потом на них приятно было смотреть: красивые женщины, с такими длинными, стройными, прямыми ногами. Удивительно, как много значит для человеческого тела относительно сытое детство — да и для духа тоже.
Перед самым закрытием я позвонил Мэри по телефону.
— Я сегодня приду немного позже, пушинка.
— Не забудь, что мы обедаем с Марджи в «Фок-мачте».
— Я помню.
— На сколько ты запоздаешь?
— Минут на десять — пятнадцать. Хочу сходить посмотреть, как работает землечерпалка в гавани.
— Зачем это?
— Я подумываю, не купить ли ее.
— Фу!
— Принести тебе рыбки?
— Разве если попадется хорошая камбала. Больше теперь ничего не найдешь.
— Ладно. Ну, я пошел.
— Только не копайся, пожалуйста. Тебе еще нужно мыться, переодеваться. Все-таки ведь «Фок-мачта».
— Будь спокойна, моя прелесть, моя красавица. И влетело же мне от мистера Бейкера за то, что я позволил тебе истратить тысячу долларов.
— Ах он старый козел!
— Мэри, Мэри! У стен есть уши.
— Скажи ему, пусть он… сам знаешь что.
— Ну, где ему! Кроме того, он тебя считает дурочкой.
— Что-о?
— А меня — слюнтяем, размазней и еще чем-то в этом роде.
Она засмеялась своим переливчатым смехом, от которого у меня сладкие мурашки по сердцу бегут.
— Жду тебя, милый, — сказала она. — Жду-жду-жду…
А каково мужчине слышать такие слова! Повесив трубку, я стоял у телефона весь обмякший, раскисший от счастья — если так бывает. Я пробовал вспомнить, как я жил до Мэри, но память ничего не подсказывала, пробовал вообразить, как бы я жил без нее, но воображение рисовало только какую-то серую неопределенность в траурной рамке.
Солнце уже зашло за кромку холмов на западе, но большое пухлое облако вобрало его лучи и отбрасывало их на гавань, на волнорез, на морскую даль, и от этого гребешки волн заалели, как розы. У самого мола торчат из воды причальные сваи — тройные связки бревен, стянутые наверху железным обручем и стесанные в форме пилонов, чтобы лучше сдерживать зимой напор льда. И на всех неподвижно стояли чайки, большей частью самцы, с ослепительно белой грудью и аккуратными серыми крыльями. Интересно, может, у каждого из них свое место, которое он может продавать или сдавать внаймы.
Несколько рыбачьих лодок были вытащены на берег. Я знаю всех рыбаков, знаю их с тех пор, как помню себя. Мэри оказалась права. Ничего у них не было, кроме камбалы. Я купил четыре штуки получше у Джо Логана и постоял возле него, покуда он разделывал их ножом, входившим в рыбью тушку легко, как в воду. Весной есть одна дежурная тема для беседы: скоро ли пойдет кумжа? Существует поговорка: «Сирень цветет — кумжа идет», но на эту примету положиться нельзя. Сколько я себя помню, всегда бывало так: или кумжа еще не пошла, или она уже прошла. А какая красивая эта рыбка, ладная, как форель, чистенькая, серебристая, как… как серебро. И пахнет хорошо. Так вот кумжа не шла. Джо Логану не удалось поймать ни одной штуки.
— Что до меня, так я люблю морского окуня, — сказал Джо. — Смешно! Когда говоришь «морской окунь», никто на него и смотреть не хочет, а назови его «морской курочкой» — покупатели прямо рвут из рук.
— Как ваша дочка, Джо?
— Да то вроде получше, а то опять словно тает. Горе мне с ней.
— Тяжело, конечно. Сочувствую вам.
— Если б хоть чем-нибудь можно было помочь…
— Я понимаю — бедная девочка. Вот бумажный мешок, Джо. Просто бросьте в него рыбку. Вы передайте дочке привет от меня, Джо.
Он впился в меня взглядом, точно надеялся выжать из меня что-то, какое-то лекарство.
— Ладно, Ит, — сказал он. — Передам.
За волнорезом работала землечерпалка, ее гигантский насос втягивал со дна ил и раковины и по трубе, уложенной на понтонах, гнал все на берег, за просмоленную черную загородку. На землечерпалке зажжены были и ходовые и якорные огни, и два красных шара на высоком шесте указывали, что работа производится. На палубе, опершись голыми локтями на поручни, стоял бледнолицый кок в белом колпаке и переднике, смотрел вниз, в растревоженную воду, и время от времени сплевывал за борт. Ветер дул с моря. Он доносил вонь ила, и мертвых моллюсков, и полусгнивших водорослей, смешанную со сладким запахом яблочного пирога с корицей, который пекли на землечерпалке.
Маленькая яхта сверкнула парусами в последних отсветах зари, но розовую вспышку тотчас же погасила тень берега. Я повернул назад и, минуя старый яхт-клуб и здание Американского легиона с выкрашенными в темную краску пулеметами у входа, пошел налево.
На лодочной пристани, несмотря на поздний час, еще работали — смолили и красили лодки, готовя их к летнему сезону. Необычно поздняя весна задержала эту работу, а теперь нужно было спешно наверстывать упущенное.
Я обогнул лодочную пристань и через заросший сорняком пустырь дошел до конца гавани, а оттуда неторопливым шагом направился к хибарке Дэнни. Я шел и насвистывал старую песенку на тот случай, если Дэнни не расположен со мной встречаться.
Так оно, по-видимому, и было. Хибарка была пуста, но я мог бы дать голову на отсечение, что Дэнни где-то рядом — лежит в зарослях сорняков или прячется за одним из валяющихся кругом толстенных бревен. Не сомневаясь, что он вылезет, как только я уйду, я достал из кармана желтый конверт, стоймя пристроил его на грязной койке около стены и вышел из хибарки, только на минуту прервав свой свист, чтобы сказать вполголоса: «До свидания, Дэнни. Желаю удачи». Так, насвистывая, я и вернулся в город, прошел мимо нарядных особняков Порлока, вышел на Вязовую и наконец очутился у своего дома — старого дома Хоули.
Я застал мою Мэри храбро сражающейся с бурей. Вокруг нее свирепствовали ветры, плыли по волнам обломки крушений, а она, в туфельках и белой нейлоновой комбинации, управляла разбушевавшейся стихией, сохраняя выдержку и мужество. Только что вымытая голова, вся в навернутых на бигуди локонах, очень напоминала большой выводок колбасок-сосунков. Я не упомню, когда мы с ней последний раз обедали в ресторане. Нам это не по карману, и мы давно отстали от этой привычки. Вихрь, закруживший Мэри, прихватил стороной и детей. Она кормила их, умывала, отдавала распоряжения, заменяла эти распоряжения другими. Посреди кухни стояла гладильная доска, и весь мой драгоценный гардероб, тщательно отутюженный, был развешан на спинках стульев. Мэри делала все дела сразу, поминутно подбегала к доске, чтобы провести утюгом по разложенному на ней платью. Дети от возбуждения почти не могли есть, но не смели ослушаться.
У меня пять так называемых выходных костюмов — совсем недурно для продавца бакалейной лавки. Я по очереди потрогал пиджаки на спинках стульев. Каждый костюм имел у нас свое название: синий — Старый, коричневый — Джордж Браун, серый — Дориан Грей, черный — Похоронный и темно-серый — Сивый мерин.
— Какой мне надеть, мой ночничок?
— Ночничок? О-о!.. Погоди, обед не парадный, и сегодня понедельник. По-моему, Джорджа Брауна или Дориана, да, пожалуй, Дориана, это будет не парадно и в то же время достаточно парадно.
— И бабочку в горошек, да?
— Конечно.
Вмешалась Эллен:
— Папа! Нельзя тебе надевать бабочку! Ты слишком старый.
— Вовсе нет. Я молодой, веселый и легкомысленный.
— Над тобой будут смеяться. Очень рада, что я с вами не иду.
— Я тоже очень рад. С чего это тебе вздумалось записать меня в старики?
— В старики не в старики, но для бабочки ты стар.
— Ты противная маленькая доктринерка.
— Ну, если тебе хочется, чтобы все смеялись, пожалуйста.
— Да, мне именно этого хочется. Мэри, тебе разве не хочется, чтобы все смеялись?
— Не приставай к папе, ему нужно еще принять душ. Сорочку я приготовила, лежит на кровати.
Аллен сказал:
— Я уже написал половину сочинения.
— Тем лучше, потому что летом я тебя приставлю к делу.
— К какому делу?
— Будешь работать со мной в лавке.
— Ну-у! — Его явно не воодушевляла эта перспектива.
Эллен открыла было рот, но хотя мы повернулись к ней, так ничего и не сказала. Мэри в сто восемьдесят пятый раз стала объяснять детям, что они должны и чего не должны делать в наше отсутствие, а я пошел наверх, в ванную.
Когда я надевал перед зеркалом свою любимую синюю бабочку в горошек, вошла Эллен и прислонилась к двери.
— Все было бы ничего, если бы ты был помоложе, — сказала она до ужаса по-женски.
— Не завидую я твоему будущему счастливому супругу, моя дорогая.
— Даже мальчики в старших классах не носят бабочек.
— А премьер Макмиллан носит.
— Это другое дело. Папа, списывать из книжки жульничество?
— Не понимаю.
— Ну, если кто-то — например, если я буду писать сочинение и возьму чего-нибудь из книжки, это как?
— Ты хотела сказать — что-нибудь?
— Ну, что-нибудь.
— Зависит от того, как ты это сделаешь.
— Теперь я не понимаю.
— Если ты поставишь кавычки и сделаешь сноску с указанием, кто автор, это только придаст твоей работе солидность и значительность. Пожалуй, половина американской литературы состоит из цитат или подборок. Ну, нравится тебе мой галстук?
— А если без этих самых… кавычек?
— Тогда это все равно что воровство, самое настоящее воровство. Надеюсь, ты не сделала ничего подобного?
— Нет.
— Тогда что же тебя смущает?
— А за это могут посадить в тюрьму?
— Могут — если ты таким образом получишь деньги. Так что лучше ты этого не делай, дочка. Но что ты все-таки скажешь о моем галстуке?
— Я скажу, что с тобой невозможно разговаривать.
— Если ты намерена сейчас спуститься вниз, передай своему милейшему братцу, что я ему принес его дурацкого Микки-Мауса, хоть он этого вовсе не заслужил.
— Никогда ты не выслушаешь серьезно, по-настоящему.
— Я очень внимательно слушал.
— Нет, не слушал. Потом сам пожалеешь.
— До свиданья, Леда. Попрощайся с Лебедем.
Она побрела вниз — олицетворенный соблазн с необсохшим молоком на губах. Девочки ставят меня в тупик. Они оказываются — девочками.
Моя Мэри была просто прекрасна, просто блистала красотой. Сияние струилось из всех пор ее существа. Она взяла меня под руку, и когда мы шли по Вязовой улице под сенью деревьев, пронизанной светом уличных фонарей, честное слово, наши ноги несли нас с величавой и легкой резвостью чистокровок, приближающихся к барьеру.
— Мы с тобой поедем в Рим! Египет слишком тесен для тебя. Большой мир зовет.
Она фыркнула. Честное слово, она фыркнула с непосредственностью, которая сделала бы честь нашей дочери.
— Мы чаще будем выезжать в свет, родная моя.
— Когда?
— Когда разбогатеем.
— А когда это будет?
— Скоро. Я научу тебя носить бальные туфли.
— А ты будешь раскуривать сигары десятидолларовыми бумажками?
— Двадцатидолларовыми.
— Ты мне нравишься.
— Эх, мэм. Постыдились бы говорить такое. В краску меня вогнали.
Не так давно хозяин «Фок-мачты» вставил в окна, выходящие на улицу, рамы с частым переплетом, застекленные квадратиками толстого бутылочного стекла. Это должно было придать и придавало ресторану сходство со старинной харчевней, зато тем, кто смотрел с улицы, лица сидящих за столиками виделись чудовищно искаженными. На одном все заслоняла выпяченная челюсть, от другого оставался только один огромный глаз, но, впрочем, это, как и ящики с геранью и лобелиями на подоконниках, лишь способствовало впечатлению подлинной старины.
Марджи уже ждала нас, вся — воплощение гостеприимства. Она представила нам своего кавалера, некоего мистера Хартога из Нью-Йорка, у которого лицо было покрыто загаром, приобретенным под кварцевой лампой, а рот так тесно усажен зубами, что напоминал кукурузный початок. Мистер Хартог казался хорошо упакованным и завернутым в целлофан и на любое замечание отвечал одобрительным смехом. Это была его форма участия в разговоре, на мой взгляд довольно удачная.
— Очень приятно познакомиться, — приветливо сказала Мэри.
Мистер Хартог засмеялся.
Я сказал:
— Вы, вероятно, знаете, что ваша дама — колдунья.
Мистер Хартог засмеялся. Мы все чувствовали себя непринужденно.
Марджи сказала: