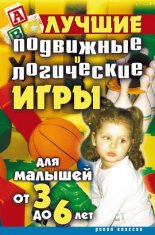Зима тревоги нашей Стейнбек Джон
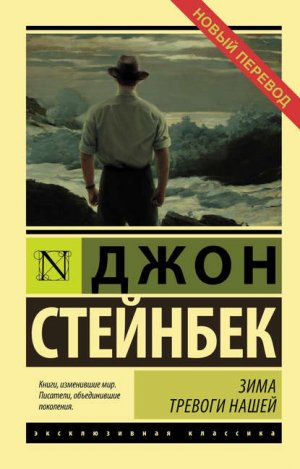
— Для нас оставлен столик у окна. Вон тот.
— Я вижу, вы и цветы заказали, Марджи.
— Должна же я как-то отблагодарить вас, Мэри, за вашу постоянную любезность.
Они продолжали в этом роде, покуда мы рассаживались за столиком и потом, когда все уже заняли свои места по указанию Марджи. А мистер Хартог после каждой фразы смеялся. Как видно, выдающегося ума человек. Я решил, что все-таки вытяну из него хоть слово, но попозже.
Стол выглядел очень нарядно — ослепительно белая скатерть и серебро, которое не было серебром, но казалось более серебряным, чем серебро.
Марджи сказала:
— Вы мои гости, а значит, распоряжаюсь я, вот я и заказала без спроса для всех мартини.
Мистер Хартог засмеялся.
Мартини подали не в рюмках, а в бокалах с птичью ванночку величиной, и в каждом плавал кусочек лимонной корки. Первый глоток обжигал, как укус вампира, и на миг притуплял все ощущения, но потом внутри разливалось приятное тепло и было уже по-настоящему вкусно.
— Сейчас повторим, — сказала Марджи. — Кормят здесь недурно, а после двух мартини покажется совсем хорошо.
Я сказал, что давно мечтаю открыть такой бар, где можно было бы начинать сразу со второго мартини. Верный способ нажить состояние.
Мистер Хартог засмеялся, и не успел я дожевать свою лимонную корку, как на столе появились еще четыре птичьи ванночки.
С первым глотком второго мартини мистер Хартог обрел дар речи. У него оказался низкий, рокочущий баритон, каким говорят актеры, певцы и коммивояжеры, занятые сбытом товара, который никто не хочет покупать. Такой баритон еще называют докторским.
— Я слышал от миссис Янг-Хант, что вы принадлежите к коммерческим кругам Нью-Бэйтауна, — сказал он. — Прелестный, кстати, городок. Такая патриархальная чистота нравов.
Я было вознамерился разъяснить ему, в каком качестве я подвизаюсь на ниве коммерции, но Марджи предупредила меня.
— Мистер Хоули — представитель растущих сил нашего края, — сказала она.
— Вот как? А чем вы занимаетесь, мистер Хоули?
— Всем, — сказала Марджи. — Решительно всем, но, как вы понимаете, не всегда открыто. — В глазах у нее играл хмельной огонек. Я посмотрел на Мэри — у нее еще только чуть затуманился взгляд, и я сделал вывод, что наши компаньоны успели пропустить рюмку-другую до нас, Марджи — во всяком случае.
— Мне остается только промолчать, — сказал я.
Мистер Хартог опять засмеялся.
— У вас очаровательная жена. Такая жена — это уже пятьдесят процентов победы в любой драке.
— Даже сто процентов.
— Итен, мистер Хартог подумает, что у нас с тобой бывают драки.
— А разве нет? — Я сразу отхлебнул полбокала, и теплая волна застлала мне глаза. Бутылочное стекло в одном из квадратиков оконного переплета вспыхнуло отражением свечи и медленно закружилось передо мной. Может, это было самовнушение, потому что я продолжал слышать собственный голос, звучавший как будто откуда-то извне:
— Миссис Янг-Хант — Колдунья с Востока. Ее мартини не мартини. Это отравленное питье. — Сверкающее стекло по-прежнему притягивало мой взгляд.
— А я-то всегда воображала себя Озмой. Ведь Колдунья с Востока была злая колдунья?
— Очень злая.
— Но под конец она, кажется, подобрела?
Мимо окна шел по улице человек. Кривое стекло искажало очертания его фигуры, но я видел, что голова у него немного наклонена влево и ноги он ставит, как-то странно выворачивая их внутрь. Так ходит Дэнни. Я мысленно вскочил и бросился за ним вдогонку. Добежал до угла Вязовой, но он уже исчез, может быть юркнув в боковую калитку соседнего дома. Я закричал: «Дэнни! Дэнни! Отдай мне деньги обратно. Отдай, Дэнни, прошу тебя. Не бери их. Они отравлены. Я их отравил!»
Я услышал смех. Знакомый смех мистера Хартога. Потом Марджи сказала:
— Нет уж, предпочитаю быть Озмой.
Я вытер салфеткой слезы, выступившие у меня на глазах, и сказал:
— Это можно пить, но промывать этим глаза ни к чему. Оно жжется.
— У тебя правда глаза красные, — сказала Мэри.
Но я не мог уже вернуться к ним, хотя слышал свой голос, рассказывавший анекдот, и слышал золотистый, лучезарный смех моей Мэри, так что, должно быть, я рассказывал смешно и даже остроумно, но вернуться к ним я все-таки не мог. И, кажется, Марджи понимала это. Она смотрела на меня с невысказанным вопросом в глазах, черт бы ее побрал. Она и в самом деле колдунья.
Что мы ели за обедом, я не знаю. Наверно, была рыба, потому что мне запомнилось белое вино. Стекло в окне вращалось, точно пропеллер. Потом был коньяк, так что, вероятно, мы пили кофе, — и потом обед пришел к концу.
Когда мы вышли на улицу и Мэри с мистером Хартогом ушли немного вперед, Марджи спросила меня:
— Где вы были?
— Не понимаю, о чем вы?
— Вас не было с нами. Вы только сидели за столом.
— Сгинь, нечистая сила!
— Ладно, приятель, — сказала она.
По дороге к дому я старался все время идти в тени деревьев. Мэри висела у меня на руке, шаг у нее был слегка неровный.
— Какой чудесный вечер, — сказала она. — Я никогда так чудесно не проводила время.
— Да, было очень мило.
— Марджи такая гостеприимная. Просто не знаю, чем и ответить на этот обед.
— Да, она очень любезна.
— А уж ты, Итен! Я всегда знала, что ты умеешь быть остроумным, но сегодня ты просто превзошел самого себя. Мы так смеялись! Мистер Хартог сказал, что у него все болит от смеха, после того как ты рассказал про мистера Рыжего Бейкера.
Я и про это рассказывал? Что именно? Надо же было. О Дэнни, отдай деньги обратно! Прошу тебя!
— С тобой никакого мюзик-холла не нужно, — сказала Мэри. В дверях нашего дома я так крепко прижал ее к себе, что она пискнула: — Ой, милый, ты пьян. Мне больно. Тише, не разбуди детей.
Я думал дождаться, когда она уснет, а потом выскользнуть из дома, пойти к нему в хибарку, разыскать его, натравить на него полицию, если понадобится. Но потом я понял, что это бесполезно. Дэнни уже нет здесь. Я знал, что Дэнни уже нет. И я лежал в темноте и вглядывался в желтые и красные пятна, расплывавшиеся перед моими мокрыми глазами. Я знал, что сделал, и Дэнни тоже это знал. Я вспоминал об убитых кроликах. Может быть, это только первый раз трудно. Но нужно пройти через это. В бизнесе и в политике человек должен силой и жестокостью прокладывать себе путь через гущу людскую, если он хочет, как в детской игре, стать Владыкой Горы. Потом он может быть милостивым и великодушным, но прежде надо добраться до вершины.
Глава Х
Темплтонский аэродром расположен всего в сорока милях от Нью-Бэйтауна — от силы пять минут лету для реактивной авиации. А ее становится все больше на регулярных линиях, то и дело гудят над головой тучи смертоносных комаров. Жаль, я не могу восхищаться реактивными самолетами, а тем более любить их, как мой сын Аллен. Будь у них другое назначение, может, я и мог бы, но они созданы, чтобы сеять смерть, а этим я сыт по горло. Аллен умеет находить их глазами, глядя не туда, откуда гул, а дальше, но мне это не удается. Они преодолевают звуковой барьер с таким громом, что я всякий раз пугаюсь, не взорвался ли котел отопления. Пролетая ночью, они врываются в мои сны, и я просыпаюсь с сосущим, томительным чувством, словно у меня язва души.
На рассвете целая стая таких самолетов прошла в небе, и я очнулся, дрожа мелкой дрожью. Должно быть увидел во сне немецкие 88-миллиметровки, великолепное оружие, которого мы так боялись.
Весь взмокший от страха, я лежал в сером предутреннем сумраке и слушал, как затихает вдали мерное жужжание веретен зла. Мне кажется, нет теперь человека, у которого не гнездился бы в теле этот страх — не в душе, а именно в теле, глубоко под кожей. Дело тут не в самолетах, дело в том, чему они призваны служить.
Когда какое-то положение, какая-то задача становится слишком трудной и неразрешимой, человеку дана спасительная возможность не думать о ней. Но тогда это уходит в подсознание и смешивается со многим другим, что там живет, и так рождается смутная тревога, и недовольство, и чувство вины, и потребность ухватить хоть что-то все равно что, — прежде чем все исчезнет. Может быть, мастера психоанализа имеют дело вовсе не с какими-то комплексами, а с теми боеголовками, что в один прекрасный день могут грибовидными облаками встать над землей. Почти во всех знакомых мне людях я чувствую нервозность, и беспокойство, и преувеличенное бесшабашное веселье, похожее на пьяный угар новогодней ночи. Забудьте дружбы долг святой, натешьтесь ближнего женой.
Я повернулся лицом к своей жене. Она спала без обычной улыбки. Углы ее губ были оттянуты книзу, и под дугами опущенных век лежали усталые тени — верно, заболела, у нее всегда такой вид, когда она больна. Она редко болеет, можно позавидовать мужу такой жены, но уж если заболевает, тут ему не позавидуешь.
Опять взорвалась тишина — прилетела новая стая. Сотни веков понадобилось, чтобы человек привык к огню, а к этой силе, неизмеримо более сокрушительной, чем огонь, мы должны были привыкнуть за полтора десятка лет. Удастся ли нам когда-нибудь приручить эту силу? Если духовный мир подчинен тем же законам, что и мир вещей, может ли быть, что в душе происходит расщепление ядра? Это ли происходит со мной, со всеми нами?
Вспоминаю историю, рассказанную мне когда-то тетушкой Деборой. В середине прошлого столетия кое-кто из моих предков вступил в секту «Ученики Христа». Тетушка Дебора была тогда маленькой девочкой, но она хорошо помнила, как ее родители ждали конца мира, который был уже возвещен. Они раздали все, что имели, оставив себе только несколько простынь. В назначенный день они завернулись в эти простыни и ушли в горы, чтобы вместе со своими единомышленниками встретить там конец мира. Сотни людей, все в саванах из простынь, молились и пели. Когда стемнело, они запели еще громче, а некоторые пустились в пляс. Вдруг, когда до назначенного времени осталось лишь несколько минут, с неба скатилась звезда, и в толпе поднялся страшный крик. Нельзя забыть это, говорила тетушка Дебора. Люди выли, как волки, как гиены, говорила она, хотя ей никогда не приходилось слышать вой гиен. И вот наступило великое мгновение. Закутанные в белое мужчины, женщины, дети, затаив дыхание, ждали. А мгновение длилось. У детей посинели лица — но мгновение миновало, и ничего не произошло. Люди почувствовали себя обманутыми, оттого что обещанная им гибель не состоялась. На рассвете они побрели вниз и попытались вернуть свое розданное добро — одежду и утварь, и волов своих, и ослов своих. Помню, я им очень сочувствовал, слушая рассказ тетушки Деборы.
Вероятно, эту историю мне напомнили реактивные самолеты, эти орудия смерти, накопленные ценой стольких усилий, времени, денег. Почувствуем ли мы себя обманутыми, если нам не придется использовать их по назначению? Мы запускаем ракеты в космос, но с тревогой, недовольством и злобой мы не можем справиться.
Мэри вдруг открыла глаза.
— Итен, — сказала она, — ты думаешь вслух. Я не знаю, о чем твои мысли, но я их слышу. Перестань думать, Итен.
Я было хотел посоветовать ей бросить пить, но уж очень жалкий у нее был вид. Бывает, что я шучу, когда шутки неуместны, но на этот раз я только спросил:
— Голова?
— Да.
— Желудок?
— Да.
— Вообще не по себе?
— Вообще не по себе.
— Я могу чем-нибудь помочь?
— Вырой мне могилу.
— Ты сегодня не вставай.
— Не могу. Нужно отправить детей в школу.
— Я сам все сделаю.
— Тебе надо идти на работу.
— Я все сделаю, не беспокойся.
Минуту спустя она сказала:
— Итен, я правда, кажется, не могу встать. Мне очень скверно.
— Доктора?
— Не надо.
— Как же я тебя оставлю одну? Может, Эллен не ходить в школу?
— Что ты, у нее сегодня экзамен.
— Может, позвонить Марджи, чтобы она пришла?
— У Марджи телефон выключен. Что-то там такое меняют.
— Я могу по дороге зайти к ней.
— Она убить способна, если ее разбудить так рано.
— Ну, подсуну ей записку под дверь.
— Нет, нет, я не хочу.
— А что тут особенного?
— Я не хочу. Слышишь? Я не хочу!
— Но как же я тебя оставлю одну?
— Знаешь, смешно сказать, но мне уже лучше. Должно быть, оттого, что я покричала на тебя. Честное слово, лучше. — В доказательство она поднялась и накинула халат. Вид у нее и в самом деле был немного лучше.
— Родная, ты просто чудо.
Я порезался во время бритья и сошел к завтраку с заплаткой из туалетной бумаги на подбородке.
Когда я проходил мимо дома Филлипсов, Морфи с его неизменной зубочисткой не было на крыльце. Тем лучше. Мне не хотелось с ним встречаться. На всякий случай я ускорил шаг, чтобы он не нагнал меня по дороге.
Отпирая боковую дверь, я увидел подсунутый под нее желтоватый банковский конверт. Он был запечатан, а бумага, которая идет на банковские конверты, плотная, не разорвешь. Пришлось достать ножик из кармана.
Три листка из пятицентовой школьной тетрадки в линейку, исписанные простым мягким карандашом. Завещание: «Находясь в здравом уме и твердой памяти… Принимая во внимание изложенное, я…» Долговая расписка: «Обязуюсь уплатить в возмещение своего…» Обе бумаги подписаны, почерк твердый и четкий. «Дорогой Ит, вот то, чего ты хочешь».
Мне показалось, что кожа у меня на лице твердая, как панцирь краба. Я затворил боковую дверь медленным движением, каким затворяют двери склепа. Первые два листка бумаги я тщательно сложил и спрятал в бумажник, а третий — третий я смял в комок, бросил в унитаз и спустил воду. Унитаз у нас старинный, с уступом на дне. Бумажный комок долго вертелся на краю уступа, но в конце концов соскользнул и исчез в трубе.
Выйдя из уборной, я заметил, что наружная дверь чуть-чуть приоткрыта. Мне помнилось, войдя, я плотно затворил ее за собой. Я подошел поближе, но тут надо мной что-то зашуршало, и я поднял голову. Проклятый серый кот забрался на одну из верхних полок и пробовал зацепить лапой подвешенный к потолку окорок. Пришлось мне погоняться за ним с метлой, чтобы выставить его из лавки. Когда он наконец юркнул в дверь, я хотел наподдать ему вслед, но промахнулся и сломал метлу о дверной косяк.
Проповедь консервным банкам в этот день не состоялась. Я не мог подобрать текст. Но зато я принес шланг и тщательно вымыл не только тротуар перед входом, но даже часть канавы. Потом я навел чистоту в лавке, добрался даже до самых дальних закоулков, где пыль и грязь копились месяцами. Я работал и пел:
- Зима тревоги нашей позади,
- К нам с солнцем Йорка лето возвратилось.[23]
Я знаю, что это не песня, но все-таки я ее пел.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава XI
Нью-Бэйтаун — живописное местечко. Его обширная когда-то гавань защищена от резких северо-восточных ветров островом, который тянется параллельно суше. Сам городок раскинулся по берегам сети узких заливов, куда течение гонит из гавани морскую волну. Здесь не знают скученности и суеты большого города. За исключением особняков, некогда принадлежавших богатым китоловам, дома здесь невысокие, хотя и ладные, а вокруг них пышно разрослись вековые деревья, дубы разных пород, клены, вязы, орешник, изредка попадаются кипарисы, но если не считать вязов, посаженных в свое время вдоль первых городских улиц, преобладает все-таки дуб. Когда-то огромные дубы росли в этих краях так вольно и в таком изобилии, что у местных судостроителей всегда был под рукой отличный материал для планширов, килей, кильсонов и книц.
Людские сообщества, как и отдельные люди, знают периоды здоровья и периоды болезни — знают даже молодость и старость, время надежд и время уныния. Была пора, когда несколько таких городков, как Нью-Бэйтаун, доставляли китовый жир для освещения всему западному миру. Студенты Оксфорда и Кембриджа учились при свете ламп, заправленных горючим, полученным из далеких заокеанских поселений. Потом в Пенсильвании забили нефтяные фонтаны, дешевый керосин — жидкий уголь, как его называли, — вытеснил из обихода китовый жир, и большинству китоловов пришлось удалиться от дел. Нью-Бэйтаун захирел, пал духом — да так и не оправился до сих пор. Соседние города нашли себе новые дела и занятия, но Нью-Бэйтаун, не знавший других источников жизни, кроме китов и китобойного промысла, словно погрузился в оцепенение. Людской поток, змеившийся из Нью-Йорка, обходил Нью-Бэйтаун стороной, предоставляя ему жить воспоминаниями о прошлом. И как водится в таких случаях, обитатели Нью-Бэйтауна внушили себе, что они этим очень довольны. Летом город не наводняли приезжие, от которых только шум и разор, глаза не слепили неоновые вывески, не сыпались всюду туристские денежки, не вертелась пестрая туристская карусель. Лишь немного новых домов прибавлялось на живописных берегах заливов. Но людской поток змеился неуемно, каждому было ясно, что рано или поздно он захлестнет Нью-Бэйтаун. Местные жители и мечтали об этом и в то же время боялись этого. Соседние города богатели, без счета и меры наживались на туристах, чуть не лопались от своей добычи, их украшали роскошные резиденции новоявленных богачей. В Олд-Бэйтауне процветали художества, керамика и однополая любовь; плоскостопные исчадия Лесбоса плели кустарные коврики и мелкие домашние интриги. В Нью-Бэйтауне говорили о былых временах, о камбале и о том, когда пойдет кумжа.
В зарослях тростника гнездились утки, выводя там целые флотилии утят, рыли свои норы ондатры, ранним утром проворно шнырявшие в воду. Скопа неподвижно парила в воздухе, высматривая добычу, а высмотрев, камнем бросалась на нее; чайки взмывали вверх, держа в когтях раковину венерки или гребешка, и кидали ее с высоты, чтобы разбить створки и съесть содержимое. Иногда пушистой тенью ныряла в воду выдра; кролики браконьерствовали на ближних грядках, и серые белки мелкой зыбью пробегали по улицам городка. Фазаны хлопали крыльями, подавая свой хриплый голос. Голубые цапли замирали у отмелей, похожие на двуногие рапиры, а по ночам слышался тоскливый крик выпи, точно стон нераскаянной души.
Весна в Нью-Бэйтауне поздняя, и лето наступает тоже поздно, принося с собой совсем особенные звуки, запахи и веяния, диковатые и нежные. В начале июня, когда распахнется зеленый мир листьев, трав и цветов, сегодняшний закат не похож на вчерашний. По вечерам перепелки выкликают свое «пить-пора, пить-пора», а ночная темнота вся наполнена жалобами козодоя. Дубы разбухают от листвы и роняют в траву длинные кисточки соцветий. Городские собаки стаями совершают экскурсии в лес и по нескольку дней пропадают там, одурев от восторга.
В июне мужчина, повинуясь инстинкту, косит траву, бросает семена в землю и ведет нескончаемую войну с кротами и кроликами, с муравьями, жучками и птицами, со всеми, кто посягает на плоды его трудов. А женщина смотрит на кудрявые лепестки розы и вздыхает, оттаивая душой, и кожа у нее становится как лепесток, а глаза — как тычинки.
Июнь — веселый месяц, прохладный и теплый, влажный и звонкий, месяц, когда все идет в рост и все старое повторяется в новом, сладость и отрава, созидание и пагуба. По Главной улице бродят, взявшись за руки, девушки в узких брючках, и крохотный радиоприемник, прижатый к плечу, напевает им на ухо любовные песни. В кафе-мороженом Тэнджера сидят на высоких табуретках юноши, полные сил, потягивая через соломинки залог будущих прыщей. Они смотрят на девушек козлиным взглядом и отпускают пренебрежительные шуточки на их счет, а у самих скулит нутро от любовного томления.
В июне почтенный делец завернет к «Элу и Сьюзен» или в «Фок-мачту» выпить кружку холодного пива, заодно соблазнится стаканчиком виски, и там, глядишь, и напьется средь бела дня. И так же средь бела дня то одна, то другая запыленная машина воровато пробирается к неказистому дому с наглухо закрытыми ставнями, что стоит на отшибе в конце Мельничной улицы: там Элис, городская шлюха, разрешает послеполуденные сомнения ужаленных июнем мужчин. А за волнорезом весь день покачиваются стоящие на якоре лодки, и повеселевшие люди выпрашивают себе у моря пропитание.
Июнь — месяц ремонта и стройки, планов и замыслов. Редко кто не тащит к себе в дом цементные блоки и всякую строительную мелочь и не рисует на старых конвертах нечто, напоминающее Тадж-Махал. Десятки лодок лежат на берегу кверху килем, блестя свежей краской, а хозяева их, распрямив спину, любуются своей работой. Правда, школа еще крепко держит в узде непокорных ребятишек, но бунт накипает, и когда подходит время экзаменов, вспыхивает эпидемия простуды, свирепствующая вплоть до первого дня каникул.
В июне прорастает сладостное семя лета. «Куда мы поедем на Четвертое июля?.. Пора уж нам подумать, как мы проведем каникулы». Июнь — мать сокрытых возможностей и опасностей: храбро плывут утята, не видя под водой разинувшей пасть черепахи, салат зеленеет, подстерегаемый засухой, помидоры тянутся вверх, пока не добралась до них гусеница совки, отцы и матери семейств, размечтавшись о горячем песке и загаре, забывают бессонные ночи, звенящие музыкой комаров. «Уж в этом-то году я отдохну. Не измотаюсь, как в прошлом. Не дам ребятишкам устроить мне вместо отпуска двухнедельный ад на колесах. Я весь год тружусь. Эти две неделя мои. Я весь год тружусь». Перед радужными перспективами отдыха бледнеют воспоминания, и кажется, что все к лучшему в этом лучшем из миров.
Нью-Бэйтаун долгое время пребывал в спячке. Те, что правили им — его политикой, моралью, экономикой, — правили так давно, что заведенный ими порядок успел окостенеть. Мэр, муниципалитет, судьи, полицейские — все были бессменны. Мэр продавал городу ненужное оборудование, судьи отменяли штрафы за нарушение уличного движения и за столько лет успели даже забыть, что это противоречит закону — его букве, во всяком случае. Будучи нормальными людьми, они не видели в своих действиях ничего безнравственного. Люди все нравственны. Безнравственны только их ближние.
Яркие дни веяли уже теплым дыханием лета. На улицах появились приезжие — из тех, у кого нет детей и кто может рано начать свой летний отдых, не дожидаясь школьных каникул. Они ехали на машинах с прицепами, погрузив туда лодки и навесные моторы. Они заходили в лавку, и Итен не глядя мог определить в них отпускников по их покупкам — антрекоты, плавленый сыр, крэкеры и сардины в банках.
Джой Морфи зашел выпить холодной кока-колы, он теперь делал это каждый день, с тех пор как установилась теплая погода.
— Вам бы надо завести сатуратор, — сказал он, махнув бутылкой в сторону холодильника.
— А заодно отрастить еще две пары рук или раздвоиться, как гороховый стручок. Вы забываете, кум Джой, что не я тут хозяин.
— И очень плохо, что не вы.
— Желаете выслушать печальную повесть об упадке королевского рода?
— Знаю я вашу повесть. Не умели отличить дебет от кредита в счетной книге. Пришлось в поте лица постигать премудрости двойной бухгалтерии. Но ведь постигли же в конце концов.
— Много мне от этого пользы.
— Будь лавка ваша, вы наживали бы большие деньги.
— Но она не моя.
— Если б вы открыли свою по соседству, все покупатели перешли бы к вам.
— Почему вы так думаете?
— Люди охотнее покупают у того, кого знают. Это называется репутация фирмы, и она всегда помогает делу.
— Как видно, не всегда. Меня и раньше знал весь город, что не помешало мне обанкротиться.
— Это совсем другой вопрос. Вы не умели обращаться с поставщиками.
— Может, я и сейчас не умею.
— Нет, умеете. Вы даже сами не заметили, как научились. Но беда в том, что вы и сейчас смотрите на жизнь глазами банкрота. Нельзя так, мистер Хоули. Нельзя так, Итен.
— Спасибо.
— Я вам желаю добра. Когда Марулло уезжает в Италию?
— Еще не знаю. Скажите мне, Джой, он очень богат? Впрочем, нет, не говорите. Вам не полагается рассказывать о делах клиентов.
— Для друга можно сделать исключение из правила. Я не все его дела знаю, но, судя по его банковскому счету, он безусловно человек богатый. А кроме того — во что только у него не вложены деньги! И недвижимость в разных местах, и свободные земельные участки, и дачи на взморье, и солидная пачка закладных, такая, что одной рукой не удержишь.
— Это-то вам откуда известно?
— Он у нас абонирует сейф — из тех, что побольше. Один ключ у него, а другой у меня. Каюсь, я нет-нет да и загляну одним глазком. Природное любопытство, что поделаешь.
— Но он не замешан в каких-нибудь темных делах? Ну там торговля наркотиками или вымогательство — знаете, о чем постоянно пишут в газетах.
— Не могу сказать наверняка. Он ведь нам не докладывает. Какие-то суммы берет, какие-то вносит время от времени. И потом, я же не знаю, где он еще держит деньги. Заметьте, я вам не называл никаких цифр.
— А я вас и не просил об этом.
— Хочется пива. У вас пива нет, Итен?
— Только в консервах — навынос. Но я могу открыть и дать вам бумажный стакан.
— Я не хочу, чтобы вы из-за меня нарушили закон.
— Ерунда. — Итен проткнул крышку консервной банки. — Если кто войдет, спрячьте за спину, вот и все.
— Спасибо. Я о вас часто думаю, Итен.
— Почему?
— Может быть, потому, что вообще люблю совать нос в чужие дела. Неудача действует на психику. Это как те ямки-ловушки, что выкапывает в песке муравьиный лев. Скользишь и скользишь вниз, и нужно большое усилие, чтобы выбраться. Но вы должны сделать это усилие, Ит. Раз выбравшись, вы почувствуете, что успех тоже действует на психику.
— И это тоже ловушка?
— Может быть, но приятная.
— А что если человек выберется из ямки, а другой в нее угодит?
— Без Божьей воли и малая пташка не упадет на землю.
— Никак не пойму, что вы мне, собственно говоря, советуете.
— Я и сам не пойму. Понимал бы, так, может, самому бы пригодилось. Банковские кассиры не выходят в президенты. А вот тот, у кого хоть грош капиталу, может выйти. В общем, вот мой совет: есть случай — не упускайте его. Другой может не подвернуться.
— Вы философ, Джой. Философ-финансист.
— А вы не смейтесь. Чего не имеешь, о том и думаешь. Одиночество располагает к раздумьям. Говорят, большинство людей на девяносто процентов живет в прошлом, на семь в настоящем, и, значит, для будущего остается только три процента. Умней всех об этом сказал старый Сэтчел Пейдж: «Не оглядывайтесь назад. Может быть, за вами погоня». Ну, мне пора. Мистер Бейкер завтра едет в Нью-Йорк на несколько дней. У него хлопот полон рот.
— Каких таких хлопот?
— Не могу знать. Но я разбираю почту. Последнее время он получает много писем из Олбани.
— Политика?
— Я только разбираю почту. Я ее не читаю. Что, у вас всегда так тихо?
— В это время дня всегда. Минут через десять затишье окончится.
— Ага, видите! Вот что значит опыт. Пари держу, до своего банкротства вы этого не знали. Ну, до скорого. Помните же: на Бога надейся, а сам не плошай.
От пяти до шести торговля, по обыкновению, шла бойко. Город жил уже по летнему времени, переведя стрелки на час вперед, и когда Итен, внеся с улицы лотки с фруктами, запер дверь и опустил зеленые шторы, солнце еще стояло высоко над горизонтом и было совсем светло. Он собрал по списку продукты для дома и уложил их в большую бумажную сумку. Потом снял фартук, надел плащ и шляпу и, взгромоздясь на прилавок, оглядел свою паству, безмолвствовавшую на полках.
— Никаких проповедей! — сказал он. — Просто запомните слова Сэтчела Пейджа. Надо, видно, и мне взять себе за правило: не оглядываться назад.
Он достал из бумажника линованные странички и вложил их в пакетик из вощеной бумаги. Потом, открыв белую эмалированную дверцу холодильника, засунул скользкий пакетик в глубину, за компрессор, и снова захлопнул дверцу.
В ящике под кассой он разыскал пыльную, захватанную телефонную книгу Манхэттена, хранившуюся там на случай каких-нибудь срочных заказов поставщикам. Буква «С», Соединенные Штаты, департамент юстиции… Он вел пальцами вниз — вдоль длинного столбца названий, пока не дошел до Службы иммиграции и натурализации — БА 7-0300, веч. суб. вскр. праздн. ОЛ 6-5888.
Он сказал вслух:
— ОЛ 6-5888 — ОЛ 6-5888, звонить вечером просим. — И добавил, обращаясь к консервным банкам, но не глядя на них: — Если все честно и в открытую, никому вреда не будет.
Итен вышел из лавки через боковую дверь и запер ее за собой. Держа в руке сумку с продуктами, он направился через улицу к подъезду, над которым красовалась вывеска: «Отель и ресторан „Фок-мачта“». В ресторане толпились любители коктейлей, но в маленьком вестибюле, где стояла телефонная будка, не было никого, даже портье. Он затворил за собой стеклянную дверь, поставил сумку на пол, высыпал на полочку всю свою мелочь, нашел десятицентовую монетку и, опустив ее в щель, набрал 0.
— Вас слушают.
— Коммутатор? Мне нужно поговорить с Нью-Йорком.
— Пожалуйста. Наберите номер.
И он набрал номер.
Итен пришел домой с полной сумкой продуктов. Хорошо, когда вечер такой длинный! Он шел, приминая подошвами пышно разросшуюся траву газона. Войдя, он смачно поцеловал Мэри.
— Лапка, — сказал он, — газон в невозможном виде. Что, если послать Аллена подстричь его?
— Право, не знаю. Уж очень сейчас горячее время — конец года, экзамены.
— А что это за отвратительное карканье несется из гостиной?
— Аллен упражняется в чревовещании. Он будет выступать на заключительном вечере в школе.
— Да, придется мне, видно, самому подстригать газон.
— Не сердись, милый. Ты же знаешь детей.
— Начинаю узнавать понемножку.
— Ты не в духе? Был трудный день?
— Как тебе сказать. Пожалуй, нет. Но я с утра на ногах, и перспектива топтаться по газону с косилкой не приводит меня в восторг.
— Хорошо бы нам иметь мотокосилку. Вот как у Джонсонов — садишься и едешь.
— Хорошо бы нам иметь садовника или еще лучше двух. Как у моего деда. Садишься и едешь! Да, с такой косилкой Аллен, может, и согласился бы подстригать газон.
— Не придирайся к мальчику. Ему всего четырнадцать лет. Они все такие.
— Кто это придумал, что дети — радость родителей?
— Конечно же, ты не в духе.
— Как тебе сказать. Может быть. А это карканье меня приводит в бешенство.
— Аллен упражняется.
— Это я уже слышал.
— Пожалуйста, не вымещай на нем свое дурное настроение.
— Постараюсь. Хотя это, в общем, было бы невредно.
Итен толкнул дверь в гостиную, где Аллен выкрикивал какие-то искаженные до неузнаваемости слова, держа во рту маленькую трубочку вроде свистульки.
— Что это такое?
Аллен выплюнул трубочку на ладонь.
— Это чревовещание. Помнишь, ты мне принес коробку «Пикса»?
— А ты его уже съел?
— Нет. Я не люблю корнфлекс. Ну, папа, мне надо упражняться.
— Успеешь. — Итен сел в кресло. — Что ты думаешь о своем будущем?
— О чем?
— О будущем. Разве вам в школе не говорят о таких вещах? Что будущее в ваших руках?