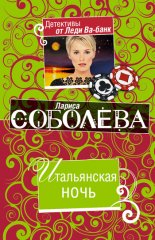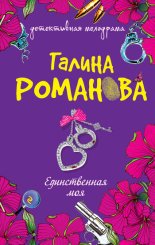Бортовой журнал Покровский Александр

Смех. В такие минуты его не остановить.
Подводники вообще веселый народ. Тут развлекать тебя некому, поэтому все развлекают себя сами. Все артисты, все что-то представляют.
Может быть, потому, что все это, тебя окружающее, кажется несерьезным, а серьезное было только что: это то, что вся лодка чуть не провалилась на глубину, к чертовой матери?
А на земле, где-то далеко, в отпуске, все тоже кажется не серьезным, а потому не опасным, смешным.
Тут, на лодке, разыгрывают друг друга на каждом шагу.
Или рассказывают всякие забавные случаи, анекдоты.
«Вот слушайте! – говорит кто-нибудь в кают-компании. – У одной старушки была корова…»
Этим историям нет конца.
А потом идешь один в отсеке, и все кажется, что кто-то рядом с тобой есть. Резко обернулся – никого…
Такая жизнь.
* * *
Эй, Россия, с Великой Победой тебя. Уцелевших через 60 лет после нее усадят теперь в полуторки и 9 Мая провезут по брусчатке Красной площади. Не растрясли тогда на дорогах войны, растрясут теперь, через 60 лет.
Что это? Почему? Почему так в России? И с каких это пор? С Чингисхана? С битвы при Калке? Тогда у Чингисхана тоже была победа. На одного русича примерно сто человек.
А здесь – десять наших на одного немца. Он их из автомата поливал, а наши подбежали и голову ему голыми руками отвинтили.
* * *
Хотел во сне увидеть Хуана Карлоса. Видите ли, я всегда заказываю, кого я хочу во сне увидеть. В этот раз – Хуана Карлоса. Вот входит он в комнату, во сне, конечно, а в ней я, и я ему сразу: «Здравствуй, Хуан!» – А он мне: «Здравствуй, Саня!» – «Как там в Испании, Хуанито?» – «Хорошо в Испании, спасибо!» – «Как дети? Слышал, ты сына женил?» – «Да, славная пара!» – «А что, красивая девушка?» – «Очень!» – «Да и сын у тебя молодец!» – «Хороший парень!» – «А у тебя не могло быть плохого сына. Рядом с тобой он должен был быть хорошим!» – «Спасибо, Саня!»
Вот такой сон. И ведь приснилось же что-то похожее.
А на улицах утром продавали газету, где было сказано, что Ксения Собчак выходит замуж. Даже не знаю, что на это сказать.
* * *
В Питере памятник Александру Невскому хотят замандячить.
Дорогие чиновнички, хочется сказать, светлый князь Александр Невский бы вас с одного удара до седла развалил, а вы ему памятник.
Он с таким же малолетним хулиганьем, как и сам, из дома сбежав, на шведов напал. Верхом на лошади корабль захватил. От такой наглости они ему тут же сдались.
И денег он не воровал. Другой он был.
* * *
Тут помер один чинуша. Почил безвременно.
Его за взятки хотели взять, а он с расстройства концы отдал.
Так что слезы лили вчера по невинно убиенному.
Жаль, конечно, человека. Воровал и теперь только понимает, что зря.
* * *
С праздником Великой Победы! Не люблю я все великое. Кровью пахнет.
* * *
Ох, победа, победа…
У одного моего приятеля отец за войну от рядового до майора дошел. Он рассказывал это дело так: «Встаем в атаку. Бежим. Кричим «ура». И вдруг я понимаю, что я один кричу. Оборачиваюсь – точно, бегу в атаку один, остальных выкосили. После той атаки мне дали «сержанта». Так я до майора и дошел. Вставал в атаку, кричал «ура», а потом оборачивался – всех выкосили, один я.
Вставал в атаку взвод – выбивали весь взвод, вставала рота – роту выбивали, потом – батальон… так майора и дали. До Берлина дошел. Всегда в атаку вставал…»
А еще один солдат старый мне говорил: «Мы в атаку молились: «Хоть бы сразу убило. Только чтоб не мучиться!»»
А операцию на Малой Земле нам преподавали, как неудачную операцию.
«Как можно бросать и бросать людей под снаряды?!! У них же все побережье было пристреляно!» – и это говорил нам Герой Советского Союза, летчик с обгорелым лицом и с культяпками рук. Его сбили над морем, и он с такими руками, в горячке, еще и до берега несколько часов плыл.
А катерники? Я говорил с катерниками. Спрашивал их про ту операцию по высадке десанта. Они говорил только одно: «Это был пиздец!»
А Берлинскую операцию очевидцы тех событий, ставшие потом военными историками, называли бестолковой. Каша. В огонь бросали новобранцев. Танки горели, как спички. Скученно и жутко горели.
И это победа? И это полководцы? Это войска Чингисхана – та же тактика лавины, человеческой массы.
* * *
Мне рассказали историю.
Он карачаевец. Из раскулаченных. Сосланы были под Пензу. Служить в армию его не взяли. Так что встретил войну на паровозе. Везли эшелоны на фронт. Паровоз, за ним – теплушки, набитые солдатами. Литерные поезда. На станциях они не останавливались.
Только на ходу хватали рукой такую специальную штуку. В виде ракетки. В ручке у нее было спрятано послание. Однажды, перед самой линией фронта, схватили такую штуку, а там записка: «Впереди немцы!».
На паровозе их было трое. Два железнодорожника и один особист. Только у особиста пистолет, во всем эшелоне оружия не было.
Он особисту и говорит: «Немцы впереди!» А тот вытащил пистолет, приставил к его груди и говорит: «Какие немцы? Вперед!»
Так и приехали к немцам – те полотно взорвали и засаду устроили. Остановили поезд. Особист высунулся, видит – впереди немецкие каски. Вытащил он пистолет и застрелился. Немцы потом долго к вагонам не подходили. После подошли, открыли дверь – а там солдаты русские битком набиты. Они солдат вывели, построили и в плен повели. А офицеров тут же из пулемета расстреляли.
А на паровоз немцы сунулись, и с ними переводчик: «Кто стрелял?» – «А вот он. Сам застрелился». – «Понятно. Полезайте под паровоз».
Полезли они под паровоз и там весь расстрел продержались, а потом немцы говорят: «Поехали!» А те им: «А как ехать? Вы же полотно взорвали!» Немцы: «И что теперь делать?» – «Переносите рельсы сзади вперед, ремонтируйте, поедем!»
Перенесли немцы рельсы, отремонтировали и поехали на станцию.
Так они на станции и жили. Немцы кормили, и они у них там работали, а потом станцию наши отбили, а немцы ее опять у них отобрали – переходила станция несколько раз из рук в руки, тогда и решили они бежать, пробираться к своим. Взял он немецкий пулемет и побежал. С ним еще несколько солдат наших пробивались. Один солдат ему говорит: «Пулемет тяжелый, ты его долго не пронесешь, вон сколько вокруг немцев валяется. Ты сапоги сними с кого-нибудь, а то у тебя ботинки, они быстро развалятся, там и нож у них бывает в сапоге. Все же оружие».
Нож он достал, сапоги достал, но с пулеметом не расстался. Так и прибежал с ним к нашим.
Наши их сразу под трибунал. Там ему задали только один вопрос: «Почему вас немцы не расстреляли?» В трибунале один с большими усами был. Он и говорит: «А чего с ними разбираться? Расстрелять их, и все дела!»
Интересно, немцы в плену кормили, а наши—нет.
На ночь их заперли в сарае. Часовой через дверь им говорит: «Вы, ребята, молитесь. Если усатый сказал, что расстреляют, значит, расстреляют!»
Так и вышло. Утром всех военных, что с ним к своим пробивались, расстреляли, а его – в штрафбат.
Первый бой он навсегда запомнил. Ночью занимали окопы и потом, ночью же, атаковали из них немецкие позиции. Иногда им рассказывали об особенностях местности, иногда не рассказывали. Все зависело от того, кто окопы сдавал штрафбату. Если хорошие части, то они и расскажут, и покажут, и в окопах гранат оставят. Штрафники ведь обязаны противника были голыми руками брать. Из вооружения – только винтовка да горсть патронов. Вот им гранаты иногда и доставались. А так – что в бою возьмешь, с тем и воюешь.
В первый бой его предупредили: «Ты в атаку прямо не беги. Там кусты впереди. Ночью не видно, глаза о ветки выколешь. Ты в сторону беги. Там яма. В яму ложись и жди, пока немец те кусты из пулемета скосит».
Так и сделал. Добежал до ямы. А потом немец начал так бить, что только через сутки все утихло. Потом услышал ночью с нашей стороны шепот: «Эй, штрафники, кто живой, ползи сюда!»
Так что воевал он с 1942 по 1945. В штрафбате. Три года. В Дрездене закончили. Комроты ему говорит: «Дело к концу, а у тебя ни одного ранения. Так что кровью ты не искупил. У тебя десять лет поселений, как у раскулаченного, три года ты отвоевал – на семь в лагерь пойдешь. Давай я тебя из вальтера подстрелю легонько. Вот ты и искупишь!»
Тот ему говорит: «Не надо. Немец не подстрелил, и теперь не надо!»
Не дал стрелять. А все было так, как комроты сказал: опять судили его и на семь лет на поселения. Под Пензу. Только он оттуда же и на войну попал. Так что, считай, домой поехал. К своим.
* * *
Вообще-то это государство всегда вело себя со своими людьми, как с покоренным народом на захваченной территории.
Сталинская военная машина проиграла гитлеровской военной машине сразу же. В первые дни войны. Победило ополчение. Через трупы, трупы, трупы.
* * *
Я всегда на стороне Бога.
Вот представьте себя на его месте: у вас вот-вот произойдет взрыв сверхновой звезды, и вы готовитесь, отсчитываете секунды, а еще у вас ненасытные черные дыры все втягивают и втягивают материю, а еще кометы, метеоритные дожди, просыпающийся разум на Сириусе и живая плоть океанов и морей, и вдруг, прерывая все это, слышится голос: «Господи! Пошли мне сто баксов!!!»
* * *
У меня нет отца с 16 лет, и поэтому я не знаю, как себя должен вести настоящий отец со взрослым сыном – что он должен говорить, и вообще.
Мы часто ссоримся, а потом долго не разговариваем, каждый сам по себе. Он такой весь ершистый, отвечает односложно, резко.
А был такой маленький-маленький, а потом вырос. Теперь вот сидит и дуется на меня.
А когда начинает говорить, то я тут же понимаю, что это не те слова, что та грубость, что слетает с его губ, не имеет никакого к нему отношения.
Просто он не знает нужных слов. Надо же ему что-то говорить, вот он и говорит что попало.
А так он меня любит, конечно. Они, нынешние, вообще лучше нас. Мы были злее.
Когда мой отец ушел от нас в другую семью, я пообещал, что не приду на его могилу.
Вот такое обещание в неполных 16 лет, и я его выполнил.
Я встретился с ним через много-много лет и сразу не узнал его – седой, чужой, не о чем говорить. Неужели это мой отец? Это тот, кто когда-то, в моем детстве, вернулся после поднятия где-то там целины, схватил и прижал меня к груди, и я задохнулся от чувств? Это он?
Ничего внутри у меня даже не шевельнулось.
Правда, я уже был подводником почти десять лет, а это мягкости не добавляет.
– Саня, пойдем чай попьем?
Чай – это примирение на нашем с ним языке.
Это я предлагаю ему помириться. Я же умный, большой, вот я первым и предлагаю мир. Главное, оставить его в покое минут на десять.
Одиночества они не выдерживают. Эти нынешние, маленькие хорошие дети, совершенно не выдерживают одиночества.
Не то что мы.
Хотя, наверное, никто одиночества не выдерживает. Да и незачем его выдерживать. Это я так.
От одиночества холодно спине. Мне часто было холодно спине.
Может быть, поэтому я теперь рад каждой улыбке?
В коридоре я его ловлю, цапаю в объятья:
– Ты меня извини, ладно? – Он смотрит в сторону и кивает– есть мир. Не хочется его отпускать, поэтому заводим с ним возню: – Жми папку! Души папку! А сильней можешь? Кто ж так душит? – И вот мы уже оба красные, распаренные, смеемся.
А потом к нему приходят друзья.
При друзьях он говорит со мной грубовато: «Когда приду, тогда и приду! Иду куда надо!» – Я понимаю, что это все бутафория, что ему надо выделиться среди друзей, показать чего-то там, я все понимаю, но мне обидно. Это похоже на предательство – пришел кто-то, а ты тут устраивал, согревал углы, а он пришел – и опять ветер по комнатам.
Хотя, наверное, это не совсем предательство – никто же не рассчитывает на то, что он всю жизнь будет за нас цепляться, когда-то надо и самому совершать ошибки – просто почему-то понимаешь, что комната может опустеть.
Вдруг это становится ясно. Очевидно.
Я – такой большой и сильный – готов к пустоте?
Конечно, я готов, конечно! Да! Пожалуйста, хоть сейчас!
Он ушел, дверь закрылась, и я остался один – ну что, как тебе?
Да нормально мне, нормально. И все у меня хорошо. Сейчас займусь чем-нибудь…
А ночью он может не прийти домой.
Я сказал как-то жене:
– Не вскакивай! Не пришел, значит, не пришел! И все тут! И чтоб не звонила всем его знакомым! Никому! Мы сейчас ляжем спать и отлично выспимся. Это его жизнь. Ты ее за него не проживешь!
Ложимся и смотрим в потолок.
– Как ты можешь спать? – говорит жена – А вдруг чего?
– А вдруг чего, значит, будем рыдать, пока не отрыдаемся!
Пришел с семь утра, шумный, возбужденный – жена вспорхнула, кормит, кормит, расспрашивает, кормит.
Я не встаю – не мое это дело.
Потом он ложится спать – спит через пять минут.
Я для верности жду еще десять минут, потом осторожно вхожу к нему в комнату – спит, бродяга.
Я долго могу смотреть на него спящего. Не знаю почему. Так. Наверное, потому что в это время мы не ссоримся.
Он поразительно много ест. И еще он часто ест. И еще я люблю смотреть на то, как он много и часто ест.
Никогда раньше не думал, что мне это будет доставлять удовольствие – вот ведь, надо же, ест!
И маленький какой-то, щупленький… Саня, ну-ка, напряги мышцы!» – да нет, мышцы вроде есть.
Неужели я был такой же худючий?
– Ты бы проверил, как он учится. – Это жена.
– Я не буду проверять, как он учится! – это я.
– А может, он вообще не ходит в университет!
– Хорошо, я проверю! Саня! – зову его из другой комнаты. – Ну как? Иди сюда!
Приходит.
– Саня, ты учишься?
– Учусь.
– Точно учишься?
– Точно!
– Ты в университете учишься?
– В университете.
– Ничего не путаешь?
– Ничего не путаю.
– Ладно, иди!
Он уходит, а я говорю жене:
– Я проверил. Он точно учится! Вечером он нам говорит:
– Пойдемте поговорим! – и мы идем в его комнату говорить. Там мы выключаем свет– кто же на свету говорит – и начинаем болтать: он нам рассказывает о современной музыке, а мы ему о всякой ерунде – о Гомере, например.
Я им пробовал читать Гомера вслух – минут через десять дружный храп.
Потом начинаем делать друг другу массаж – спины, головы – у всех чего-то там разболелось за день. При этом я обязательно говорю, что взаимное вычесывание и поиск насекомых необычайно укрепляют отношения в стае, и меня с позором удаляют, брыкаясь.
Я ухожу и думаю о том, что в моем детстве всего этого не было.
Как-то всем было некогда, и нас редко даже по голове-то гладили.
Все целый день были на работе, а потом приходили, и им было не до нас.
Разве что бабушка с нами возилась – кормила, кормила, кормила.
Детство – как непрерывная еда или поиски еды.
А отец – из него трех слов было не вытянуть.
После его ухода мать получала на нас алименты – сто рублей, но только до моих восемнадцати.
Потом я ушел в училище – одним ртом меньше.
– Он мне грубит! – говорит жена.
– Да, я знаю, – говорю ей я.
– И что делать?
– Ничего. У него есть родители, и поэтому он не знает, как это хорошо, когда у тебя есть родители. Сделай вид, что обиделась. Только на самом деле не обижайся, ради Христа. Только сделай вид. Сам придет. Не совсем же он дубина.
– Спасибо, утешил.
– Приходите еще.
– Между прочим, своим родителям мы не грубили.
– Это вы в запамятстве себя не помните.
– Ты – точно не грубил.
– Грубо отдирается только то, что липнет. Значит, ко мне никто не лип – вот и некому было грубить. А так иногда хотелось.
– Грубить?
– Нет. Хотелось, чтоб кто-то лип. У него это пройдет. Он взрослеет.
– Ой, скорей бы!
Да. Скорей бы. Повзрослеет-повзрослеет и уйдет, и буду видеться с ним лишь изредка, а пока он, чуть чего, еще говорит: «Только не говорите папе!»
* * *
Им-то с деньгами холодно, а у нас и без денег – любви море. Мы же любим друг друга, детей своих. Тут другая искренность.
Насчет старости…
Я услышал как-то от одной своей знакомой: «Чего ты так скачешь, ты же старый!»
Это она больше про себя сказала, потому что меня она задела только пять секунд.
Старый – это внутри пустой. Нет там ничего, вот и старый.
У меня внутри столько всего – какой же я старый!
А физически – так это с годами только разминка удлиняется – бегаю, плаваю, железо, перекладина – это как всегда, даже еще и лучше.
Старость – не физическое состояние.
* * *
Л. и благотворительность – это, кажется, несовместимо.
Он же деньги зарабатывает всякий раз, как последние.
Жизни они, в общем-то, боятся больше, чем мы. Мы смелее, можем поделиться.
* * *
Позорнейшая помпа – праздник Великой Победы. Да лучше б они вообще ничего не праздновали. Лучше б просто любили свой народ. Не надо праздников. Никаких. Любите людей. По будням.
Праздник великой крови. Что празднуют-то? Кости до сих пор в поле белеют, а у них – малина. Гуляют, блядь!
У меня отца еле в этот день за стол можно было загнать, чтоб праздновал, как и вся страна. Я уж про деда и не говорю. Тот все молча. И финскую, и эту.
* * *
Не кажется ли вам, что воображение наше надо будить и будить?
Оно спит, наше воображение. И тут все средства хороши, потому как никакого вам движения вперед с таким спящим воображением.
* * *
У деда пятый инсульт. Дед крепкий.
До четвертого инсульта он вообще не знал, что у него уже было три.
Теперь отнялась левая сторона – рука, нога. Плохо с лицом и речью.
Мы спохватились тут же– врач, «скорая», лекарства, капельницы.
Через неделю дед уже пытался сидеть. Он неуемный, настырный, упрямый дед.
Ему семьдесят восемь, и с четырнадцати он у станка. Ему в цехе ставили ящики, он вставал на них и так точил свои любимые детали. Он и после четвертого инсульта пошел на работу. У него на работе давление сразу приходит в норму.
Через две недели у деда уже почти полностью восстановились речь и лицо, задвигалась нога и ожило плечо.
Ему больно. Он мне говорит:
– Больно! – А я ему: – Дядя Саша, ты очень сильный мужик! А больно – так это потому что заживает. Ты же знаешь, как мне бывало больно. Я же с этим спортом долбаным то с ногами, то с руками маялся. А помнишь, когда у меня связки на руке были потянуты? Помнишь? Кисть вообще не сжималась, и я от боли ночью просыпался. Вот я тогда орал. Внутри себя, конечно. Снаружи я шутил, потому что я же мужик!
Дед меня слушает и плачет. Он теперь нет-нет, да и заплачет, а я его отвлекаю: – А как я сухожилия на локте порвал, помнишь? Больно, слезы из глаз так и текут, ничего не видно. О Господи, думаю себе, ты только дай мне выкарабкаться, я уж тебе обещаю, что буду себя беречь и ни за что, никогда… А потом, как отпустило, так и подумал: вот ведь ерунда какая! И что я там Богу наобещал?
Дед моргает, а я беру его руку и начинаю ее гладить, массировать: – Давай поглажу! Врач сказал, что у тебя все будет хорошо. Надо только самому себе говорить: – Все у меня будет хорошо! Все будет просто здорово!
Дед хочет сесть. Видно, писать захотел. Он стесняется меня, потому что писать он будет в ведро – до туалета ему не дойти. Я помогаю ему сесть, но ведро – он сам, делает мне знак – я сам.
Сам он все проливает, конечно – эка, одно расстройство.
– А помнишь, дядя Саша, как я в море плавал? А? В море. В Баку. Помнишь? От мыса до мыса. А волны какие были? Все тогда по берегу бегали и высматривали меня в воде. Буря-то налетела, а я же за пять километров от берега. Помнишь? Я плыву и будто на месте стою. Ни туда ни сюда. А волна переворачивает, не вздохнуть, и я гребу и гребу к берегу. Солнца нет, все темно. А далеко от берега, если на берег оглянуться и посмотреть, то кажется, что ты на горе, потому что поверхностное же натяжение у воды, вот и кажется, что ты на огромной водяной горе, а все на берегу внизу бегают. Руки – как деревянные, только гребут и гребут. Безо всякой остановки. А голова вертится во все стороны, потому что в море плавать – это вам не бассейн, тут соображать надо! Чтоб не перевернуло, чтоб не захлестнуло, под себя обязательно посмотрел, потом – вперед, чтоб на камни не бросило.
Под водой же скалы бывают. Вот я однажды плыл – и как эта скала выросла перед носом – сам не знаю. Чуть мордой в нее не влетел. Совсем чуть не чокнулся. А судорога? Ох какая у меня была судорога! Сначала пальцы на ноге скрючило – но это еще можно пережить, а потом и икра – как схватит. Боль – мама моя дорогая! Только бы выдержать! Только бы перетерпеть! А волна – тут как тут – перевернула, накрыла с головой, в рот вода попала, еле выполз на поверхность, боль отсек и плыву дальше. Боль же можно отсечь. Говоришь себе: «Мне не больно, не больно, не больно, все равно, не больно, нет, не больно», – вот так и бубнишь, а сам плывешь. А больно-то, конечно – боль все жилы из тебя тянет, но если так долго бубнить, то и отпускает – тихо-тихо этой ногой начинаешь работать. Очень тихо, чтоб не спугнуть. Спугнул – опять как схватило, закрутило, заломало – все начинай сначала. Судорога обычно два раза подряд хватает. И тут главное знать, что отпустит, не отчаиваться главное, а то ведь пропадешь. Надо за вдохом следить. Вдох-выдох. Схватил воздух ртом – в воду его выдохнул. Раз-два! Раз-два! И за руками начинаешь следить, чтоб они гребочек делали. Раз гребочек! Еще раз! И пошел, пошел. А буря-то все равно как бешеная. Ее-то никто не отменял. Тут главное, чтоб под удар не попасть. Волна же все равно тебя старше и сильнее. Спину в один миг переломает. Вот и следишь! А помнишь, дядя Саша, как я канавы рыл, а потом из рук лопата выпадала? Я даже ложку в руках не мог потом держать. Помнишь? Все пальцы разжимались сами, и она вываливалась. Ты не думай о плохом. Ты о хорошем думай. Вокруг тебя же люди. Мы же рядом. Так что все у тебя получится. Ты вон какой молодец!
Дед закрывает глаза, чтоб я не видел его слез.
Потом ему дают снотворное.
* * *
В Испании опять хорошо. Тепло в Испании, песок, пляж, море – это тоже все как всегда. Утром поют птицы.
В семь утра солнце еще не показывается из-за гор, но птицы уже проснулись и заговорили. Особенно неугомонны черные дрозды.
Они здесь вместо российских ворон – снуют всюду.
Лениво переходят дорогу кошки.
Почти все они в ошейниках, бродячих почти нет, как нет и бродячих собак.
Мы идем сразу на пляж.
Пока солнце не встало, мы будем ходить по пляжу. Это часа два – потом солнце выберется из-за гор – и еще час можно будет загорать на ходу.
Когда быстро идешь по пляжу, то через час примерно начинает казаться, что так можно идти целый день или целую ночь – ни малейшей усталости.
На пляже работает трактор – собирает мусор и просеивает песок. Пляжи в Испании принадлежат государству, а туристы для этого государства все равно что нефть для Кувейта – вот поэтому и просеивают песок.
Вообще-то раньше тут были рыбацкие поселки, но все это в прошлом, лет двадцать тому назад. Сейчас– одни курорты, выстроенные на деньги англичан. И дома тут строят на их же деньги и продают потом эту недвижимость тем же англичанам.
Так что Испания многим обязана англичанам. Может, потому их здесь не очень-то любят. Я спросил: почему?
Мне ответили: так они же пьют утром пиво. То есть если на пляже лежит человек, укрытый одеялом, а вокруг него выстроены банки из-под пива, то можете быть уверены – лежит англичанин, и мусорщики, подъехав к нему на тракторе, аккуратно соберут все пустые банки, а его так и оставят лежать – что с него взять, это же англичанин.
Англичан здесь не любят еще и за то, что они собираются в своих барах, а потом там же и дерутся.
И за Гибралтар их не любят.
Видите ли, раньше, когда Испания возила к себе морем золото и серебро ацтеков и инков, и это считалось обычным делом, английский флот – наполовину пиратский – совершенно законным образом нападал на них и отбирал золото и серебро ацтеков и инков.
Это сегодняшним англичанам тоже пока еще не прощено.
И французов тут не любят по той же причине – уж очень много было войн во времена бесчисленных Людовиков.
Арабов не любят за Гранаду, румын – за то что они похожи на цыган.
Украинцев пока терпят, хотя они тут все наводнили и норовят везде работать, а русских любят, потому что про помощь Испании во времена Гитлера и Франко все еще помнят, и еще русские сюда приезжают не с последним рублем, а значит, испанцам они не мешают.
Мы идем по пляжу и ищем ракушки. Ходим по колено в воде. Вода здесь холодная. Не выше двадцати градусов. Прогреется она только к июлю.
На берег выбрасывает разных червеобразных морских обитателей – мы бросаем их в воду.
А еще мы спасли маленького ската – он был жив, и я отнес его подальше от берега и положил на воду.
* * *
Наступил август, и все опять вспоминают про «Курск».