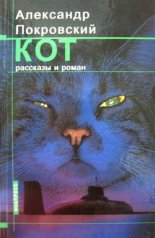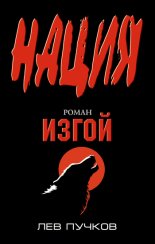Иногда ночью мне снится лодка Покровский Александр
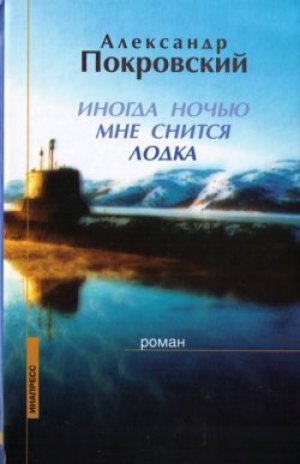
Запах Петра его не раздражал, и это было важно, ибо он знал, как легко можно возненавидеть человека за один только его дух.
И в самом начале их отношений он, помнится, вдруг всполошился, потому что решился на них, не уяснив для себя до конца столь важную вещь. И он – теперь это без улыбки нельзя было вспоминать – встал рядом с Петром и незаметно – смешно, конечно – осторожно понюхал его плечо.
Пахло вымытым телом, запах был лишь слегка кисловатый.
Хорошо, что Петр так пах.
Он тогда очень этому обрадовался и даже коснулся его плеча, и в этом прикосновении была заключена какая-то очень-очень давняя радость.
Может быть, такая же, как та, что заставляет школьников ходить в обнимку. Кто знает.
Ему было приятно об этом думать, но затем он с недоумением обнаружил, что память о прикосновении жива до сих пор, а чудесные и загадочные последствия того события и возникшее в груди чувство счастья, такого нужного, такого желанного когда-то, виновного в установлении удивительного внутреннего покоя и в упоительной свежести, чистоты всех его чувств – живы в ней и теперь.
Какое-то время он еще колебался, готовый спугнуть тот лохматый, словно шаловливый щенок, комочек счастья.
Его колебания были подобны тем, что испытываем мы перед купанием при входе в воду, прежде чем окунемся с головой.
Но потом он отдался этому счастью, и незамедлительно во всем его существе, как и во всем, что он делает, будет делать, о чем он думает и только думает думать – установилась необычайная легкость, сравнимая лишь только с легкостью, с какой выбалтывает свои секреты птичка, скажем, иволга, известная болтунья.
И еще ему стало казаться, что он давно и мучительно только этого и желал, и возможно теперь он бесчисленное количество раз на дню будет спрашивать себя: есть ли там у него внутри счастье, там ли оно еще, такое ли оно, как мгновение тому назад, и все это будет похоже на то, что делают все дети, прячущие в тщательно вырытое углубление в земле, в дышащую теплой прелью ямку свои сокровища: бесценные разноцветные бусинки, ничего не значащий для других мусор, бумажки, фантики, прикрывшие все это осколком стекла, засыпавшие его сверху землей, прижавшие ее ладошками, сотню раз на дню подбегающие и осторожно, чуть дыша, с тревогой и любовью разрывающие свой клад, свое богатство, чтобы проверить, цело ли оно еще.
А счастье – неумолимое, неуловимое – способное то сжиматься внутри до булавочной головки, когда кажется, что оно там вот-вот потеряется, и сигналы-толчки, поступающие от него, лишь едва-едва уловимы; то неожиданно вырастающее до гигантских размеров, стремительно заполоняя все без остатка, каждую твою лесенку, уголок, прихожую, напоминая о своем присутствии так пронзительно, что можно было бы говорить о его уколах, и так сильно, что можно было бы вспомнить о стремительном объемном возгорании, и еще так громко и гулко, словно по булыжной мостовой шагает каменный исполин, и тебе – робкому, страшащемуся его приближения – передается каждое сотрясение почвы.
Счастье будет жить в тебе ровно столько, сколько нужно ему. Оно то приближается к порогу насыщения, – и тогда возникает удивительное ощущение танца, будто танцует кто-то, может быть ты сам, постепенно ускоряя движения, перемещаясь все ближе и ближе к чему-то опасному, может быть очень-очень горячему, из-за чего ускоряются все реакции, истончаются все ощущения, когда чувствуешь любое дуновение и движение материи, и нет различия между тобой и твоим окружением – ты и воздух, и стены, и листва, и дорога – и ты рядом с той гранью, с тем пределом, когда один миг равен всей жизни и обычная твоя жизнь – та, другая, прошлая – вдруг представится в это мгновенье слишком плоской, жалкой и пресной, но лишь потому, что открылись чудесные шлюзы, и ослепляющей оглушающей галдящей массой счастье хлынуло в тебя, и разбит ты без всякой боли на множество осколков, которые по сути своей тоже ты, но у каждого теперь своя стереометрия.
А то оно замрет в тебе, повисшее, покинутое, и возникает такая тишина и исчерпанность, словно ты в опустевшей комнате, обратившийся весь в истончившийся слух, а из комнаты вынесли почти все вещи, все эти сердечные манатки, безусловно имеющие отношение к людям, любви, человеческому сердцу, несомненно связанные с ними ничтожными нитями, теперь безжалостно смятыми, разорванными, спутанными – все эти стулья, кресла, шкафы.
Оставшиеся вещицы своим потерянным видом ранят так глубоко и так больно, потому что кажется, что они не в силах восстановить те нити, хотя и пытаются это сделать; но вот выносят и их, и осиротевшая комната, жадно ловящая твой голос, отражающая его многократно, словно хочет сказать: «Ты все еще здесь? Как хорошо. Я рада…» – и сейчас же забегают по стене солнечные зайчики, Бог весть откуда здесь появившиеся – может быть, так она приходит в себя.
* * *
Люди должны быть благодарны стенам.
Хотя бы за их долготерпение.
Хотя бы за то, что они умеют прятать от тебя же самого – тебя прошлого от нынешнего – и лишь только изредка, где-нибудь за отодвинутым шкафом, обнаружится кусок прежних обоев, когда-то светлый, а нынче потемневший, но изо всех сил пытающийся казаться нарядным, словно клок прежней жизни, и грусть ломким сухим пером проведет по твоему кадыку.
А вот здесь нет стен.
Здесь есть переборки, перемычки, теплотрассы, трубопроводы и разные прочие штуки, называемые словами, лишенными всякой мягкости – здесь на нее не обнаружить ни малейшего намека. Эти слова состоят из грохочущих слогов-глыб, готовых в любой момент на тебя обрушиться; они грубо сбиты или же скручены, свинчены, а иногда, словно спаяны, склепаны; а сколько они имеют лишних, казалось бы, ненужных выступов и полированных прохладных сочленений и холодных пустот. Они приникают к твоему сознанию, стесняя его еще очень-очень долго после того, как отзвучали.
Вот разве что спинка кресла способна обнять, приняв на себя, несмотря на четырехчасовую вахту, кажущуюся невыносимо огромной из-за тянущегося, словно молодая смола, времени, твои человеческие лопатки. Но это только видимость, эта комфортность ложная, обманчивая – да-да, она лжет, – и под дерматином спинки кресла, вроде бы теплым, а на самом деле с легким нытьем вытягивающим из тебя твое собственное тепло, всегда отыщется какой-нибудь винтик, и он не сразу, но часа через три, вылезет и вопьется в ослабевшие позвонки, и тогда нужно встать, походить, хотя бы на месте, потому что на одном квадратном метре этой тесной конуры – боевого поста – ходить негде и можно только мотаться всем телом из стороны в сторону, как это делает медведь в клетке, а еще можно потянуться, хрустнув суставами и, остервенело вцепившись в поясницу, попытаться размять ее пальцами.
Но все это нужно проделать машинально и ни в коем случае не уделять этой немочи внимания, иначе она способна изгнать пугливое хрупкое чувство счастья, – и она действительно гонит его. Но вот если, потоптавшись на месте, улыбнуться, посмотреть в низкий потолок, увидеть там сочные капли застывшей когда-то белой краски и представить так же, как в детстве, что это и не краска вовсе, а перевернутая картина, у которой кто-то шутя поменял верх-низ местами, или лучше – топографическая модель местности, где есть горы, холмы, а вот здесь должны быть ручейки, а лучше закрыть поскорей глаза и вызвать в самом себе видения дома – того самого, когда-то наполненного то глухими, то звонкими или тихими спокойными голосами твоих близких, оперив этот мгновенно улетающий от тебя мир яркой зеленью за окнами и солнцем, ветром, водопадом растревоженной листвы, – тогда этот шарик тихого ликованья, наверное, можно будет удержать, хотя стоит ли… У него, возникшего по воли твоего сердца, теперь своя жизнь, и он волен остаться или улететь.
А еще он любил – так же мысленно, закрыв глаза, – представить себе соцветия пастушьей сумки – растения, способного за лето дать до четырех поколений, от проклюнувшегося зародыша до цветка и семени – эти желтые китайские фонарики, развешанные на тоненьких стеблях.
Он как-то понюхал их и сразу же удивился, почему он раньше никогда этого не делал: они пахли как сирень, жасмин или жимолость – так хорошо… Почему же ее не собирают охапками, не ставят в вазы, не дарят любимым?
Он тогда, помнится, сорвал их прямо у дороги и долго вдыхал, и соцветия доверчиво прилипли к носу, смешно щекотали ноздри. А потом он их даже пожевал, ему почему-то очень захотелось ощутить их вкус, и он, не раздумывая, отправил их в рот, немало не заботясь о чистоте цветка – почему-то он был уверен в том, что цветок, пусть даже сорванный вот так у самой обочины, будет чистым, так как растения (так ему вдруг представилось) оставят всю эту придорожную грязь в корнях, листьях, словом, где угодно, но только не в цветах – в этих своих нежных, всегда стыдливо, с сомнением и надеждой чуть-чуть только приоткрытых детородных органах. И тогда маленький комочек горечи, разгоревшись, ожег небо и язык; казалось, цветок платит этой горечью за поедание, и еще казалось, что для истинной злости у цветка не хватило сил…
Еще он любил сладковатый до одури запах цветущего татарника – стройного, мощного, веселого, с такой лихой силой вырвавшегося и даже приподнявшегося над поверхностью какой-нибудь компостной кучи, будто вот-вот он взмахнет своими узкими, лоснящимися на солнце колючими листьями словно крыльями и вырвется из земли, как из окопа.
От его сиреневых соцветий, похожих на подстриженных новобранцев, пахло так сильно и властно, что он вполне понимал очумевших от цветочной похоти шмелей, то и дело выпадавших из сиреневой путаницы.
А были еще и другие разновидности все того же татарника, с большими цветами; там бутоны по своей крепости, прочности, да и по рисунку чешуек походили на панцирь черепахи, пластины средневековой кольчуги или атласную чешую луковок церквей, и на самой маковке этого бутона был запахнут и чем-то завязан, закручен вход в цветоложе, откуда, в какой-то одному только цветку известный момент, неожиданно выплескивалась мохнатая теплолюбивая компания лепестков.
Но вот в этом невообразимо огромном часовом механизме, куда он попал, как ему иногда представлялось, по необъяснимому стечению обстоятельств, где ему чудилось порой, что все, что происходит, случается не с ним и не сейчас, это все равно что сон какой-то, шутка глупая, чей-то бред, в котором он участвует Бог знает почему.
В этом механизме, поглотившем человека целиком, пристроившим его где-то там у себя внутри, связавшим его тщедушную плоть со своим телом, тоже вибрирующим, но совершенно по другим законам, не выживало ни одно растение; и даже репчатый лук, посаженный вестовым в кают-компании в огромную железную банку из-под сухарей, бодро высунувший оттуда свои узкие зеленые язычки, уже через неделю совершенно загибался, его перья желтели, никли и жухли, и он истлевал. И выживала лишь традесканция, она пускала свои ломкие, жалкие бледно-зеленые плети, торопливо кое-как выгоняла новые и новые, но все более слабые отростки, этой своей безалаберностью напоминала обезумевшую маркитантку, что в годину испытаний и потрясений то и дело разрешается от бремени. Это растение, хоть и совершенно обессилевшее, все же дотягивало до конца похода, оно словно уязвляло душу, наполняя ее чувством вины, и люди, торопясь, пробирались мимо этой зеленой немочи.
* * *
Над его головой забил какой-то прохладный источник, сопровождаемый звуком, вибрирующим на самой верхней границе слуха; и, казалось, в это неживое звучание вмешалась чья-то давняя-давняя просьба, взявшись за выполнение которой теперь, через столько времени, пришлось бы, наверное, зажить какой-то прежней жизнью, которая на самом деле давно прошла.
И лишь спустя некоторое время он понял, что произошло: просто над головой через полузакрытый грибок вентиляции забила струйка холодного воздуха, и сейчас же на мнемосхеме высветилась голубая улитка – включили отсечный вентилятор: закончился «режим тишины» – такое состояние внутренностей этого монстра, когда нельзя того, нельзя этого, и еще много-много чего нельзя – хотя бы запускать вентилятор и хлопать переборочной дверью. Это хлопанье, кстати, сейчас же раздалось: кто-то наверное неосторожно ее закрыл, и удар через стенку корпуса, перетекая по перегородкам, проходя по пути через его слух, нервы, плоть, ушел дальше в многокилометровую, кажущуюся неподвижной сумеречную толщу воды, охватившую со всех сторон корпус этого железного кита, перегородчатого страшилища, будто жалкую дробину, угодившую в желе; этот хлопок где-нибудь далеко, у чужого берега, может быть, разбудил полусонный приемник, и тот, спохватившись, зашелестел, торопливо выдав встрепенувшемуся оператору, что, мол, там-то, по пеленгу такому-то, крадется только что выдавшее себя нечто.
Переборочная дверь закрылась еще раз; за перегородкой, отрезавшей его капсулу от остального отсека, послышались голоса, затем шлепнула дверь ближайшей каюты, ключ заклокотал в замочной скважине, наконец, распахнулась дверь его собственного поста, и он увидел кусок отсечных изломанных труб, голубого линолеума и заодно – своего сменщика.
Он вскочил, заторопился куда-то, и в этот момент все, что этой ночью так осторожно, так бережно выкристаллизовалось, обретало плоть, обрело и душу.
Но все это замкнулась, закрылась в каком-то детском тайнике, из которого потом явится к нему неожиданно и тихо.
Ночные переживания оставили в душе след – зудящую ранку.
Эта грусть была похожа на досаду, что испытывает ребенок (так подумает он много позже), торопливо забираемый родителями из детского сада, когда его только что возделанная песочная крепость быстро затаптывается другими детьми.
А пока эта печаль укладывалась внутри, в глубине его души, в уютную бухту канатиком, поморскому.
* * *
Наступило обычное подводное утро.
Хотя, когда о здешней жизни кто-нибудь скажет: «наступило утро», то подразумевается, что оно наступило совершенно условно, лишь благодаря словам, которые можно произнести.
Какое тут взаперти может быть утро? Все это условно, по корабельным часам, так же как и день, и вечер, и ночь.
И вахта, начавшаяся в полночь, закончившаяся через четыре часа, принесла освобождение от необычной душевной работы, из-за своей непривычности неприятной или даже мучительной.
Это ощущение было странно похоже на то, что мы чувствуем, встрепенувшись утром от богатого событиями сна, когда он не тревожит сознание – о, нет! – а наполняет его ожиданием счастья, и потому день уже чреват почти телесной непроясненной радостью будущего.
Ум, страшащийся вынужденного четырехчасового молчания, одиночества, с неожиданной силой цепляется за любую, даже самую незначительную, но безусловно дорогую соринку прошлой жизни, прошлого чувства (конечно же, самого светлого) и вызывает ощущение радости от возни с ней или с ним. Но вот эта возня, поначалу всего лишь невинная игра воображения, требует все больше и больше усилий, и ведет к тому, что ты отыскиваешь в себе что-нибудь не очень привлекательное, и тотчас же с куда большей радостью ловишь вестников окончания этого труда, которые связаны с пробуждением окружающего мира – кто-то прошелся, где-то рядом хлопнула дверь – и человек говорит себе: «Вот и утро».
И сейчас же в его душе найдется место для той самой печали, что затем будет поглощена подводным днем, столь богатым чужой непреклонной глупостью, затягивающей в свою околесицу все и вся, где ты – вовсе и не ты, а медлительная окаянная бестолочь, лишенная права выбора, которую за это еще только ждет наказание и которая в ожидании его будет выполнять и то, и это, и Бог весть что вообще, и будет вести себя так, как предписано.
Кем, позвольте узнать?
Да никем.
Сразу же после ночной вахты следовало идти на завтрак, и это было не единственным нарушением ритмов обычной человеческой жизни, потому что после завтрака предоставлялось время отнюдь не для бодрствования, а для отдыха, который здесь никто не называл сном.
Это был самый большой отрезок свободного времени в сутках и им было бы странно не воспользоваться, потому что только тогда можно было просто пролежать, а если повезет, то и проспать подряд часов пять, а если не было никаких тревог, то и шесть или даже шесть с половиной.
И вокруг того лежания, вожделенного будущего лежания, строились мысленные планы в первые минуты дневной вахты, когда в кресле на посту, прикрыв глаза, люди с улыбкой на устах погружались в тихое созерцание оранжевых кругов, сгустков тумана и других неясных картин, возникающих на внутренней поверхности век.
И потом все шли на завтрак, словно соблюдая некий ритуал, от которого зависел успех будущего сладкого засыпания (если, конечно, оно вообще будет, это засыпание), умываясь перед поглощением пищи так, как умывались бы перед самым настоящим завтраком, который происходит пока только в мыслях там, на земле, в собственной квартире вместе с близкими, которому предшествовал бы настоящий сон в кровати, а сну бы предшествовали разговоры, и любовь, и все такое.
Он никогда не успевал первым подойти к умывальнику, хотя хотел всегда это сделать, всех опередить, и, появившись возле раковины, он с раздражением видел, как над ней нависает затылок соседа по каюте. Он долго не мог понять, почему этот жирный с плотными складками кожи затылок, поросший черной блестящей шерстью, немедленно под струей намокавшей, его необъяснимо раздражает.
Сначала ему казалось, что чувство досады вызвано тем, что он просто опаздывал к умыванию и вынужден был ожидать своей очереди. Но каждый раз, наблюдая как вода обильно, ему все хотелось сказать – «жирно», да, именно жирно, смачивает коротко стриженные, похожие на плющ волосы, спускающиеся вниз по короткой шее этого человека, как по склону почти что к плечам, – ловил себя на том, что он почти ненавидит его.
Он тогда был очень обрадован тому, что нашел точное слово. Да, конечно же, ненавидит, и вовсе не эти волосы, вовсе не эту шерсть, выстриженную гриву, а уши, что теперь совершено ясно – ну, разумеется, уши, эти большие, толстые, похожие на какие-то неаккуратные буквы, которые под руками умывающегося послушно меняли форму: например, Б превращалась в Е, а оставленные в покое, они сейчас же разгибались и, чуть ли не хлопая, возвращались на место. (Хотя, справедливости ради нужно было заметить, что звука все-таки не было.)
Конечно же, причиной его ненависти были уши, как он раньше не понимал.
Ему вдруг захотелось их потрогать, чтоб ощутить отталкивающую упругость и увериться в своем отвращении.
Он даже обрадовался этому желанию и, можно сказать, даже полюбил эти уши в тот момент не меньше, чем ребенок, который любит неопрятную плошку, которую он только что вылепил из сырой глины.
Он тихо смотрел на них именно как создатель, ну, как первооткрыватель, по меньшей мере.
Он даже придумал сцену и сейчас же воплотил ее, сделав вид, что у того бедняги что-то есть там за ухом.
«Что это у тебя там?» – спросил он озабоченно. – «Где?» – отозвался тот, выпрямившись, вглядываясь в зеркало. – «Да вот, – и он потрогал его за ухо, очень довольный тем, что ему это удалось. – Да нет, ничего, показалось, мыло, наверное». – «А-а…» – сказал тот успокоено и продолжил плескаться.
А он немедленно отдался изучению всех оттенков полученного впечатления: уши оказались очень мягкими, почти ласковыми на ощупь; значит, дело не в них, хотя и эта их ласковость, безусловно, будила в нем какое-то раздражение. Но причину его ненависти следовало бы искать не здесь, а где же?
И тут ему отрылось, и произошло это тотчас же, как только тот – умывающийся – приступил к вытиранию мохнатым полотенцем шеи, лица, которые из-за этого предприятия представились единым целым. Он проделывал это с гримасой огромного удовольствия, казалось, он стирает полотенцем кожу, так быстро и ловко он перехватывал его на лету, ну совсем как подхватывающая удлиняющиеся куски сырого теста женщина, занятая изготовлением лаваша.
Он понял, что ему ненавистна именно эта, открывшаяся в обтирании, жажда телесных удовольствий, виденная им десятки раз, но только сейчас осознанная; эта бодрость, жадность, ловкость, и та сила, с которой человек это делал, та страсть, с которой он предавался подобному занятию, та почти звериная радость, что лучилась в каждой складке его тела, то разухабистое кряканье.
Он чувствовал, что ненавидит силу чужой жизни.
«Ну, зачем так яриться, – подумал он об умывающимся, – ведь через час все равно придет сон?»
А потом он посмотрел на себя в зеркало: лицо его выглядело усталым, злым, но лишь только взгляд его сместился немного в сторону, лишь только он потерял свою остроту и упрямую неподвижность, как ему показалось, что оно сделалось чуть ли не жалким, разве что не молящим, и это было отчаянно неприятно осознавать, и он принялся почти столь же поспешно, как и предшественник, плескаться и чуть ли не так же, чуть ли не с такой же силой обтираться после.
Прохладная кремовая рубашка с накладными погончиками ласково касалась кожи, когда он, не торопясь, застегивал на ней бесчисленные пуговицы.
Она, пожалуй, открывала тот небольшой список вещей, которых здесь хотелось касаться.
А еще тянуло прикоснуться к маленьким якорькам, которые, казалось, одним ударом клюва посадила на пуговицах какая-то неведомая птица.
Такими же якорьками были украшены и игрушечные стаканчики для кофе.
Верхнюю пуговицу на рубашке разрешалось не застегивать, и это, как ни странно, сообщало утреннему процессу привкус некоторой домашности, уравнивая в правах на эту пуговицу и старших, и младших.
У каждого за столом было свое место, и каждый вынужден был из раза в раз видеть напротив одни и те же лица.
Их случайное отсутствие вызывало волнение, и он даже скучал по ним во время ночной вахты; но все же скучал он, конечно же, не по ним, а по разрушенному обряду утренней еды, которую удобнее всего было поглощать в привычном окружении – например, равнодушно уставившись в физиономии жующих соседей, тупо отмечая крошки хлеба в бороде напротив и попавшие в ложку или в стакан где-нибудь на пятидесятые сутки плавания чьи-то отросшие усы.
Тогда же он начинал примечать, что губы напарника, пожалуй, слишком тщательно собирают всякие там крошки, прикусывая их губами; тогда же он слышал звуки, что сопровождали все перемещения ложки в соседском рту, и исподтишка, со злой радостью рассматривал лицо человека напротив, с некоторым тихим восторгом отмечал его усталость, дряблые мешки под глазами, ублюдочность взора, рассеянность, расхлябанность, нездоровый цвет тугой кожи.
Здесь можно было отпустить бороду, что на берегу было невозможно и против чего было немало всяких директив, приказов, разъяснений: считалось, что борода не позволяет резиновой маске противогаза плотно прилегать к коже, из-за чего, якобы, остаются щели, и отравленный угарным газом воздух при пожаре будет попадать под маску, удушая человека.
Но в первые дни плаванья начальство смотрело на это нарушение сквозь пальцы, и лица стремительно обрастали жесткими зарослями курчавых волос, словно приаральские тугаи. И эта перемена позволяла соседям напротив с беспечностью мух застревать взглядом в этой заросшей топографии, и с мнимым душевным расположением искать и отыскивать в чужой поросли застрявшие крошки.
Где-то на пятидесятые сутки командир – чаще всего на обеде, реже на ужине – набычив голову, в ожидании второго, мог сказать какому-нибудь очень кудлатому: «Приказываю вам сегодня сбрить бороду!» – при этом он взглядывал выбранной жертве в глаза, дожидаясь безликого: «Есть, товарищ командир!»
Какое-то время он наслаждался, а может быть, лишь с интересом прислушивался к неслышимым звукам вулкана возражений внутри того бородатого бедняги. При этом он каким-то образом все же слышал, как там внутри у несчастного вверх из жаркого жерла выбрасывается пепел злости, как там по треснувшему, почти прозрачному от жара склону стекает лава желчи, и как, вращаясь, набирая все большую силу, летят куда-то на дно души огромные валуны обиды.
Командир в такие минуты хрестоматийно напоминал завсегдатая филармонии во время исполнения оркестром любимейшей сюиты. И его лицо напоминало, почему-то хочется сказать – лицо, да, пожалуй, именно лицо, а не что-то иное, болотной цапли, что, выгнув шею, готовится клюнуть затаившуюся лягушку. И одновременно оно походило на физиономию вечного вестового кают-компании Попова, который, наполнив стеклянную банку тараканами, замкнув ее крышкой, с интересом ежедневно наблюдал за их истощением, подставив банку вплотную к лампе.
Но вот, дождавшись-таки: «Есть, товарищ командир!» – взором командира овладевает тоска, и он, с выражением: «Господи, я так и знал, что опять ничего интересного не будет!» – вяло роняет: «Ладно, доложите», – и покидает свое место – кресло во главе стола, расположенного в середине кают-компании, занять которое в его отсутствие считалось признаком корабельной серости и вырождения.
Он вспомнил это командирское «NN, сбрейте бороду», наверное потому, что его все еще не оставляло раздражение, и ему, по-видимому, хотелось просто заговорить это чувство в себе, заболтать, умаслив каким-нибудь случаем. Но этого не произошло, и раздражение продолжало жить в нем, чуть стихая, казалось бы, только затем, чтобы вновь, собравшись с силой, разгореться.
Сначала ему представлялось, что причина – тот мягкоухий здоровяк, вечно его опережающий, и какое-то время он верил в это, жестко спрашивая самого себя: «Не так ли?» – и ему даже почудилось, что на этот вопрос внутри него звучит такой же резкий ответ: «Да, это так».
Но потом ему стало казаться, что недовольство, почти негодование обреталось в нем и прежде, и будто некто, расположенный где-то здесь, может быть, в отсеке – хозяин этого пространства – не отпускает ни на мгновение струны, ведавшие в нем недовольством, и лишь иногда касается их небрежной рукой; и тогда раздражение нарастает так, как может нарастать только звук, извлекаемый из крепко натянутых жил.
Эта мысль испугала его. Будто по нему пробежала мгновенная внутренняя дрожь, словно он коснулся какой-то тайны, которую от него тщательно скрывали.
«Все это мистика, – подумал он и быстро повторил несколько раз, – мистика, мистика, мистика…»
Конечно, это мистика, – теперь он в этом абсолютно уверен, потому что здесь, под водой, достаточно лишь чуть-чуть изменить угол зрения или скосить глаза в сторону, и уже станет чудиться, что кто-то промелькнул вблизи, или же кто-то в упор на тебя смотрит, и тогда оживут все эти трубы, люки, трассы, они станут суставами, сосудами, нервами, Бог знает чем.
* * *
Он пришел в себя от ровного гула вентилятора, – было что-то неживое, безжалостное и вместе с тем привычное и объяснимое в этом звуке. Это, видимо, и вернуло ему самообладание. Но окончательно отрезвило его то, что перед трапом в кают-компанию он вступил в область запаха, исходящего, от цистерны грязной воды, и это, отметил он спокойно про себя, не просто гнилостное духовище подпольного отстойника, а какая-то наглая симфония вони. Да, именно так…
Раздражение, казалось, отступило, и он, перехватывая прохладный тусклый никелированный поручень, отрадно откликающийся на каждое его пожатие, стал подниматься по трапу в кают-компанию, приказав себе во что бы то ни стало ни на что не обращать внимания, тем более, что он знает наизусть всю последовательность еды, где самым значительным может быть командирское «побрейтесь!».
В кают-компании воздух прохладен. Он попадает туда сквозь множество мелких отверстий на подволоке.
Поток силен, и под ним чувствуешь себя неприятно, будто стоишь под многочисленными струйками воды, стекающими из дуршлага, в котором промывают только что откинутое спагетти.
Ему понравилось это сравнение. Ему показалось, что он знает, для кого и кто готовит эти спагетти.
Их готовит его любимая маленькая бабушка.
Для него.
У нее крепкие руки, она подбрасывает спагетти в дуршлаге, вся куча в воздухе оживает и кажется чудовищем, у которого такие упругие щупальца – а может, это волосы Медузы Горгоны, – а бабушка ворчит, и щеки у нее словно спелые яблоки, а он столь мал, что может ответить на это ворчанье только тем, что сейчас подойдет сзади, дотянется, обнимет и поцелует ее за ухом, и бабушка вздрогнет, рассмеется, скажет: «Да ну тебя!» – и, очень довольная, положит ему гору спагетти, будет сидеть рядом, смотреть, как он ест, подкладывать ему то и другое, будет просить попробовать аджики, в которой скрыто множество едких иголочек, что впиваются в язык – ну совсем так, как это бывает, если разжевать все тот же цветок сурепки, а если переборщить, то во рту все займется, как от непереносимой горечи, что будит небо, а лучше сказать, просто ошарашивает его, заставляя долго держать рот открытым, учащенно дышать, утирать слезы и указывать бабушке на стакан воды, который она, смеясь, сейчас же ему подаст.
Кают-компания была пуста, и в этой пустоте было нечто такое, что подталкивало его к детским воспоминаниям.
Словно кто-то только и ждал, специально высвободив для него это пространство, чтобы выстудить прохладным воздухом длинные отмели на его спине, и подхватив возникшие в нем видения прошлого унести их подальше отсюда в трепетный космос, принадлежащий только ему одному.
И это похищение, произойди оно на самом деле, не расстроило бы его вовсе.
Сейчас ему казалось – попроси его кто-либо, и он с радостью поделился бы любыми своими переживаниями, как бы глубоко они не залегали в той пазухе, где прячутся все чудные душевные дары.
Он устроился на своем обычном месте – в углу дивана за дальним столиком – и, как всегда, неторопливо вписавшись спиной в угол, обжил его, развернулся ко входу, и подвернув под себя ногу, сел на левое бедро, облокотившись о стол.
Теперь он не нашел бы в душе ни следа от недавнего раздражения, хотя где-нибудь там внутри было, наверное, темное пятнышко, подобное тому, что ищет врач на рентгеновском снимке грудной клетки.
С этого момента он словно утратил какую-то часть своего зрения, потому что почти не замечал происходящего, хотя раньше, начни заполняться сослуживцами помещение, и даже покажись в дверном проеме голова первого из них, стань он непременными толчками подниматься по трапу как какой-то поршень или игрушечный болванчик в шкатулке, подпрыгивающий при нажатии кнопки, то он немедленно ощутил бы, как им овладевает досада, появляющаяся, возможно, из того вечного темного пятнышка, в котором она потом и исчезнет.
Он не заметил, как за столом появился Костя – необычайно хрупкий, высокий блондинистый франт.
С ним в обычное время он непременно вступил бы в словесную перепалку, и Косте досталось бы непременно.
Но его сегодня не раздражало как Костин голос, обращенной к вестовому, расцветает вальяжной нежностью, чтобы с помощью примитивных ухищрений выпросить добавки.
Раньше он придумал бы для этой ласковости какой-нибудь новый эпитет, назвал бы ее, скажем, сладкой и липкой, сказал бы, что она пристает к человеку, как свежее тесто, и ее потом никак не снять с пальцев.
Это состояние было для него необычным.
Казалось, сознание, отбрасывая все привычное, внимательнейшим образом исследует какую-нибудь упущенную ранее, ничтожную на первый взгляд деталь, будь то трещина на фарфоровом стаканчике с кофе, похожая нынче на контур Нила или на соединенные с огромной ладонью длинные пальцы вестового, подающие чашку кофе будто выпавшего из гнезда кукушонка.
Лишь через какое-то время он с удивлением обнаружил за своим столом еще одно существо – всегдашнего своего сотрапезника, Вову-механика, нечесаного заморыша и, как он его звал, «нашего маслопупа».
Вову он всегда прикармливал паштетом, а потом наблюдал, как тот ест, как у него отпускает какую-то давным-давно заведенную мимическую пружину, и черты лица становятся мягкими, а щекам возвращается детская припухлость.
Он любил дождаться Вовиного: «А ты точно не будешь?» – и тот, успокоенный, хохотнув, отправлял злосчастный кусок за щеку.
Ему нравилось кормить Вову, быть рукой дающей, могущей вообще-то дать или не дать.
В таких случаях он надевал одну из своих масок под названием «холодность», делал вид, что забыл. Вернее, не забыл о Вове, а собирается сегодня все это добро съесть сам, ибо имеет, наконец, на это право; и Вовик, привыкший к ежедневным угощениям, проявлял тогда все признаки беспокойства: нервно дергался и обиженно застывал.
Это вызывало удовлетворение и даже умиротворение, а смуглый Вова, напустив на себя равнодушие, чуть-чуть, но все-таки заметно бледнел, будто ему все равно, съедят сейчас то, на что он рассчитывал, или не съедят.
И, наблюдая исподтишка за «тренируемым», как он прозвал про себя Вову, он испытывал странное удовольствие – как рыболов, у которого клюет, он при этом старался не переборщить, не перетомить беднягу, а то еще обидится, и в силу этого у него, может быть, разовьется даже самолюбие, достоинство или там гордость (а это уже никак не входило в его планы), и он, отодвинув тарелку, скажет: «Спасибо, не хочу!»
Но нет, ничего такого не случалось, и он всегда успевал вовремя подсунуть Вове тарелку и сказать: «Прости, забыл», – тот улыбался, прежде чем проглотить кусок, и он сейчас же чувствовал опустошение, похожее на бессилие, и испытывал желание ударить Вову.
Но теперь ему хотелось ударить себя, или чтоб Вова ему наконец вломил, и тогда, на другое утро, ощущая в себе непроходимую топь, он предлагал ему свою порцию вполне искренне и, пожалуй, даже чересчур поспешно, а тот, чувствуя все же во всем происходящем некую необычность, ненатуральность, брал все это с тарелки настороженно и смотрел в его глаза так, как будто что-то ему открылось, и теперь-то он все про него понял.
Ему становилось не по себе, он ощущал холодок разоблачения, опережая которое, он даже собирался тут же покаяться, перед собой ли, перед заморышем ли, ему еще было не ясно, но лишь только Вова открывал свой рот и произносил что-либо, как становилось понятно, что он – ни о чем не догадывается.
Но сейчас он почти машинально подвинул Вове свою порцию, а потом почти с удивлением наблюдал на его лице улыбку и умиротворение.
В другое время он бы, пресытившись, отворотил свой взор от проявления человеческой радости и, наверное, обратил бы внимание на еду, не преминул бы отметить вслух то, что сливовый сок пахнет железной банкой и смазочным маслом, или сказал бы, что ломтики колбасы в последнее время прозрачностью напоминают листики осины, которые почему-то не трепещут на ветру, а оплывающий кусок сливочного масла назвал бы погружающимся в желтые воды печальным дебаркадером, и это не показалось бы ему подозрительно красивым – напротив, он предпочитал когда-то говорить о еде нарочито пышно, экспериментируя, соединяя почти не соединимые слова, прислушиваясь к их звучанию, используя метафоры, может быть, не всегда точные, но произносимые всегда насмешливо, с веселыми гримасами.
Но теперь это не занимало его. Он был занят другим.
Казалось, он пытается рассмотреть вблизи причудливые формы будущей мысли, перенесенные с окраин его ума в центр созерцания. Такой особенной мысли, не получившей пока воплощения в словах, как созвездие капелек жира в тарелке супа, странным образом вдруг ожившие и кружащиеся, чуть ли не пританцовывающие, следить за которыми было забавно, но которые ускользнули бы, словно рой неуловимой мошкары, прояви он в этом деле чуть больше упорства и сосредоточенности, задолго до того, как ум его смог бы приступить к более тщательному анализу фигур этого элементарного и вместе с тем изощренного движения.
Но вот его усилия осмыслить что-то невыразимое ослабели, и сейчас же, может быть, из-за этого размягчения откуда-то всплыло воспоминание, как в прошлом походе вот так же за столом он сидел напротив штурмана, прикомандированного из другого экипажа, – неулыбчивого человека, за все время не проронившего ни единого слова.
«Слушай, как тебя зовут?» – спросил он его уже в самом конце похода.
«Меня зовут Боря». – «Спасибо тебе, Боря, – сказал он и неожиданно высунул длинный язык: – Ме-ме!»
И тотчас же между ними исчезла прозрачная стена – они дружно расхохотались.
Это было событие, при воспоминании о котором он и теперь не мог сдержать улыбку.
Именно событие. Какое верное слово.
Этого слова, казалось, давно уже ждал его ум, и как только оно отыскалось, к нему пришло радостное успокоение, как будто всплыла необходимая деталь, восстанавливающая логику сновидения.
Событие!
Может быть, этого жаждал и командир, назначая очередной жертве бритье бороды, да и сам он ради этого слова, наверное, прикармливал Вову.
И еще ему вспомнилось письмо однокашника.
Он получил его перед самым отходом. Того перевели с кораблей в училище командиром роты курсантов, и он от радости сошел с ума: развел на подоконниках казармы разные растения, рассаживал их, пересаживал, приютил кошку Маркизу, завел аквариум с рыбками и шпонцерными лягушками.
«Представляешь, – писал он – оказывается, шпонцерная лягушка ест сухой корм для рыбок, она запихивает его в рот обеими лапками. А у Маркизы будут котята. Из соседних рот уже приходили, хотят взять, когда родятся».
Да, он бы тоже завел себе там, на земле, что-нибудь такое, что можно сажать, пересаживать, с нетерпеньем дожидаться цветения, и то, что можно гладить по шерстке, без конца ее перебирая, – завел бы то, на что можно употребить тот огромнейший груз нежности, который почему-то не растрачивается на людей.
Люди не умеют делиться нежностью. Вернее, они хотели бы, но, похоже, они уверены в том, что они ничего не получат взамен и останутся без всего, отдав это чувство.
* * *
Они поссорились с Петром осенью.
Да, да, это был самый нижний, придонный слой времени года, когда тяжесть плохой погоды поглощает все твое раздражение, потому что ее все равно не пересилить.
Этому сумеречному времени подошли бы чаепития в теплой комнате, непременно с блюдцами, с тренькающим звуком уютных чашек, с вареньем из крыжовника, сироп которого хитроумнейшим образом осветляют, отделив его от ягод, а потом возвращают их ему, и они плотно усаживаются в банке, словно какие-то важные зеленые рыбки; а широкая хрустальная розетка, в которой они находят временный приют, напоминает акваторию залива, плотно усеянную притопленными бочонками.
В это время капли дождя оставляют на стекле следы, будто стайка улиток, вперегонки ползущих по огромнейшему прозрачному листу; некоторые из них замедляют движение и останавливаются, словно раздумывают, перекусить им здесь или отправиться далее, но потом они неожиданно для самих себя соскальзывают вниз, словно на салазках, и исчезают, оставляя живые блестящие полосы.
И тут он отметил, что, думая о чем-то уютном, он все время находит морские эпитеты, что он словно отравлен ими…
Он поймал себя на том, что никак не может вспомнить подробности той давней ссоры.
Не помнит, с чего все тогда началось, какие там были причины, какие говорились слова.
Он видел, как все это от него ускользает, он долго не мог понять, на что это похоже – слова были элементарны, как шум листвы, но, увы, как и он, невоспроизводимы…
Это все случилось из-за его собственной склонности так упорно сопротивлялась всему ранящему, даже незначительной досаде, которую он испытывал, и всякому переживаемому им огорчению, сетованию на собственную непоследовательность, на детскую слабость. Наверное, так же поступает мать, отвлекающая младенца, забирающая у него острую вещицу, когда она подкладывает взамен нее старого испытанного медвежонка с серыми плешинками на боку, чтобы ребенок нашел у медвежонка знакомые черты, лопнувшие швы, и сунул палец в эти привычные раны, а ту вещицу – она незаметно отодвинет подальше; но эта хитрость не всегда удается матери, и когда малыш вновь и вновь нетерпеливо тянется к тому, что его волнует, она сдается и дает ему потрогать это, но только той стороной, которая менее всего опасна и вряд ли способна причинить боль…
А слова – ну кто же верит словам? Одинаковые у всех людей, они все равно будут разными, другое дело взор и та влага, что скапливается у нижнего века – именно она и отвечает за искренность.
Кажется все началось с того, как он, там на пирсе, повинуясь внезапному порыву, вдруг обнял Петра, прижался к его груди и будто услышал в ней стук – там явственно трудились два молоточка, что ударяли в одно и то же место: сначала один, тот, что поболее, а затем и второй, поменьше – тук! тук! – тук! тук!
И было нечто невероятное в этом звуке, в самих тех ударах; а возможно, вовсе и не в ударах, а в паузах между ними – какая-то явная отзывчивость, пронзившая его тело как бесцветная рыболовная леска.
Что-то было в этом жалобное, а возможно, и жалкое, как в трепетаньях новорожденного, которые всегда хочется пресечь, остановить, потому что они невыносимы своей непредсказуемостью, потому что кажется, что они у него последние и нет никакой надежды на повторение, и тогда невольно тянет прижаться лицом сильнее в надежде, что так из этого тела никогда не уйдет жизнь.
О чем это он? О младенце? О Петре? А может быть, о себе самом?
Он подумал, что выражался неясно, но потом ему показалось, что невольно он и сам того желает, чтобы этой неясностью и неточностью связать всех: и младенца, и Петра, и его бьющееся сердце, и себя – невысокого, кряжистого, но в то же время какого-то очень непрочного, ломкого – прижавшегося тогда к груди Петра щекой.
А может, ему захотелось сейчас такой неясности, потому что он вдруг ощутил желание закрыть, зачеркнуть, захлопнуть эту тему, как тревожащую, а потому и нелюбимую страницу детской книги, которую ему когда-то не хотелось перечитывать как раз потому, что и на самом деле она прекрасна, но всегда неожиданно и сильно ранит.
Эта тема невыносима, как, впрочем, невыносимо и то, что есть своя вселенная катастроф даже в чашке компота, где течением, поднятым утопленницей-ложкой, перебираются истлевшие распашонки ягод малины, и початые пуфики вишен, и смятые икринки красной смородины, а люди пьют все это дождливыми вечерами, поедают, безучастные к этим маленьким трагедиям, а возможно, и не только к этим.
Так чего же можно хотеть от человеческого сердца?
Оно не приемлет мук, вытравливает их неустанно и терзаемо этим еще сильнее, потому как сам процесс такого отторжения тоже мучителен и напоминает сведение с кожи наколки, от которой остаются еще более красноречивое свидетельство; может быть, там было: «Маша, я тебя люблю», – а теперь остекленевшая рана – свидетельство о плоти, о муках, которые и есть плоть, которые и делают эту жизнь плотной, осязаемой и непереносимой. И как ценны, а значит, красноречивы и даже отдохновенны должны быть после этого промежутки и пустота безмыслия.
Но, быть может, с куда большей силой сердце бунтует против переполнившей его нежности, с которой неизвестно как поступать, которая так плотна и густа, почти как вишневый кисель или еще того пуще; но она разливается внутри все же как жидкость, заполняя, захлестывая, и если там для нее нет преград, то она угрожающе стечет в какое-нибудь одно место, перегрузив его. И человека, получившего ее с превеликим избытком, не рассчитанного на ее тяжесть и густоту, зашатает, как и его тогда, и он пойдет, почти падая, не разбирая дороги, и он внезапно словно ослепнет, и так ему легче будет оступиться или даже погибнуть от какой-нибудь ерунды.
Ну, может быть, так? Возможно…
Иначе как объяснить себе то, что произошло еще минуту назад с растроганным Петром? А в том, что он был растроган, не было ни малейшего сомнения, это ощущалось прежде всего по его взору, ставшему вдруг рассеянно жалким: все из-за того, что зрачки его глаз, дрогнув, чуть сместились к границам верхних выгнутых век и, казалось, вот-вот они укроются за веками; но уже у самой кромки становилось ясно, что они вовсе к этому не готовы, что они в замешательстве и не знают, на кого оставить выступившие слезы, и они едва трепещут, они не в силах ни на что решиться.
Такой изгиб верхнего века всегда казался ему непереносимым, словно во всем этом было ощущение безвозвратности.
Петр сначала молчал, смотрел в сторону, но потом, сделав над собой видимое усилие, заговорил. Это были странные, как показалось тогда ему ущербные слова. Это были даже не слова, а какое-то недословие, потому что они почти не соединялись друг с другом, они всего лишь пристраивались, прилипали и, толкая друг друга, будто сами поражались такому соседству.
И он сейчас же почувствовал, что всегда боялся именно вот этих жестко звучащих слов, боялся всяких там названий, определений.
Они, как неумолимая конструкция, должны делать сильным то, что в самом деле таковым не является, что в самом деле слабо, лживо, нервно…
Ему показалось, что сейчас насупившиеся трамваи пронеслись там, где он собирался воздвигнуть что-то необычайно хрупкое, разбирая для этого строительства внутри себя ажурные лесенки, составляющие его самость – снял одну, снял вторую, перенес, приладил, – а со всем этим очень трудно расстаться, потому что на их месте возникает пустота.
Он с трудом тогда понял, что Петр ему выговаривает, великомудро поучает, отстранившись, призывает к сдержанности, а ему все хотелось сказать: «Господи, так я же ничего… я же…» – и дальше он был уже не в силах, руки чертили в воздухе круги и, возвращаясь, ладонями приникали к своей бесполезной груди – бесполезной оттого, что она в тот момент не давала ни силы, ни уверенности, ничего. Он начал было собирать в пустоте какие-то несуществующие вещи.
Но нет. Ему все показалось.
Он все придумал, пользуясь своим сегодняшним взглядом на те события, и от нежности, скорее всего, захлебнулся тогда вовсе не Петр, а он сам.
И там, где следовало бы ответить на его чувство, разоблачиться, Петр стал, наоборот, одеваться, отгораживаясь и отмежевываясь, возводить словами барьеры.
А слова, пусть даже такие, какие у него были – в них же можно потеряться, и они жестокая штука. Они правдивы – о да, конечно, тысячу раз да, – но только в момент произнесения, а затем – неверны, неточны, лживы, а если будешь на них настаивать – опасны.
Но тогда это было не главное.
Его поразило и даже повергло в растерянность другое: как могло случиться, что они поменялась с Петром ролями.
Ведь это он держал в своих руках все нити их отношений, он был избалованный гурман, отвергающий то одно, то другое, капризный рыболов, лениво закидывающий удочку, уверенный в везении, удаче, небрежно снимающий с крючка улов, он был соблазнитель и поучающий деспот. Но незаметно произошла ошеломительная подмена и, решившись пойти к человеку за теплом, по праву, как он считал, ему принадлежащим, он наткнулся будто на зеркало, на свое собственное отражение.
И, возможно, устрашившись этой оскорбляющей зависимости, короткого поводка, он и предпочел разрушить все то, над чем, наверное, следовало бы им обоим еще долго и долго трудиться.
Хотя, конечно, и в момент ссоры, и спустя некоторое время после нее он всего этого не знал.
Да и не мог знать. Это знание пришло к нему много позже.
Оно пришло к нему, уже успокоившемуся, уже выговорившему почти всё во внутреннем диалоге с Петром.
Он нашел массу доводов и разных слов, которые, впрочем, тут же сменились куда более убедительными доводами и еще более точными словами.
К нему, уже уставшему, пришло это знание, как приходило потом не однажды, но с каждым разом оно становилось все медлительнее, все отстраненнее, – пришло серой, мягкой кошечкой, что, удобно устроившись у него на коленях, глянув на него своими спокойными зелеными глазищами, словно дала понять: «Все будет хорошо».
И он понял все или почти все. Или сейчас ему только кажется, что он все тогда понял и смотрел спокойным теперь внутренним взором на себя того, стоящего перед разглагольствующим дураком, вспоминал себя, растерявшегося так, что собственные руки в поисках чего-то, какой-то опоры, находили только друг дружку и начинали себя пожимать, а на глаза попадались незаметные ранее необычайно выразительные мелочи, мусор, вроде облупившейся черной краски на пирсе, каверны, которые напоминали своими очертаниями материки и говорили на детском языке: «Это – Африка, это – Австралия», – и их сейчас же, как и когда-то ему захотелось потрогать.
А еще на глаза попадал вспыхивающий блеснами след от катера, далеко отошедшего, почти не слышного, по которому в безветренную погоду только и можно догадаться, что перед нами вода; или же несбритый длинный волос, двигающийся на коже в такт говорящему, способный надолго овладеть вниманием и тем самым отвлечь и спасти, оградив слух от всхлипывающего биения собственного сердца.
А потом он увидел себя со стороны.
Себя, уже вполне овладевшего собой, выждавшего удобный момент для ссоры, что-то зло, холодно, размеренно говорящего Петру, застигнутому врасплох. И смотрел он при этом на Петра так, как, быть может, взирает на мир природа – на все эти флегматичные окрестные холмы и кроны деревьев. Уставившись сквозь жирный и плотный воздух в обесцвеченное, будто выстиранное, небо за мгновение до того, как уходящая, ускользающая природа, потеряет для нас свой смысл, который мы же ей и придавали, и будет отдаляться, превращаясь в некое подобие рая, оставляя там фигуры и образы, которые мы сами в нее и вкладывали, и мы об этом не будем сожалеть.
А потом ему представилось лицо сметенного человека, а, скорее всего, не смятенного, а мучительно думающего, и не само лицо, в котором из-за отрешенности не было ничего милого ему, а только глаза, в чьих движениях и проявлялся весь томящий его недуг: веки были только чуть-чуть приподняты выше обычного, из-за чего глаза казались бы вытаращенными, оставайся они на месте; но нет, зрачки, точно огромные неутомимые водомерки, зачем-то занявшиеся в весенней луже синхронным катанием, совершали торопливые перемещения внутри некоторого ограниченного пространства, но, достигая края, они беспокойно отталкивались от него, вроде боялись обжечься или оступиться, заступить за черту, и сейчас же устремлялись в противоположную сторону. Казалось, покрой их веками, и они все так же будут метаться под ними, ну совсем как это происходит у спящего и видящего сны.
Чье это лицо?
Петра?
Или его собственное?
* * *
Ему не хотелось об этом думать.
Ему – уже лежащему в каюте, на полке, на верхнем ярусе, захотелось вовсе отстраниться от мыслей, и он приказал себе отказаться от всякой мысли.
Он отгородился прикроватными занавесками от наползающего мира каюты, от висящих по углам одутловатых шинелей и кителей, хранящих воспоминания о фигурах владельцев.
Но всякий раз, как только он это проделывал, ему сразу же начинало казаться, что он положен кем-то в ящик с матерчатыми стенками, и ему хотелось сразу же схватить и отдернуть занавеску; и он, понимая, что все это чушь, иногда все же не мог удержаться, хватался, отдергивал и после с глупым смешком, гримасничая самому себе, возвращал ее назад – вот так – задвинут, забыт.
Так хотелось иногда, чтоб все о тебе забыли, и порой мерещилась, что все это не с тобой происходит, а ты – настоящий – рядом и подсматриваешь за тем, что делает другой.
Тогда начинает казаться, что под подушку вползает страх – серый и холодный.
Он похож на короткую скользкую простыню, что выдают в вагоне пассажирского поезда, и она виновна в глупых видениях о том, как во время сна, накренившись, поезд сходит с рельсов – и так далее, и так далее.
А потом ты неожиданно просыпаешься, а у лица твоего уже стоит такая темнота, которую в обычной жизни не увидать.
Она давно растворила не успевшее отдохнуть тело.
Она может поглотить все, что только в нее ни погрузить, и в эту пору так хочется к кому-нибудь прижаться, пожаловаться.