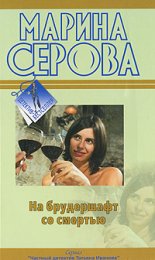Ошейник Жеводанского зверя Лесина Екатерина

Она окончательно перестала понимать что-либо, и снова захотелось позвонить Лешке. Впрочем, от этого шага Ирочка удержалась.
Над кладбищем орали вороны, стаи их клубились, то поднимаясь в воздух, то опускаясь на ветки-штыри весенних тополей, чтобы в следующий миг вновь взлететь. До кладбища не добралась весна, обосновавшаяся в городе, пропитавшая теплом улицы и дома, тут она не решалась подступить к цементному забору, в тени которого скрывались остатки снега. На кладбище земля дышала сыростью, темные стебельки, пробиваясь сквозь жирную плоть ее, выглядывали наружу, блестели слезною росой.
На кладбище ничего не изменилось.
Ближние могилы в аляповато-ярких венках нетленной пластмассы, лаковый гранит да золоченые буквы. Чем дальше, тем меньше лака и позолоты, и буквы стираются, и кресты-глыбы стареют, идут рябью, оспой возраста. Покрываются шубой блеклого мха и коростой ломкого лишайника.
Тимур закрыл глаза, вдыхая запахи, вбирая звуки, унимая беспокойство, которое, памятью подкормленное, не спешило уняться. Вот потянуло розами, настойчиво, назойливо, и ласковый голос Марата сказал:
– Ну что же ты? Иди, она ждет.
– Уходи.
– С какой стати? Между прочим, и я имею право быть здесь. Я даже цветы принес.
Молочные розы на длинных стеблях, небрежно перетянутые алой лентой.
– Как ты думаешь, она бы любила розы? И вообще, какой бы она была? – Марат положил букет на черную плиту, подумав, развязал ленту и вытянул один цветок, который кинул отдельно, поперек прочих. – Что? Между прочим, очень даже... изысканно. Ей бы понравилось. Как ты думаешь, понравилось бы?
– Она ромашки любила.
– Неужели? Или вы просто на розы не зарабатывали? А что, слюнявый романтизм, ромашки-василечки-лютики, поцелуйчики под луною, вздохи, клятвы в любви...
– Заткнись!
– И дать тебе поплакать над утратой? Очнись, Тимка, посмотри, тут ей всегда семнадцать, а было бы тридцать семь. Замужество, развод... ну или в худшем случае верность до гроба, рабство от обетов. Она стареет и дурнеет и, чувствуя это, становится несносной. Ревнует, пилит, грызет, потому что ты стареешь медленнее, ты все еще привлекателен. И ты знаешь, что привлекателен, а она уже не та Татьяна, о которой мечталось. Зато вокруг полно молоденьких, жадных, готовых на многое. Измены. Мятые простыни, грязная жизнь...
– Заткнись! – Тимур заткнул уши пальцами, но не помогло.
– Да если бы не я, она не была бы твоей даже на миг. Она бы легла под еврейчика, а потом забрюхатела, вышла замуж и снова – кастрюли-котлеты, раз в два года роддом, каждую неделю скандалы с тетей Цилей, тайный алкоголизм...
– Ты не знаешь, что это было! Ничего не было! Ты...
– Я сделал то, что должен был сделать. – Марат не позволил упасть на колени перед могилой. – Да прекрати ты эту театральщину, смотреть тошно... навестил? Долг отдал? Дома поплачешь, а теперь пойдем, у нас, между прочим, дел полно... К слову, я тут такую цыпочку заметил. Конечно, не сказать, чтоб модель, но в целом неплохо... да, определенно неплохо.
– Пожалуйста, не надо.
Кладбище закрывалось от живых стеной, вороны галдели, а весна через дорогу развалилась веселым многоцветьем, аляповатым, как пластиковые венки на недавних могилах, но в отличие от венков – недолгим. Еще пару недель – и настанет лето.
Еще пара встреч – и Тимур освободится.
Круглые глаза за круглыми очками, простыми, надетыми солидности ради и потому что модно. Розовый глянец на губах и алые мазки румян на высоких скулах. Волосы собраны в узел, брови подкрашены – слишком уж темные для такого лица.
– Чем могу помочь? – Ее глаза тотчас вспыхивают, губы приоткрываются, а потом смыкаются, раскатывая, разравнивая слой глянца. Пальчик скользит по волосам, голова чуть нагибается, позволяя оценить красоту шеи.
– Помочь? Вы можете меня спасти, милая фея, – говорит Марат, накрывая ее ладошку. Какой неслучайный жест, какой пугающий, но в то же время видится в нем обещание. Они все видят обещание и верят. – Ибо сердце мое пылает, я никогда...
Никогда не повторялся, находя новые и новые слова для своих мотыльков, а те спешат верить, летят навстречу, обнимая крыльями жестокий огонь.
Он ловит их на красоту, на сказку о принце, в которую свято верит каждая Золушка, пусть и не признается в этом. На убежденность, что уж с ней-то не случится беды и, наоборот, будет сказка.
Будет, но страшная.
И Тимур ничего не мог сделать, чтобы предотвратить убийство.
– Да ладно тебе, – шепнул Марат. – Вот увидишь, все будет классно. Она наша... она только наша.
Моя супруга, перечитав записи, снова смолчала, но теперь упрек на лице ее стал явен. В нем я вижу вопрос: что ты делал? И она права, увлекшись хронологией событий, я выпустил главное – Антуана, де Моранжа и свои тщетные попытки докопаться до истины.
Я уже рассказывал о причинах, каковые не позволяли мне пойти к Дюамелю или Денневалю, ибо подобное признание означало бы признание его вины, в которой я, однако, не был уверен.
Ко всему прочему отец, видимо, желая укрепить во мне веру в невиновность брата, спустя несколько дней после первого разговора предложил мне отправиться в гости к Антуану, на гору Мон-Муше, в хижину лесника. Надобно сказать, что дом уже не выглядел хижиной. Сложенный наново, прибранный и изнутри, и снаружи, он был крепок и удобен. Антуан, встретив нас на пороге, провел внутрь, охотно показывая жилище. Не скажу, что оно было необычно. Обыкновенно. Правда, полно шкур, которые были не слишком хорошо выделаны и оттого дурно пахли, но разве это столь важно?
– А вот и собаки, – сказал отец, отводя меня под навес, выстроенный за домом и упиравшийся в каменную стену, где виднелось черное пятно пещеры. – Антуан их разводит по просьбе де Моранжа.