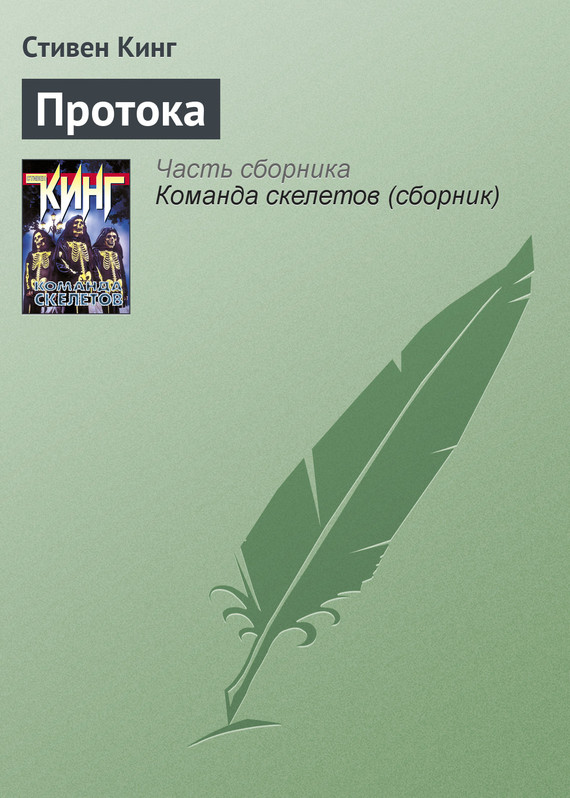Посвящение Кинг Стивен

Читать бесплатно другие книги:
Человек просто обязан доверять своей интуиции. Особенно если он руководит научной арктической экспед...
«Сейчас у меня хорошая работа, так что хмуриться нет причин. Не нужно общаться с тупицами в «Супр Сэ...
«Какое-то время очень темно, как долго – не знаю, но думаю, я по-прежнему без сознания. Потом, очень...
«В те дни Протока была шире, – сообщила Стелла Фландерс правнукам в последнее лето своей жизни, то с...
«Дженет поворачивается от раковины и – нате вам! – муж, с которым прожито почти тридцать лет, сидит ...
«Осенью 1996 года я пересекал Соединенные Штаты от Мэна до Калифорнии на своем «харлей-дэвидсоне», п...