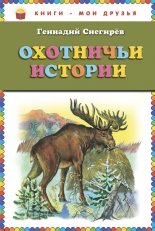Кавказушка Санжаровский Анатолий

И, отдёрнув злость, спокойней попрекала по-грузински:
– Он похлопочет!.. Хлопотун выискался. Хлопочи, хлопочи… Да не заплачь! Что вы тут без меня, пеленашки, станете делать?! С голоду прежде всего перемрёте! Кто вам будет шить да штопать? Кто станет вас перевязывать да накладывать вам гипсовые сапожки?!.. Хлопочи! Только и я похлопочу. До Берлина дойду, а от единственного сына не отстану живая! К самому к Морозову пойду! Он не ты! Поймёт мать… Пошли вместе к Морозову!
Вано надел свой боевой орденок, все три медали. Всё солидней. Пускай знает Морозов, кому отказывает!
Увидев Вано при наградах, Жения пыхнула, сердито подумала:
"Это ж он выряжается, чтоб взять надо мной верх. Прямо иконостас… Понацепил пятаки… Думает, начальство безразговорочно возьмёт во внимание его погремушки и обязательно всё свернёт на его дорожку…"
Не отрываясь, смотрела Жения на сына.
Она поймала себя на мысли, что ещё никогда не видела сына таким красивым, и открыто любовалась им. Эти награды так набавили ему пригожести!
"Ордена-медали Вано добыл кровью в боях. А я – пятаки, погремушки… Совсем с горя очумела. Совсем вся выпала из ума…"
А вслух повинилась, ластясь и прижимаясь к крепкому сынову плечу:
– Мать тоже может лишнее уронить с языка. Ты уж не дуйся на старую…
– А разве по мне заметно, что я дуюсь? – разлился в светлой улыбке Вано.
Про себя Морозов потянул руку Вано.
Несомненно, считал и Морозов, нечего матери пихать голову под пули. Пускай возвращается. Но как это сказать ей в лицо и не обидеть? Иначе… Такой ведь жар-бор поднимется!
Морозов что-то написал на листке. Подал Жении.
– Я тут всё ясно расписал. Поскольку открылась дорога, срочно повезёте прямо сейчас раненых в Геленджик, в знакомый вам госпиталь. Будете сопровождать. Водитель знает адрес… Эту мою записку передадите начальнику госпиталя. А дальше… В записке всё сказано. Вы оба свободны.
Вано обмяк.
Едва вышли от Морозова, Жения хлопнула Вано запиской, дразняще показала язык. Как маленькая:
– Ну, хлопотун! Кто лезгинку пляшет?
И, выструнив руки в одну сторону, подобравшись, озорно заскакала на пальчиках, коротко и упруго перебирая ногами.
– Оно, сынок, хоть и говорят, что козы перед гибелью бодаются, да я ещё…
Жения осеклась.
Прямо на нее из-за угла выворотился Заваров и, поражённый увиденным, от изумления раскрыл рот.
Жения охладело опустила руки, стала.
– Ба-ба-ба! Что я вижу, Генацвалечка! – загремел Заваров, тяжело дыша с долгой беготни. – Утром на кухню не явилась… На обед ни крошульки, а у неё плясочки до упаду! Умучился, исказнился весь, пока в бегах рыскал всюду, всё искал… Фу-у!.. Мы так, Генацвалечка, не уговаривались. Ей-бо! – И съехал на плаксивый тон: – Женечка, веточка ты моя! Радость ты моя всепланетная! Давай, родненькая, на кухоньку. Боевой народище ведь кормить через час! Да без твоего харчо в обед меня самого слопают! Перспективушка!..
С жалостью взглянула Жения на Заварова.
Отводя лицо, сбивчиво пробормотала:
– Нэ-эт, дорогой… Ложка-поварёшка командуй ти сама… У мнэ, – потёрла в пальцах записку, – задани боэвой… Вэзу ранени на госпитал!
Заваров дыхание остановил – так подсекла его эта новость.
– Зарезала без ножа! Убила без выстрела! – прошептал Заваров, тупо глядя перед собой. – Даже баба вырвала открепление от котлов. На повышение стриганула! Снова я один одним… А за что ж мне такая кара? Я как чувствовал… Мы с тобой масло и вода… Масло и вода не соединяются. Не по судьбе, знать, вместе… Чего лукавить… Мука с тобой была. Да мука сладкая!.. Ты ловкая. Такая в море кинется и не промокнет… Ты чего хотела, добилась, взяла. Ближе к боевому делу! Не зря всё пела: если падать, дорогой Заваров, то лучше с коня, чем с осла. А я никак не выкружу на боевую дорожку… Падать мне с осла?.. Женечка… Генацвалечка… – Заваров беспомощно разметал руки. – Да что я буду делать без тебя?!
Жения ободряюще подмигнула:
– А вари харчо! У тбэ хорошё получайси… Я расказвал, ти записвал… Читай… дэли… У тбэ хорошё получайси…
– Я только воду могу хорошо вскипятить. А всё прочее у меня отвратно.
Жения мелко поклонилась Заварову, мол, чем же я ещё тебе помогу, и, толкнув Вано в локоть, пошла.
Остановившимися глазами Заваров пялился на мать с сыном.
Они всё больше отдалялись.
Вано как-то сразу выпал из поля его зрения.
Заваров видел одну Жению.
– Эх! Генацвалечка! – пропаще покачал он головой и запел-зажаловался.
Точней, он не пел, а по слогам проговаривал в тоске прилипчивую частушку, не теряя из виду Жению:
- – Нога моя левая,
- Чего хоча делая.
- Не спит, не лежит,
Три машины с ранеными уже стояли у санбата.
Жения ласково провела пальцем по колковатой щеке сына.
– Не вешай низко нос, – сказала. – Не скучай. Я скоро… Мы скоро снова будем вместе. Поэтому я не говорю тебе прощай. До свиданья, сынок! К вечеру вернусь…
– До свиданья, мама… Лёгкой тебе дороги…
Неясная горечь разлилась в ней, и Жения, легонько оттолкнув от себя Вано – медали жалобно тенькнули, – быстро засеменила к ближней машине. Взялась за борт, ногу на лесенку…
– Сюда нельзя! Нельзя!! Нельзя!!! – заполошно зашептал ей в затылок тонкий, писклявый голос.
Жения обернулась – никого.
Она как-то растерянно улыбнулась и уже медленней перешла к соседней машине.
– И сюда нельзя! Нельзя!! Нельзя!!! – всё тот же голос.
"Не к добру это…"
Ей расхотелось ехать.
Однако она заставила себя подойти к третьей машине.
Занесла ногу на лесенку. Подождала, прислушиваясь.
Голоса не было.
Она взобралась. Слабо, в нерешительности помахала сыну.
Вано постеснялся поднять руку и лишь грустно, плохо скрывая огорчение, покивал.
Дорога была вся в нырках. В выбоинах.
Машины ползли по ним черепахами с каким-то жалобным, воющим пристоном.
Где-то в середине пути настиг немецкий самолёт. Уничтожил две машины с ранеными. Прямое попадание. И только третья машина, которая шла в голове и в которой ехала Жения, – среди раненых был там и грузин с обожженным лицом – благополучно добралась до госпиталя.
Начальник госпиталя, увидев входившую к нему в тесный кабинетик Жению, обрадовался:
– А-а!.. Те же люди в ту же хату!.. Ну-ну! С чем пожаловали?
Жения отдала записку.
Он прочитал. Почесал кончик носа:
– Придётся снова звать грузина…
– Зачэм? Я тепер понимай мала-мала рюски. На фронт учи…
– Значит, не зря ходили… Раз фронт научил, должны понять. Тут, – тряхнул запиской, – предписано…
Начальник запнулся.
– Да что я вам толкую? Раз вы теперь знаете по-русски, наверно, читали записку?
– Зачэм, кацо? – насупилась, сбычила глаза Жения. – Записка нэ мнэ. Зачэм читай я?
– Логично, – оживился начальник. – Тогда поясню. В записке предписано… Руководство приказывает препроводить Вас отсюда домой.
– Хачу часть, – тихо, но твёрдо возразила Жения. – Там син. Дом нэ хачу…
– Хочу… не хочу… Таких понятий не существует на фронте. Если надо, – начальник ещё раз тряхнул запиской, – значит, ладошку к виску. Слушаюсь! До железнодорожной станции Туапсе мы Вам найдём, мамаша, транспорт… За помощь Вас тут, – показал бровями на записку, – сердечно благодарят. Спасибо…
Жения не стала ждать обещанного транспорта.
Она побрела по старой знакомой дороге и заплакала.
"Неужели всё это подстроил Морозов? Я так верила ему… А он – на… Какой-то писулькой отогнал меня от Вано. Прямушкой в глаза скажи, разве я б посмела ослушаться военную власть? Никуда б не делась, подалась бы домой… Так хоть бы честь честью простилась с сынком… А то… так… Вроде шапочные знакомцы… До свидания – до свидания… Будто до нового дня расстались… Даже не обнялись, не поцеловались… Вот тебе раз… Из моря выплыла, в росе утонула… Наверное, я не так поняла Морозова?.."
В своё село Жения вошла поздним вечером.
Кругом всё было черно. Нигде ни огонёчка. Мёртвая тишина, словно жизнь из села вовсе вытекла…
И чем ближе подходила она к своей пацхе, ступала всё медленней, всё тяжелей. Боязно было ей взойти на холодный, шаткий порог своего домка, всеми забытого, зачужелого.
От калитки Жения насторожённо всматривается в свои окна.
О Боже!
Окна изнутри меркло светятся! Кто там? Кто?
Да никого там не может быть. Мерещится!
Подбежала Жения к крайнему окну.
На столе коптит лампёшка без стекла.
У печки хлопочет бедная мамушка Минандар.
Стороной, поди, узнала, что увеялась я к Вано, бросила свою Джангру, перебралась, родная, ко мне под крышу… И сколько я ни пропадала, жизнь в доме в моём не умерла… Жизнь продолжается!
Делать нечего. Надо жить дальше, надо жить… надо жить…
Жения уткнулась лицом в плетёную стенку избы.
Стенка была тёплая, живая…
Эпилог
Промигнули долгие годы.
Случается, при гостях достают внуки с комода коробку, где ратные и трудовые награды семьи. И больше всего дивятся гости не орденам-медалям, а всегда холодной, блёсткой бабушкиной пуле. Пуле бабушки Жении.
В ранге бабушки Жения давно. Да что бабушка! Тяни выше. Доехала уже Жения и до прабабушки Бог знает когда!
Многое из того, как ходила к сыну на фронт, выстегнулось из ума. Но пуля, едва не угадавшая в неё тогда, глубоко сидит в ней и ничем ту пулю не выковырнешь из памяти. Никогда не забудешь этот вечный сувенир войны.
Жения так и не дождалась с фронта мужа Датико.
Пал под Сталинградом.
А Вано миловала беда. Вернулся целёхонький.
Как вернулся, запрягли в бригадиры и по сегодня не выпрягли. То ли забыли, то ли понравилось.
Похоже, понравилось.
Бригадирствует Вано ладно. Косяком награды, премии… Только вон одна Выставка московская возьми отвали в подарок "Москвича". Катайся не хочу! Да когда раскатывать?
С зари до зари толкётся Вано в бригаде.
Чай – мудрый капризник. На него только в пачке спокойно и взглянешь. В пачке он не перерастёт, не загрубеет в день. Какой с корня взяли, такой и будет до второго пришествия.
У Вано самая большая в селе бригада. Ну что тут разособенного? Лягушка и та хочет, чтоб её болото было больше всех. Мечется Вано белкой. И в зиму и в лето перемены нету.
Ох, не перестоял бы участок у чинары!
А не пролежал ли лишнего под навесом уже собранный чай?..
Зазевался, совсем зазевался с удобрением! Копка же на носу…
Управиться бы в самую пору с формовкой, ох, управиться бы. Ничего не надо!
Сплошные охи да ахи у Вано.
Смотрит, смотрит на него старушка мать, вздохнёт и пошаталась с корзиночкой на плантацию. Годы её уклонные. Восемьдесят. Какая из неё помощница?
Да как усидишь дома, раз у сына такая неуправка?
Неуправка неуправкой, но у старушки и свой резон одной, именно одной пойти на чай.
Ей совестно самой себе сознаться, что не на чай она прежде всего ходит. На свидания с Датиком ходит. Только завидит свои чайные рядки, просквозившие невысокие холмы, защемит в груди, кинется на глаза пелена.
Остановится. Тихо поклонится холмикам.
«Здравствуй, Датико… Здравствуй, любимый…»
Это для молодых чайная плантация только чайная плантация и больше ничего.
А для Жении…
В этих холмах вся её жизнь с Датиком. Короткая, светлая. Как жизнь свечи.
По росистым утрам не вечно на этих холмах празднично сверкал под солнцем зелёным изумрудом чай. Когда-то здесь кисли-кручинились под малярийными дождями непроходимые чащобы. Насыпались люди с топорами, с цальдами. [30] Вымахнули леса, насадили чай. И Жения помнит, где какое дерево срубила, где какой пень выкорчевала вместе с Датиком. Помнит всё, всё, всё.
Вот здесь княжил на воле кряжеватый дуб. За ним, в прохладушке, укрывшись от солнца и любопытного глаза, целовал-миловал её Датико…
Под этим вот грабом угощал в обед ожиной. Полную фуражку надёргал. С горкой!
За ольхой вот за этой она, светясь радостью, призналась, что у неё будет ребёнок. Первыш. И Датико в слезах с колен целовал её в живот…
Первенький и единственный. Вано…
«А знаешь, Датико, Вано у нас не промах. Ухватистый, проворливый…
Как фронт закалил, так и работает. Сноровисто бригадирствует на плантации, которую мы с тобой сажали… Не заспал и отцовское счастье. С Медико, с чудесницей жёнушкой, сказались запасливыми. Накопили полный двор ребятишек.
Семеро!
Ту ветхую плетёную пацху, куда ты ночью привёз меня на коне, давно сломали.
На её месте взметнули дворец! Приди ты сейчас, постеснялся бы в него войти. А вошёл бы – заблудился. Такой большой. В два высоких этажа, окон без счёту. Я так и не сосчитала, сколько же их… Просторный, нарядный. Расписан, как куколка. А что ты хочешь! Строили по проекту самого главного в районе архитектора!
Мы с тобой, Датико, когда сошлись, не могли расписаться…
Вано кончил четыре класса…
А внуки, думаешь, какие у нас? Тоже не могут расписаться? Как же! Все пробежали через институты-техникумы!
Нугзар, старший наш внучек, агроном. Понимаешь, самый главный агроном у нас в Лали! Отец бригадир. А сын – агроном! Шагнул дальше отца. Власть над отцом! Домину, как школа, вывел себе на самом берегу Чёрного моря…
Заира качнулась в Гали. Технолог на чайной фабрике…
Зураб заочно учится в Ростове. На экономиста. Заочно – это не значит, что он и учебники в глаза не видит. Видит! Это просто так учёба называется. Дома работает и учится. А экзамены ездит в институт сдавать.
Мадонна копит ума в Сухуме. В университете!
Русико выскочила замуж в Очамчиру. Аптекарша.
Роланд отслужил армию. Сейчас в бригаде у Вано.
Самая младшенькая, Индира, в прошлом году дожала среднюю школу. Тоже пока в бригаде у Вано. Поработает три года и на подготовительные курсы в Сухум. Настраивается на педагогический институт. Учительница будет…
Нашу с тобой, Датико, молодую жизнь и близко не поставишь с жизнью наших внуков. Жизнь у внуков безбедная, без горюшка. Гладкая, ровная, как эти чайные рядки, которые мы с тобой сажали босиком…
Ой, Дато!.. Если б ты только знал, какие мы с тобой древние…
Да что я…
Это я стала старая. Меленькая, страшненькая. Морщины, как овражки, по лицу… Отходная пора… А думала, не будет мне износу…
Старость и к камню подкрадётся. Только не к тебе… Ты ушёл на фронт молодым. Навеки молодым и остался. Приди ты сейчас, я б не знала, куда со стыда деться. Некрасивая, на всех зверей похожая…
Что вытворяет старость…
Но она и радость несёт. У нас внуки уже старше тебя того, когда ты уходил на фронт.
А! Что внуки!
Правнуки уже земелюшку обихаживают!
Видишь, всего один Вано, всего один отросточек наш уцелел. И пошли, и пошли от него веточки…
На праздник Победы съехались все – еле на карточке поместились. Семнадцать душ! Во какая наша семеюшка. Фотографироваться – меня посадили в центр. В самую в серёдку.
По левую руку Вано. По правую – пустой стул.
Это твоё, милый, место…
Рву я на наших холмиках чай и часто думаю, так ли я изжила жизнь, по всей ли правде? Знаешь, греха я за собой не вижу…
Сорок два года ношу по тебе траур. Как узнала, что ты погиб, так и надела.
Это не жалоба… Я не знаю, как это назвать… В себе носить… молчать… Говорят, старость пожинает то, что молодость посеяла. Так что я посеяла? Я тебе рассказывала… Да не всё…
Помнишь, ты увёз меня ночью…
Наутро прибежали братья мои, Трифонэ и Мамука, пытают меня: у вас всё было по согласию?
Я от чиста сердца: по согласию.
«По солгасию!», – ядовито пальнули они в один голос.
Не поверили мне мои милые братики. Не во нрав лёг им мой ответ. Им хотелось, чтоб я сказала: «Всё было против моей воли». И тогда, как требует обычай, они должны были бы убить тебя.
Правдой я не допустила крови.
И братья отреклись от меня. Запретили мне даже появляться на их похоронах.
Умер старший, Трифонэ, – Мамука не подпустил меня к гробу…
Через три месяца отошёл Мамука. В завещании он просил не пускать меня на его похороны. И меня не пустили…
Датико, милый, за что же так со мной? Мне вражьи пули кланялись, не трогали на войне. Я с гостинцами к сыночку ходила на фронт вон по занятой немцем земле – ни одна пуля не обидела меня, не посмела остановить. Так там были враги… Но здесь… Почему же так жестоко ни за что покарал меня обычай родных гор?
Разве имеет право на жизнь обычай, который разлучает брата и сестру? Который ополчается против правды сердца и любви?.. Если бы тогда, в молодости, я соврала и сказала, что ты поступил со мной против моей воли, то эта ложь приблизила бы меня к братьям, которые, сам же знаешь, с той поры только для того и должны были бы жить, чтобы убить тебя и кровью смыть с сестры позор, которого не было…
Злые, пещерные обычаи из прошлого примирают. Но всё ж кое в ком, в стариках, ещё цепляются за жизнь, чадят…
Я хочу, чтоб на земле всегда жили счастье, мир. Не за это ли ты отдал жизнь?
Да-а…
В больное, в ядерное время влетели мы, Датико…
Жуткие вести разносит по свету заокеанщина. Не знает она, что такое война.
Вчера [31] американский президент вон что ляпонул по радио – проверял звук у микрофона: «Мои соотечественники-американцы! Я рад сообщить вам, что только что подписал законодательный акт, который навсегда ставит Россию вне закона. Бомбардировка начинается через пять минут».
Позже он сказал, что всё это "не предназначается для печати". Видите, он и не собирался бомбить. Видите, шутка! Да бывает ли шутка, чтоб в ней не сидел хоть далёкий намёк на правду?"
"Жения, дорогая, не отчаивайся… Ну, киношный ковбоишка… [32] Ну, какие с киношного ковбоишки спросы?.. Удивительно, кто только и подпускает таких к микрофону?"
А больше Датико ничего не сказал.
1985
Послесловие
СКОЛЬКО ПЕРЕЖИЛИ…
Поначалу название повести Анатолия Никифоровича Санжаровского «Кавказушка», даже для «грузинской поэмы», как определил жанр сам автор, кажется несколько инфантильным. Язык – нарочитым. Теряешься в догадках: какую задачу ставит перед собой автор? Но погружаясь в текст, проникаешься настроением. На ум приходят рассказы Андрея Платонова, например «Возвращение» – капитан Иванов возвращается к жене, изменившей от безысходности, растившей двоих детей в невыносимом ожидании либо смерти мужа, либо собственной… Знаменитый платоновский язык помогает говорить о самом важном наиболее точно. По задачам и даже по пластике язык Санжаровского близок языку Платонова: в «Кавказушке» фронтовая медсестра Нина «заговорила глуховато» о тяжелораненом: «Умереть-то… Такой роскоши ему никто не подаст». Впечатление искренности, обреченной открытости героев достигается именно такими языковыми средствами.
Меткий народный юмор навевает еще одну аналогию. Вот эпизод, в котором деревенских женщин грамоте учили: «– Тихон ты Лексеич! Ну игде ты удумал разуму искать? Ой… Ты от горя за речку, а оно уже стоит на берегу!.. Да мы, бабы, умом еще когда отшиблены! Скоко пережили… Скоко горшков разбилось об наши головы? Всю умность и вышибло!» (Отточия здесь авторские.) Большинство читателей помнят архангельского писателя Бориса Шергина, работавшего в традиции северных сказов, по нескольким мультипликационным фильмам, однако его книги решены именно в стилистике такого народного языка, более богатого оттенками эмоций, чем литературный. Сколько в вышеприведенной короткой цитате горя, и сколько к нему мудрого отношения!
Большинство изданий, как водится, «отстрелялось» публикациями в юбилейную кампанию 65-летия Победы и возвратилось к обычным темам. Отрадно, что «Подвиг» не оставляет темы Великой Победы весь юбилейный год, да и в другие годы – тоже. Но помимо темы войны, и шире, темы восстановления искореженного войной и обычаями быта, безжалостного, болезненного восстановления, которое может обеспечить только цельная, не распыленная на фронте и в последующей жизни душа главной героини Жении, в «Кавказушке» звучит и еще один мотив, у некоторых вызывающий скрежет зубовный. Это момент естественного единения русских и грузин. Не России и Грузии, хотя исторически более оправданно именно это, а людей того и другого народа – такие связи прочнее трактатов и распоряжений полубезумных политиков.
Сергей ШУЛАКОВ