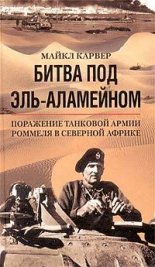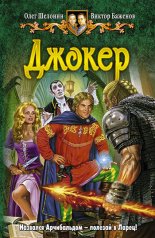Блокада Малицкий Сергей

Работа художницы de Roberty la Serda
1. Кубань – Ленинград
Скорый поезд, несущий на себе пыль огромных пространств, выбившийся из графика еще где-то под Орлом, с полного хода врезался в широкую, извилистую сеть Большой Москвы. Быстро мелькают подмосковные дачи, аляповатые рекламы, заводы, неожиданно многоэтажные дома.
Молодой человек чуть не весь влез в окно, плечами на распор, кричал:
– Здравствуй, Москва, Москва моя!
Рубаха вылезла из брюк, обнажая загорелую широкую спину. Мало что можно было видеть в окне рядом стоящему приятелю; он ворчал:
– И пусть будет твоя, но дай же и другим посмотреть на Белокаменную, твердокаменную, слышишь, Иван?
– А что, завидно? – Иван резко повернулся, щуря зеленовато-хитроватые глаза и улыбаясь всем скуластым, обветренным лицом. Курносый нос облупился, волосы на висках за лето стали совсем пепельными, жесткими и торчали во все стороны. – Конечно, Москва моя, а не твоя. Можешь ехать дальше, в свой Севпальмир. Дыши там, на здоровье, духами и туманами, кашляй и читай Блока… Вот видишь, Москва-Сортировочная! Ура! Херсон перед нами!
– Дурак, еще не проспался со вчерашнего.
– С какого вчерашнего, когда мы уже двое суток в дороге?
Эта была правда. Третью тысячу километров отстукивали под ними колеса.
Друзья выпили третьего дня, накануне отъезда из родного города, который был и не большим, и не знаменитым, но родным, и любимым.
Главная улица, как и во всех городах Кубани, называлась Красной. Красного в ней, правда, было очень мало, если не считать нескольких двухэтажных домов дореволюционной постройки и одного нового пятиэтажного дома – детища первой пятилетки. Рассказывали, что не успели его построить, как инженер сел в тюрьму: дом как-то подозрительно покосился, пришлось стены валить и ставить заново. Жильцы долго не могли спать спокойно: вдруг завалится?
Базары были во все дни, за исключением дождливых. Колхозники привозили свои «излишки», городские торговки – всякое барахло, от современных мешковатых, поношенных костюмов до изъеденных молью смокингов, антикварные вещи, книги, старые журналы, открытки с Верой Холодной и граммофоны с трубным гласом.
Был фотограф-моменталист (частник, с видами Кавказа и породистой фанерной лошадью. К лошади полагался всадник, обязательно в черкеске и с кинжалом).
В жару мальчуганы продавали воду – по пятаку за кружку. Если вода была со льдом, то и с соломой. Выпив, каждый старательно тряс кружку кверху дном: все пили из одной – люди свои, русские.
До самой войны внешне много еще оставалось от нэпа, но базарный дух был уже не тот. Больше покупали, чем продавали (основное отличие). Меньше стало нищих, почти перевелись мелкие воры, а крупные были незаметны. По вечерам молодежь танцевала в городском парке, но чаще пары ходили из конца в конец Красной улицы. Все грызли жареные подсолнечные семечки, шелуху сплевывали на тротуары. Это считалось «некультурным», но все же сплевывали.
Ничего особенного не было в городе Гирее, но была – плыла охватывающая его серебряной подковой – Кубань, широкая, полноводная река: двуглавым орлом слетает она с Эльбруса и двумя рукавами впадает в два моря – Черное и Азовское: берега ее – если не бескрайняя степь, то дубовые рощи, пески или камыши.
А за городом, с южного форштадта, стоит гора невысокая, но называется она – Кавказская. Это и есть начало Кавказа.
Поезд (Сочи – Ленинград), был единственным, в котором можно было проехать Москву без пересадки. Но какой же уважающий себя русский не остановится в Москве хоть на денек?
Вокзальная площадь встретила друзей обычным круглосуточным столпотворением, которое поражает многих, даже видавших виды иных столиц иного мира. Москва не больше других европейских столиц, но как железнодорожный узел она не знает себе равных, связывая тысячекилометровые пространства страны, едва успевая принять и отправить потоки грузов и людей.
Друзья были не из тех, которых поражает столица, но и они каждый раз, возвращаясь с каникул, после ласковой и мягкой тишины родного города слегка обалдевали в московской суматохе.
Был у них в Москве еще один одноклассник-земляк.
Студент Московского авиационного института (МАИ) Гриша Ивлев жил в общежитии недалеко от института, на «развилке» Ленинградского и Волоколамского шоссе. Здесь Москва кончается – пустырями и далеко разбросанными друг от друга новостройками. Недалеко отсюда – конечная станция метро второй очереди, «Сокол», стадион «Динамо», ресторан «Спорт» (бывший знаменитый «Яр») и газетно-журнальный комбинат «Правда».
Здесь же, недалеко от МАИ, открылся недорогой, преимущественно для студентов, ресторан «Сочи» – веселый деревянный домик с оградой, оплетенной повителью, и с пальмами в кадках. Здесь и работал, вернее – подрабатывал судомоем – Гриша Ивлев, будущий авиаконструктор.
Он был рад приезду гостей, знал, что приедут, ждал их. Вместе и вволю пообедали – подавал сам Ивлев. За бутылкой дешевого вина раздумывали, куда податься. Хотелось Дмитрию побывать всюду – и в Сокольниках, где жил Якушев, и в Центральном парке, и в Химках, и в «Аквариуме». Но Иван сказал одно слово: «Выставка», – и всем оно понравилось:
– Идет.
– Едем. Катнем.
– И кутнем.
Имелось в виду специальное «Выставочное» пиво, лучшее в Москве. Нигде, кроме Выставки, оно не продавалось.
По дороге пришлось использовать все виды прославленного московского транспорта: начали с метро, затем – на «перекладных» трамваях и автобусах, и, наконец, на двухэтажных троллейбусах. На втором этаже разрешается курить и пепел сбрасывать на головы прохожих. На пересадках пили пиво – жди, пока доберешься до «Выставочного».
Характер путешествия определил стиль культпохода.
Во-первых, на Выставку попали через забор (по заборной книжке). «Лишь бы не было собак», – сказал Иван. Собак не было.
Во-вторых, напились, наконец, «Выставочного».
В-третьих, поссорились. Ссора началась из-за того, что Ивлев, после всяких племенных коров (с доярками), коней (с конюхами) и мичуринских фруктов (с мичуринцами), вдруг воззрился, закинув голову, на монумент Сталина среди центральной аллеи.
– И этого… сюда… привели… поставили. Как племенного производителя, что ли? Чем же его тут, дьявола, кормят? Сенцом, что ли? А поят чем? Кровушкой нашей, наверно!..
Стоит ли говорить о том, что, в-четвертых, их выставили с Выставки. Благо до милиции не дошло. Это был один из последних дней сезона, москвичи валом валили на бесплатную раздачу редкостных фруктов, по этому поводу пьяных было много, на них не обращали внимания.
Сумерки застали компанию на гранитном берегу Московского моря, у Химкинского вокзала, славящегося своим рестораном, но зайти – уже не было денег. Ничего, зато выкупались, ныряя прямо с дебаркадера, и протрезвились.
Побывали на Тверском бульваре, в гостях у Пушкина. Поэт стоял, по-прежнему задумчиво, склонив немного набок свою самую умную, как сказал Николай I, в России голову, не смотря в сторону мрачного, серого дома «Известий». Но лик поэта при свете фонарей – его собственных, его телохранителей, отлитых из той же бронзы тем же Опекушиным, – казался печальней, чем днем.
– Главное, пройти около, – говорил Дмитрий, – и поздороваться, тогда я могу спокойно ехать. Он, уже почти ленинградец, т. е. человек, по гроб жизни не признающий первенства первопрестольной, – все же любил Москву, любил бывать в ней и зимой, и летом, бродить по бульварам и площадям.
Последний поезд на Ленинград отходил в 11.00. Дмитрий вбежал на платформу тоже в 11.00. – И вот снова стук колес, и снова замирает сердце в восторге от того, как много земли оставили нам наши предки и как прекрасна и необъятна эта земля!..
Поезд, хоть и не «Красная стрела», но летит стрелой по единственной в мире прямой дороге, натянутой между двумя столицами, как струна. Постепенно нарастает шум, как рокот прибоя, накатывающегося на прибрежный гравий.
Дмитрия томило какое-то предчувствие, хотя ничему «такому» он не привык верить. Почему-то, прощаясь, плакала мать, как будто в первый раз уезжает, и ведь не Бог весть куда. «Быть может, – думал он, – на этот раз я уезжаю из дому “всерьез и надолго”» (ему нравились эти слова Ленина о нэпе). Не предстоит ли что-нибудь великое и страшное, грандиозная катастрофа, трагедия, – и надо было еще больше, целиком и насквозь, пропитаться южным солнцем, веселым ветром и любовью к жизни, чтобы мужественно устоять во всех бедствиях и остаться самим собою.
Потом он уснул. Ему снились развалины каких-то замков и крепостей, пивные бочки, падающие с неба, шторм на море, зеленоглазая девочка с желтыми косичками, потом еще что-то – пока кто-то не крикнул у него над ухом:
– Херсон перед нами, господа неврастеники!
Поезд подходил к Ленинграду-Сортировочному, а перед Дмитрием стоял Саша Половский, лучший друг по институту, маленький, каштаново-курчавый, синеглазый минчанин. Он крепко скрестил руки на груди и смотрел в упор.
– Свинья – почему не писал?
– А ты?
– Я – другое дело. Я, может быть, был влюблен.
– Поздравляю. Вечно в кого-нибудь.
– Поздравь свою бабушку. Давай лучше лапу, да хоть посмотрю на тебя… Хорош гусь, нечего сказать. Кажется, ты еще способен расти, дубина стоеросовая? Загорел, черт. И глаза совсем какие-то голубые стали. И чуб на месте. Нос орлиный. Нет, зачем я сказал – гусь? Орел – это да. Курск опять же.
– А ты что розовенький такой, Саша?
– Да еще в Минске от стыда покраснел…
– За что же?
– Да за любовь свою. Ты же меня знаешь. Ну, никак не мог поцеловать. Так и уехал. А теперь – стыдно.
2. Встреча на диспуте
Кончилось лето, солнцем согрето, – по небу ползут тучи хмурой ленинградской осени. Срываются первые уверенные капли, чтобы вскоре повиснуть – с утра до вечера – «мелкой сеткой дождя». И это над бескрайним, рвущимся вверх колокольнями и золотыми шпилями дворцов городом! Стыд и срам «этой скудной природы» русского Севера – ограниченное, тупое, глухое небо. Но все равно, это небо родины, под ним рождались и умирали замечательные люди.
31 августа торжественно были закрыты петергофские фонтаны. Теперь фонтаны будут лить с неба.
На следующий день начались занятия в университете, академиях, институтах, училищах и школах.
Что делает студент, возвращаясь в институт после каникул? Прежде всего, как серьезный мужик – хозяйство, он заводит конспекты лекций. Дмитрий старательно вывел на обложках: «История народов СССР», «Западноевропейская литература», «Экономическая география СССР», «Древняя русская литература» – все это церковно-славянской вязью с завитушками.
Уж так повелось, что первые месяцы, до Нового года уходили в учебу: ни одна лекция не пропускалась; потом уходили в себя, т. е. ничего не делали. Правда, Саша Павловский никогда из себя не выходил, писал стихи и читал переводные романы западных и американских писателей. Когда же наступала зачетная сессия, рвали и метали: рвали свои конспекты, метались в поисках чужих, бегали по библиотекам, просиживали над книгами ночи напролет. Результаты экзаменов соответствовали стихийным методам подготовки: иногда были блестящие, но чаще – «скользящие», еле-еле средние.
Первый год учебы и жизни в Ленинграде они назвали культпоходным: экскурсии в музеи, парки, дворцовые пригороды организовывали, помимо института, сами. Второй год был спортивно-биллиардным, причем последний вид спорта грозил стать самым продолжительным и пагубным пороком, не случись крупного проигрыша с дракой.
– С тех пор как отрубило, – рассказывал Саша отцу, хорошему своему приятелю, старому бухгалтеру фабрики «Красная нить», – и рубил ладонью воздух перед его сизым носом.
– Каким будет этот год, – сказал Саша Дмитрию, – мы, конечно, не можем знать (было бы что жрать), но мне бы хотелось, чтобы – театральным. По-настоящему, не как раньше, от случая к случаю, а планово-календарно. Планово-экономически.
– Вот найдем работу, хотя бы на 2–3 дня в неделю, – мечтал Дмитрий, – тогда заживем: все театры обойдем.
Работу найти было нелегко, хотя предприятия охотно брали студентов, зная их бедственное положение, но всех не возьмешь – их сотни тысяч!
Саша, никогда не откладывавший на завтра то, что завтра он вряд ли сделает, сразу же после этого разговора заказал билеты на концерт артистов московского Малого театра.
Но этот год не стал для Саши ни театральным, ни учебным. Пришла телеграмма из Минска о смерти отца…
Многие из провожавших девушек чуть не плакали, думая, что в последний раз видят влюбчивого Сашу.
В институте он был знаменит. Во время студенческих волнений, вызванных тем, что правительство, «учитывая рост материального благосостояния трудящихся», решило отнять стипендии у студентов и тем самым «покривить» конституцией, Саша зарифмовал это позорно фальшивое слово с другим, откровенно позорным: проституция. Рифма была не ахти какая, но в такие моменты взволнованным массам только это и нужно. Били стекла в общежитиях, кричали, кто во что горазд, и, конечно, пели песни. Сашу подняли на щит. Поносили, да и бросили – прямо в лапы НКВД. Самым обидным было то, что дебош он устроил в компании чужих студентов, а донесли свои. Пока он сидел, многие дрожали – от директора до дворника, который, выпив, согласен был с Сашей:
– Оно, конешно, хворменная простипуция.
Но Саша никого не впутал, ото всего «отбрехался», вышел через три месяца бледным, пухленьким и веселым. Больше всего он был доволен тем, что «сидел в одной тюрьме с Лениным», на Шпалерной.
Директор института, старый революционер-публицист, знавал и Ленина, и Шпалерную. Он полюбил Сашу за его удачное сиденье. Это он дал ему денег на дорогу и обещал что-то придумать.
Дмитрий, оставшись один, заскучал. Студенты редко бывали дома. Одни работали, другие, как и он сам, искали работу – на это официально давалась одна треть учебного времени, но фактически пропускалось больше.
На курсе и в общежитии все ребята были хорошие, но кто-то же предал Сашу? Для Дмитрия, как и для многих, юных и доверчивых, это был первый удар в жизни.
В Доме писателя начался долгожданный – лет шесть не было – диспут о советской поэзии. Съехались почти все крупнейшие поэты и критики страны.
Вход на диспут был свободный, но мест не хватало. Жильцы общежитской комнаты, в которой третий год жил Дмитрий, были дружными. Один обычно ехал раньше и занимал места для остальных трех. Сашина кровать осталась пустой.
Все трое – были поэтами. Какие они писали стихи, никто не знал, кроме них самих. Выпив, они нараспев, с подвывом, читали стихи, дружно хвалили друг друга, на остальных смотрели свысока. Алкаева любили за то, что не писал стихов. Печатались они, укрываясь за псевдонимами, по принципу местничества: Сеня Рудин с Северного Кавказа (он же Рудокоп) – в «Орджоникид-зевской правде»; Ваня Чубук («Василько»), полтавчанин, – в «Полтавской правде»; сибиряк Володя Басов (в просторечьи и литературе – Бас) – в трех «Правдах» сразу: Хабаровской, Омской и Новосибирской. «Ну, и “правд” развелось, – говаривал он, – боюсь, как бы меня не пропечатали в “Колымской правде”».
Студенты с партийным стажем, комсомольские активисты и маменькины сынки недолюбливали трех «басенят», называли их кудреватыми Митрейками.
- «Кудреватые Митрейки,
- Митреватые Кудрейки —
- Кто их, к черту, разберет!» —
писал жестоко-злоязычный Маяковский о поэтах-лириках Кудрейко и Митрейко. Так он «репрессировал» многих поэтов и писателей, например, талантливого П. Доронина. Все эти поэты умолкли сами, или их перестали печатать, или посадили. Некоторые из них остались живы и пришли на диспут. Молча сидели они, постаревшие, хлебнувшие, видно, горя и опустившиеся.
«Агитатор, горлан-главарь», их гонитель, давно уже был в могиле, сам не выдержав переменного, как в электрическом токе, напряжения новой эры, которую он так искренне и талантливо воспевал и приветствовал.
Молча сидела за двадцать лет не напечатавшая ни строки поэтесса, прекраснейшая женщина Северной Пальмиры. Муж ее был расстрелян, сын сослан, ее считали тоже погибшей. А она жила. Молчала. Ждала. Чего? Кто знает? Чего мы все иногда ждем? Какого-нибудь легкого толчка или тяжелого удара, мимолетного передвижения чувств, как облаков в небе, или великого обвала…
Поэзия есть во всем: и в хорошей прозе, и в Николаевском мосту, и в шпиле Адмиралтейства, и в мичуринском яблоке. И меньше всего ее в плохих стихах. О них и шла речь на диспуте, который удался на славу, если не считать, что поэты обязательно должны были переругаться между собой и с критиками. Под высокими сводами старинного белого зала висела сплошная ругань. Реплики «дурак», «сам идиот» – никого не удивляли и не огорчали. Наоборот, радовали. Это же была хоть какая-то свобода слова.
В президиуме, как на Олимпе, в облаках дыма сидели маститые – лысые или седые.
Читать свои стихи никому не разрешалось, чтобы диспут не постигло «стихийное бедствие». Некоторых, пытавшихся протащить свое в виде цитат, стаскивали с трибуны за фалды, если не фраков, то все же приличных пиджаков.
И только в последний, десятый день диспута кто-то из критиков вспомнил, что диспут должен был проходить «под знаком Маяковского» – и ни слова о нем.
– Почему же, – возразил один молодой поэт, – хоть под знаком Зодиака – не все ли равно?
– Лучше под знаком любви, – крикнул Бас (басом), – любовь – это сердцевина сердца.
У того, кто вспомнил о Маяковском, спросили, что он писал о «водовозе Революции» раньше.
– Что он водовоз, – ответили с галерки, – и вообще, уважаемый, кто ваши родители и чем они занимались до 17-го года? (Смех).
Посетила диспут еще одна женщина, красавица, причастная к литературе только потому, что большой поэт имел несчастье ее любить любовью «пограндиознее онегинской». Сплетничали, что за ней ухаживал, в ореоле своей славы, моложавый маршал Тухачевский.
- «…Их и по сегодня много ходит,
- всяческих охотников до наших жен…»
А еще была на диспуте одна девушка, которая до сих пор не имела никакого отношения к литературе, а если и будет иметь, то лишь по тому месту, какое она займет среди героев этого повествования.
Окололитературных барышень было полно, но другой такой не было.
– Это не поэтесса, – сразу определил Бас, – это сама Поэзия.
– А сложена… – шептал Сеня Рудин.
– А опять же глаза, глаза – зеленоватости озерной, – почти стихами бормотал Вася Чубук.
Посматривали на нее и с Олимпа умеющие «пленяться со знанием дела». Но всех очарованней глядел Дмитрий. Что-то смутно знакомое, родное и близкое было в ней.
В антракте она прошла мимо переругавшихся между собой кудреек (они и в самом деле были весьма кудлаты и лохматы, недаром дворник называл их дворняжками), взглянула на Дмитрия – не мимоходом, не вскользь, а серьезно и даже недружелюбно. Тон, с которым она к нему обратилась минутой позже, круто повернувшись, шелестя рубцами плиссированной юбки, вполне соответствовал выражению ее больших, хотя и суженных прищуром, глаз:
– Не вы ли – Дмитрий Алкаев?
– Д-д-а, я.
– Я потеряла целый день, чтобы вас найти. Была и в вашем институте, и в общежитии, наконец, приехала сюда, в это сборище явно ненормальных людей.
Кудрейки, сделав вид, что ничего не слышат, разошлись в разные стороны, чтобы сойтись у буфета для обсуждения новой поэтической темы.
Помолчав немного, она продолжала, видимо, довольная его заиканием:
– Я – Тоня Черская. Не путать с Чарской. Устала, пока вас нашла. Потому и сердита. Не обижайтесь. Помните меня?
– Д-да, к-конечно, как же.
– Мы же вместе учились в Гирее, до 5-го класса. Потом нас раскулачили, т. е. отобрали магазин. Отца отправили в Сибирь, а мы с мамой после долгих мытарств попали в Ленинград, к сестре. В этом году по одному делу я была с мамой в Гирее. Она там и осталась. Там я и узнала, что вы учитесь в Ленинграде, адрес взяла у вашей мамы…
Все вспомнил Дмитрий… Очереди за хлебом, кукурузным и сырым. Старшие братья, приходя из школы, по очереди толкут в ступе просо. Просо привозит из своих командировок отец. Но главное – мать. Она умеет варить борщ из лебеды, печь просяные лепешки на сухой сковороде и даже котенку выгадывать какие-то крохи. Котенок все-таки сдох. Старший брат был огорчен больше всех:
– Жрать нечего, а мы позволяем сдохнуть почти взрослому коту тигровой масти. Теперь попробуй, съешь его. Эх вы, гуманисты! (Последнее относилось к матери).
У матери опухли ноги, она с трудом ходит на базар, где уже ничего не продают, только меняют.
Детей не выпускали на улицу после пяти вечера. Да и взрослые не особенно разгуливали. Ходили слухи о людоедстве. По ночам скрипели телеги – собирали и увозили трупы. Трупы были – как плоды, подточенные червем. Ночью их соберут – утром нападают снова – плоды новой, после нэпа, политики. Со всех опустошенных станиц крестьяне тянулись в города, крупный железнодорожный центр. Железнодорожники – все же привилегированная каста, куда-то ездят, что-то привозят.
В школе в каждом классе – опухшие дети. Им дают бесплатный горячий завтрак – во время большой перемены. Все ходят подстриженные под машинку. Раз в неделю раздевают наголо: ищут вшей.
Веселая худенькая Тоня, дочь лавочника, перестала ходить в школу. В лавочке открыли кооператив: гвозди, лопаты, скобяной товар – железо.
Дети учили наизусть стихи:
- «Поп – крестом, кулак – обрезом,
- Мы – колхозом и железом».
Или:
- «Днем, и ночью бегут паровозы,
- И упругие рельсы гудят,
- Городам говорят про колхозы,
- А деревне про город твердят».
…Они два года сидели за одной партой, изредка вежливо дрались. Учились хорошо.
– Любишь ли ты меня? – спросила она однажды.
– Да, но ты же не мама, – ответил он.
Родные ходили друг к другу в гости. В Тонином доме был рояль. Она умела тыкать в клавиши, пока одним пальцем. Никто ее не учил. Не до того было.
Брат-студент спрашивал:
– Если Тоня тонет, что делает ее кавалер Митя?
– Он плачет, – говорил отец.
– Дурак, надо спасать, тащить за косички, – советовал брат.
А Митя и в самом деле плакал. Надоели насмешки.
И когда Тоня уехала, он был даже рад…
Рад ли он был теперь этой встрече – через столько лет, среди самых замечательных, хотя и «ненормальных», русских людей? Он не знал. Но руки его, когда он помогал ей надеть пальто, дрожали.
«Любовная дрожь а-ля мадам Вербицкая», – подумал с досадой, но глядел на нее по-прежнему всех зачарованней – на девушку, пришедшую из детства.
3. Все о том же
Год и в самом деле обещал быть театральным. Тоня выкупила билеты, заказанные Сашей.
– Вот я буду вместо Саши – он был твой лучший друг? И я буду. Ведь мы же одни здесь с тобой, землячок…
Она училась на 3-м курсе ларингологического (болезни уха, горла и носа) института. Почему она поступила в этот институт – и сама как следует не знала. Но училась хорошо. Два года была отличницей, хотя в стипендии не особенно нуждалась: жила у «сестры за пазухой», а сестра – у своего мужа, молодого генерала, крупного штабиста. Это он выхлопотал амнистию отцу, и дом их на Кубани приказано было снова отдать им «на вечное пользование». Но отец приехал с дальневосточным экспрессом едва живым и вскоре умер. Дом почти развалился. Ради него и ездили этим летом в Гирей: Тоня – чтоб только посмотреть, сердцем прикоснуться, мать – с твердым намерением больше не расставаться. Получив от генерала деньги на ремонт, она осталась в Гирее, но взяла с Тони слово приехать будущим летом.
– Ты здесь родилась, – сказала она, – люби свой дом. Что родина без родного дома? Ты не помнишь, как мы скитались, пока добрались до Ленинграда…
Тоня забыла о том тяжелом и страшном, что было в детстве. Она росла избалованной и капризной, инстинктивно с лихвой требуя от жизни то, что раньше было отнято. Генерал души в ней не чаял.
Ленинградские дети – организованные. Они с пеленок знают, что такое колыбель революции, «Аврора», Зимний, Смольный. Аничков дворец был отдан им – там они строили или ломали: строили из себя строителей социализма, чтобы всю жизнь потом ломать над ним голову.
Очень долго Тоня думала, что город Ленинград построен Лениным, пока генерал довольно сердито не объяснил ей, что не Лениным, а Петром Великим. Генерал не пропускал ни одной премьеры, ни в опере, ни в драме. Если он брал ложу, то брал с собой и Тоню. Театр был духовной отдушиной для интеллигенции Северной столицы, которая сама еще не так давно была отдушиной всей России.
…У подъезда Дома искусств им. Станиславского – одна афиша с перечислением десятка артистов московского Малого театра, сверхзаслуженных, орденоносцев, другая – написана от руки саженными буквами: «Игорь Ильинский».
Все знают Ильинского – босяка, жулика и проходимца по фильмам эпохи нэпа, знаменит Ильинский – Хлестаков, не имевший дублера, но мало кто знал Ильинского-чтеца.
Тоня так хлопала в ладоши – распухли, и велела Дмитрию целовать их после каждого «номера».
– Неудобно при всех, – ворчал, но целовал.
А Ильинский присвистывал, причмокивал, садился верхом на стул, как на козлы, дрожал всем телом и голосом: насмерть перепуганный чиновник из чеховского рассказа «Напугал».
Лучший комик России брал от публики все, что она могла дать: восторженное внимание, подражание почти раболепное, когда один знаменитый прищур глаза заставляет щуриться сотни глаз. Это не бокс и не борьба, вызывающие судорожные движения зрителей – тоже подражание – рефлекс физический, – но ток высокого творческого напряжения.
В самом разгаре сезона, когда премьеры балета «Кавказский пленник», оперы «В бурю», лермонтовского «Маскарада» и не сходящий со сцены «Отелло» (со знаменитым артистом Ваграмом Папазяном, вернувшимся из эмиграции), – были позади, а впереди приближалась экзаменационная сессия, Дмитрий понял, что он влюблен.
Любовь? Она приходила и уходила уже не раз. Попробуй, разберись, когда она была – или будет – настоящая? «Все минет, а любовь останется». Вот та и будет – любовь, что останется. Пусть не сразу, с колебаниями, с сомнениями, с разлуками, похожими на «никогда», но уж если останется, то навсегда. Тоня? Но она же родная, девочка с желтыми косичками, а теперь – друг-приятель, говори о чем хочешь, всем делись, верь, как сестре. Но чтобы это была любовь – нет, ему не верилось. Ему казалось, что такая любовь похожа на повторение детской шалости – милой и далекой. И все же…
Они стали встречаться почти каждый день. Занятия были заброшены.
В институте устраивались встречи с известными писателями. Тоне нравились только писатели-старики: «Спешу видеть, – пока живы». Видели Пришвина, Сергеева-Ценского, Шишкова, Соколова-Микитова. Генерал Игнатьев, автор интересных мемуаров «50 лет в строю», не понравился: вид у него был цветущий, говорил, как Тоне показалось, «чересчур по-русски». И совсем неприятно поразил Новиков-Прибой: вышел на сцену так браво, рассказывал о себе таким звонким, молодым голосом.
– Лучше бы пошли на другого, который в лектории выступает (имелся в виду Телешов), – упрекала она Дмитрия, – тот, наверно, куда дряхлее.
Бывали дни, когда у обоих не было денег. Тогда сидели дома у Тони, в генеральской квартире, играли с хозяином в карты («подкидной дурак») или в «балду». Кто помнит предвоенный Ленинград, эту уже уходящую эпоху, тот знает игру, которой студенты заразили весь город. Это были дни, когда весь город «балдел»: играли в трамваях, в учреждениях, на лекциях.
Генерал с генеральшей обычно «балдели», а Дмитрий и Тоня оставались «в дураках». Чтобы не очутиться в таком положении и на экзаменах, решено было взяться за ум – за чужой ум, обессмерченный в книгах.
У Дмитрия первым шел экзамен по русскому языку – самый страшный для всех студенческих народов, населяющих Россию (разумеется, и русских). Надо знать всего Пешковского (говорили: «Пешковский – Печковский», имея в виду знаменитого певца); всего Даля, не говоря уже о Шапиро. По поводу него ходило изречение Ильи Ильфа: «Все, что вы написали, пишете или собираетесь написать, давно уже написано Ольгой Шапиро, работницей Киевской синодальной типографии».
Настал такой день, когда Тоня не приехала на свидание. «Мы с вами, мистер, больше не знакомы, – написала она, – до конца сессии. Желаю удачи».
Удача была. На «попугаевом билетике» Дмитрию достались местоимения. Он перечислил их, и все, что о них было сказано знаменитейшими грамматиками, и процитировал – насыщенные местоимения – строки одного из самых любимых стихотворений Блока:
- Твое лицо, в его простой оправе,
- Своей рукой убрал я со стола.
Зубрили всей комнатой, вырывая друг у друга конспекты старшекурсников. Любили сидеть на подоконниках, в умывалке, в коридорах, на лестницах – везде, лишь бы не за столом надоевшей за зиму «конюшни». Но больше всего грелись на скупом еще солнышке у дебаркадеров старинного и единственного в городе грязного Обводного канала. Ему, по аналогии с Беломорско-Балтийским, студенты присвоили имя Сталина.
Но в самые напряженные дни сессии, посередине между Кратким курсом истории ВКП(б) и долгим курсом истории России, Дмитрий получил письмо: «Не стыдно ли забывать свою первую, чистую детскую любовь? Я уже сдала ухо и горло, остался нос. Если ты не придешь хоть на один день или сутки, то останешься с носом. А я, черт с ним, его провалю и буду читать вашего Гоголя. Ждем: город Пушкин, Пушкинская улица 34, и я».
Дмитрий, вытащил у храпящего Баса из-под головы конспекты, с радостью пошел «пёхом» на Витебский вокзал. Казалось, что экзаменационная сессия была экзаменом и для их любви.
С замирающим сердцем вышел с Царскосельского вокзала. Вот Пушкинский лицей и столетний парк с вечнозелеными аллеями и вечно первыми грачами. На Пушкинской улице быстро нашел «дом номер 34». Это был обычный для роскошных пригородов небольшой особняк с копьеносной оградой и голубыми «мавзолей-скими» елочками.
Встретила немецкая овчарка – молча, вежливо. Она была спокойная, вышколенная, выхоленная, как сам хозяин-генерал. Генерала не было. Казалось, никого не было дома. Пес улегся на паркете, а гость сел на диван. И уснул.
Проснулся от легкого и мимолетного, как касание ласточкиного крыла, поцелуя. Тоня склонилась над ним – радостная.
– Милый, как хорошо, что ты приехал.
– Прости, что уснул. Сама знаешь, сколько ночей не спал.
– А я загадала: если не приедет, тогда все.
– А если приедет?
– Тогда тоже все.
Почти так и было: почти все.
Они были одни. Даже кухарка и ее муж, «кухарь», инвалид финской кампании, были отпущены в Ленинград.
Пообедали кое-как. Яичница (все, что умела делать), соленые огурцы, водка.
Тоня была в городском русском сарафане – он идет только русским женщинам, – смело декольтированном, легко и плотно охватывающем широкие бедра. Походила скорее на московскую боярышню, чем на казачку. И все ей шло: и ленивая походка, и медлительные, с поволокой, глаза, и манера говорить небрежно, как попало спрягая и распрягая глаголы и вообще всякие слова. Они неслись лихими тройками или цугом, а то и целым табуном.
– Вот, если устал, полежал бы, почитал бы что-нибудь. Вслух. А я слушаю.
У генерала была небольшая библиотека, но нашлась в ней замечательная книга, с любовью изданная, – «Избранные рассказы» Александра Грина.
Запершись в генеральской спальне, они читали до ночи.
– Ах, как он любил, – шептала, почти засыпая, Тоня, – через столько лет, столько мук и так далее, вернуться, встретиться с ней. Ведь мог бы стать идиотом, живым трупом, зверем, кем хочешь? А он – пришел. Здоровый, чистый, благородный. Мог бы ты так любить? Любишь ли ты меня?
– Мне кажется, что ты мне снишься, – сказал он, – ты, эти ковры, сабли на стенах и прочие оленьи рога. Главное – рога. И эта книга – аромат далеких стран… Чистой, далекой и такой близкой… Можно тебя поцеловать?
– Потом.
– …любви, любви сновидений. И вот я вижу: на широкой улице, на знакомой улице стоит девочка, окутанная солнцем, и таращит зеленые глазки, спрашивает меня…
– Да, и теперь снова требую ответа. И прошу не думать при этом о своей матери.
– Хорошо. Ни о матери, ни о родине-матери. Хотел бы я, чтобы ответом моим была вся моя жизнь.
Они целовались долго. Пес сначала вздрагивал, потом ему надоело и он уснул.
– Меня многие целовали, – призналась она. – Не ты первый, но ты будешь последний. Хочешь?
Уткнувшись носом в подушку, он прошептал:
– Я хочу, чтобы ты была со мной всю ночь.
– Я же и так с тобой. А, хорошо. Я понимаю. Я останусь. Но даешь честное слово?
– Ты о чем это?
– Все о том. же: о чистой любви.
– Ладно.
– Подвинься же, – попросила она, и они рассмеялись: будто это было не в первый раз.
Прижимаясь, она шептала:
– Мне кажется, что всю жизнь тебя люблю. Ведь когда мы уезжали, я спрашивала: а его, Митьку, не раскулачили? Они не поедут с нами? Мне было твердо обещано, уже здесь, что тебя тоже раскулачат и что ты приедешь. И вот ты приехал. Ты пришел снова – в мою жизнь. Только не целуй меня так шибко. Я не люблю так. Я хочу – нежно, долго, тихонько. Я не страстная, наверное.
Потом она встала, чтобы выгнать овчарку стеречь дом. И через минуту в двери соседней спальни щелкнул замок. Дмитрий остался один.
Под утро радостно взвизгнула собака во дворе. Неожиданно приехал генерал. Дмитрию пришлось переселиться на диван.
– Опровержение ТАСС: некоторые иностранные агентства лгут, что немцы сосредотачивают свои войска на нашей границе, – сообщил генерал. – Раз ТАСС опровергает, значит, быть посему.
– Вы думаете – война? – спросил Дмитрий.
– Да.
– А мне наплевать, – сказала Тоня, – на это у нас есть генералы, всегда приезжающие невовремя.
Генерал качал головой, поджав губы. Он не мог понять, почему не верят, не хотят верить тревожным сообщениям, поступающим со всех сторон. Никто, кроме немцев, не хочет войны. Военные атташе Америки, Англии, Франции считают своим долгом предупредить Сталина. Свои агенты не зевают тоже. Но Сталин никому не верит. Он подсчитал силы. Только сумасшедшие могут решиться напасть на Россию. О сокрушительной силе неожиданного удара он не подумал. Как Гитлер не учел, что этот удар не будет длиться вечно.
Оба ошиблись. Но проиграл только один. А пострадал больше всех русский народ. Немецкий отделался легко.
4. Лебединая песня фонтанов
С Финского залива дул теплый ветер. Каждой весной, вместе с птицами, прилетает этот свободный ветер – дух Европы. Нева смело ломала ледяные устои зимы и последние студеные ее куски быстро сплавляла в Европу: получай, мол, русский сахар.
Студенты, встречаясь, поздравляли друг друга:
– Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Спешите видеть осколки разбитого вдребезги.
– Сами вы осколки, – ворчали старики на набережной, но на них не обращали внимания. С боем брали первые катера, за два рубля катающие по Неве от Зимнего на Елагин остров.
Какой-нибудь крейсер медленно входил в Неву, ошвартовывался у набережной Лейтенанта Шмидта – и всюду мелькали голубые ленточки матросок.
Скоро притащится и старуха «Аврора», станет на своем историческом месте, откуда она из жерла носовой пушчонки возвестила «новую зарю человечества». Теперь это жалкий крейсерок, объект экскурсий, а больше насмешек даже ленинградских пионеров, тонко разбирающихся в классификации современных судов. Устарела «Аврора», поблекли краски, когда-то свежие и яркие, «зари человечества», устарели вожди революции, а многие умерли – если не сами, так с помощью своих товарищей.