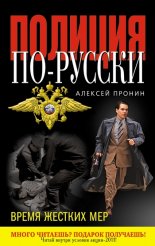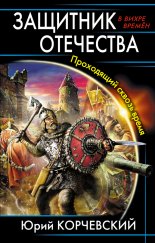Пляска смерти Стриндберг Август
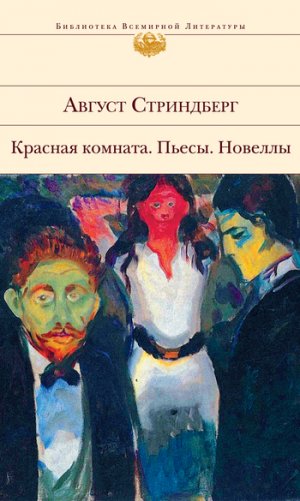
Но сперва он заставил кончить меня, и я оторвалась от него ртом, чтобы не сильно искусать, отвернулась в сторону и закричала. Ногами обхватила его, сцепила ноги у него на заднице, притянула его к себе, не давая ему того ритма, что он хотел.
Он приподнялся на руках и коленях, я прилипла к нему спереди, и он подполз, волоча меня за собой, к изголовью, одной рукой поддержал меня под зад, другой схватился за спинку кровати, приподнял меня и прислонил к спинке. Голос его прозвучал придушенным шепотом:
– Хочу еще подвигаться.
И он вдвигался в меня и выходил, снова, снова и снова, а я цеплялась за него руками и ногами. Он снова довел меня до оргазма, и снова, и еще раз, и тогда попросил:
– Пожалуйста, пожалуйста…
Иногда он любил просить, пока я не соглашусь, но сегодня вряд ли кто из нас мог долго выдержать. Я шепнула в сладкий запах его шеи:
– Давай, давай, давай, в меня, кончай, прошу тебя!
Он перестал ловить ритм и вломился в меня изо всей силы, снова заставив кончить, я впилась ногтями в плечи ему и в спину, и наконец он вошел до упора, остался там на миг, на вечность, потом рухнул на колени, а я все еще цеплялась за него.
Мы были скользкие от пота, крови, еще много чего. Натэниел цеплялся руками за спинку кровати, сердце билось так, что это было видно.
– Ух ты, вот это было да! – сказал он, запыхавшись, и голос был почти что не его, еще не вернулся к нему.
Я попыталась согласиться, но не было голоса. Губы забыли, как выговаривать слова, и глаза тоже не хотели работать. Мир заволокла дымка, будто его в вату завернули.
– Анита, – позвал Мика. – Ты как?
Я сумела поднять большой палец – больше ничего. Не в первый раз Мика и Натэниел затрахивали меня до потери речи.
– Черт побери, – сказал Мика. – Я боялся, что втроем мы тебя затрахаем до потери сознания.
В голосе его была добродушная насмешка.
Только с третьего раза я смогла сказать:
– Для этого вас нужно больше.
Мика наклонился ко мне, поцеловал в щеку:
– Это можно устроить.
Я сумела прошептать:
– Не сегодня.
Он снова поцеловал меня в щеку:
– Не сегодня. – И обернулся к Натэниелу: – Тебе помощь нужна?
Натэниел без слов кивнул.
Мика и Жан-Клод помогли нам разъединиться, потом пошли в ванную отмываться. Мы с Натэниелом еще не могли пока сползти с кровати. Лежали бок о бок, касаясь друг друга, но не обнимаясь. Для этого нас еще мышцы недостаточно слушались.
– О Боже, Анита, я люблю тебя, – сказал он, все еще тяжело дыша.
– И я тебя люблю, Натэниел, – сказала я. И так оно и было.
Глава двадцать первая
Я думала, что Мика может возразить, чтобы Жан-Клод лез в постель голым, как остальные, но он промолчал. Если бы к моей голой спине прильнула другая девушка, тоже голая, я могла бы и возразить, но с Микой всегда проще, чем со мной. Ну, должен же быть кто-то, с кем проще?
Я уснула, как всегда, свернувшись вокруг Натэниела; теплый изгиб его зада уютно уткнулся мне в живот, одна рука сверху, чтобы можно было коснуться его волос, другая обнимает его за талию или, может, чуть ниже. Мика свернулся у меня за спиной, почти точно повторяя мою позу, только рука не обнимает меня, а протянута дальше, так что Натэниела он тоже может коснуться. Жан-Клод прижался к Мике, как бывало раньше, и руку на него закинул, касаясь меня. Его ладонь легла мне на бок, и я убрала руку с талии Натэниела, чтобы касаться руки Жан-Клода. Близился рассвет, и эта теплая рука недолго останется теплой или живой. Вампиры остывают куда быстрее умерших людей. Не знаю, почему, но это так.
Так что я наслаждалась теплым изгибом, пока еще можно было. Натэниел притиснулся ко мне ближе, будто хотел задом продавить меня до Мики, но я не возразила. Мне нравится, когда тесно. Кроме того, я знала, что ему не хватает моей руки у него на талии. Сейчас я играла пальцами с волосками на руке Жан-Клода, теребя их слегка, водя по коже. Это ощущение заставило меня даже слегка пожалеть, что не ко мне он сейчас прижат.
Я заснула в теплом гнезде из тел и шелковых простыней. Бывали ночи и похуже.
Проснулась я внезапно, в угольной темноте, и сердце колотилось в горле. Что меня разбудило – не знаю, но что-то нехорошее. Лежа между Микой и Натэниелом, я оглядела комнату в тусклом свете, льющемся из полуоткрытой двери ванной. Жан-Клод оставлял этот свет для нас, когда мы здесь ночевали. Комната казалась пустой, так чего же у меня сердце так колотится? Плохой сон приснился, наверное.
Лежа среди мужчин, я напрягала слух, но слышала только их теплое дыхание. Рука Жан-Клода лежала на теле Мики, но уже не была теплой. Рассвет пришел и ушел и снова забрал у меня Жан-Клода.
И тут я увидела тень. Тень, сидящую в ногах кровати. Если посмотреть прямо, то ее не было, но уголком глаза можно было ее заметить: чернота, начинавшая принимать форму, и наконец стали заметны темные очертания женщины, сидящей на кровати. Что за черт?
Я встряхнула руку Мики, пытаясь его разбудить, но это не помогло. Я стала расталкивать Натэниела – опять ничего. Даже дыхание их не изменилось. Что такое творится?
Я не могла их разбудить. Я сплю и вижу сон?
Я решила закричать. Если это сон, то неважно, а если нет, то придут Клодия и охранники. Но стоило мне набрать воздуху, в голове у меня прозвучал голос:
– Не кричи, некромантка.
Дыхание перехватило, как от удара под ложечку. Я только сумела прошептать:
– Кто ты?
– Хорошо. Это воплощение тебя не пугает. Я так и думала.
– Кто ты та…
И тут я унюхала этот запах: ночь. Ночь за дверьми, ночь где-то в теплом и тихом месте, где пахнет жасмином. И я поняла, кто это. Наименее грубое прозвище из всех, что дали ей вампиры, было «Марми Нуар». Это была Мать Всей Тьмы, первый в мире вампир и глава их совета, хотя сейчас она находилась в спячке – или в коме – уже больше тысячи лет. В последний раз я видела ее во сне, и она была огромна, как океан, черна, как межзвездное пространство. И боялась я ее до судорог.
Тень улыбнулась – по крайней мере, такое у меня возникло ощущение.
– Хорошо.
Я попыталась сесть, а мужчины даже не шевельнулись во сне. Это сон или, черт побери, явь? Если явь, то мы в глубокой, глубокой заднице. Если же сон – что ж, в мои сны, случалось, уже вторгались мощные вампиры.
Я прижалась спиной к спинке кровати – она была настоящая, твердая. Но мне не нравилось сидеть перед этой гостьей в голом виде. Мне хотелось хотя бы надеть халат – и этой мысли оказалось достаточно, вдруг на мне образовался белый шелковый халат. Значит, сон, потому что я смогла его надеть. Сон – это хорошо. Всего лишь сон. Но ком, свернувшийся под ложечкой, мне не верил. Да и я сама только старалась верить.
Перебрав несколько вопросов, которые хотелось задать этой тени, я выбрала такой:
– Зачем ты здесь?
– Ты меня интересуешь.
Хм, если дьявол вдруг проявляет к тебе личный интерес, это не радует.
– Я постараюсь быть менее интересной.
– Я почти проснулась.
У меня вдруг все похолодело с головы до ног.
– Я чувствую твой страх, некромантка.
Я судорожно сглотнула слюну, и не могла заставить голос звучать без дрожи:
– Зачем ты здесь, Марми Нуар?
– Мне нужно, чтобы после столь долгого сна меня кто-то пробудил.
– Что?!
– Может быть, ты.
Я уставилась на нее, сдвинув брови:
– Не понимаю.
Тень стала более плотной, и наконец превратилась в женскую фигуру в черном плаще. Почти было видно ее лицо – почти, и я знала, что не хочу его видеть. Увидеть лицо тьмы – значит умереть.
– Жан-Клод до сих пор не сделал тебя своей, не перешагнул последней черты. Пока это не сделано, некто более сильный может взять то, что принадлежит ему, и сделать своим.
– Я привязана к одному вампиру, – сказала я.
– Да, у тебя есть слуга-вампир, но это не закрывает другую дверь.
Вдруг она оказалась у меня в ногах. Я подобрала ноги под себя, поднялась выше по кровати. Это был сон, всего лишь сон, и она ничего плохого сделать мне не может. Только я в это не верила.
Тень растопырила пальцы, и рука ее была вырезана из тьмы.
– Я думала, в этом обличье не буду страшной, но ты шарахаешься от меня. Я кучу энергии трачу, чтобы говорить с тобой во сне, а не вторгаться в твои мысли, а ты все равно боишься. – Она вздохнула, и вздох пронесся по комнате. – Может, я разучилась этому фокусу – быть человеком, и даже притворяться не могу. И тогда и стараться не надо, как ты, некромантка, думаешь? Тебе показаться в истинном виде?
– Это вопрос-ловушка? – спросила я и ощутила, а не увидела – ее лица все еще не было видно, – как она недоуменно сдвинула брови. – Я имею в виду, что ведь хорошего ответа нет? Вряд ли хорошо было бы увидеть тебя в истинном облике, но и чтобы ты изображала передо мной человека, мне тоже не хочется.
– Так чего же тебе хочется?
Хотелось мне, чтобы Жан-Клод проснулся и ответил на этот вопрос. Вслух я сказала:
– Я не знаю, как на это ответить.
– Знаешь, знаешь. Люди всегда чего-нибудь хотят.
– Чтобы ты ушла.
Я ощутила, что она улыбается.
– Это ведь не помогает?
– Я не знаю, что должно помочь.
Руками я охватила колени, потому что мне не хотелось, чтобы она касалась меня, даже во сне.
Она стояла посередине кровати, и тут я поняла, что не совсем так: она стояла, но при этом росла, тянулась вверх, вверх, как язык черного пламени. Свет отражался от нее, как от воды или блестящего камня. Как можно одновременно блестеть и не давать света? Отражать свет и поглощать его?
– Если ты все равно меня боишься, так зачем притворяться? – Голос ее отдавался в комнате шелестом ветра, и чудилось в этом ветре обещание дождя. – Пусть между нами будет правда, некромантка.
И она исчезла… нет, она стала темнотой. Она стала той темнотой, что была в комнате. Повисла в ней, и эта темнота обладала весом и знанием. А я была как любой человек, из тех, что жались к огню, ощущая давящую темноту, ожидающую темноту.
Она не пыталась сейчас говорить со мной, она просто была – не слова, не образы даже, но что-то, для чего у меня слов нет. Была – и все. Летняя ночь с тобой не говорит, она просто существует. Темнота лунной ночи не мыслит, но она живет тысячей глаз, тысячей звуков.
Вот она была такая ночь, только с одной поправкой: она могла думать. Не хочется, чтобы тьма умела думать, потому что мысли будут такие, которые не хотелось бы знать.
Я заорала, но тьма наполнила мне горло, перекрыла воздух. Меня душил аромат ночи, я тонула в запахе жасмина и дождя. Пыталась вызвать некромантию, но она не приходила. Темнота в горле смеялась надо мной холодным мерцанием звезд, прекрасным и смертельным. Я попыталась открыть связь с Жан-Клодом, но тьма ее перерезала. Пыталась добраться до Мики и Натэниела, но ее подвластными зверями были все кошачьи, большие и малые. Леопарды не могли мне помочь – тьма шептала им, чтобы они спали.
Я вспомнила последний раз, когда она была ко мне метафизически так близко, и подумала о том единственном, чем она тогда не в силах была управлять – о волке. Тогда мне понадобилась моя связь с Ричардом и близкое соседство Джейсона, чтобы пробудить во мне волка и прогнать тьму, но сейчас мы были ближе друг к другу, волк во мне и я, и он пришел. Большой светлый волк с темными отметинами выпрыгнул из тьмы, и глаза его горели карим огнем. Он встал между темнотой и мною. Он дал мне запустить пальцы ему в шерсть, и как только я коснулась его, снова смогла дышать. Запах ночи никуда не делся, но он был не во мне.
Тьма разбухала вокруг меня огромным океаном мрака, нарастала волной, готовой ударить в берег. Волк рядом со мной напрягся, совсем настоящий. Я ощущала его кости, мышцы под шкурой, он прижимался ко мне. Я чуяла запах его страха, но знала, что он меня не бросит. Он останется и будет меня защищать, потому что если умру я, умрет и он. Это не был волк Ричарда, это был мой волк. Не его зверь – мой.
Черный океан взметнулся вокруг стеной, и кровать была в нем как крошечный плот. Потом бросился на нас с воплем тысячи глоток, и я узнала этот крик – жертвы, полчища, бесчисленные поколения жертв.
Волк прыгнул черноте навстречу, и я ощутила зубы, вонзающиеся в плоть. Это мы укусили ее. На миг я увидела комнату, где лежало ее истинное тело, за тысячи миль отсюда. Оно дернулось, грудь ее поднялась в резком вдохе. И выдохом раздалось одно слово, отдаваясь эхом:
– Некромантка.
Сон развалился, и я очнулась с криком.
Глава двадцать вторая
Спальня Жан-Клода сияла лампами. Мика стоял на коленях, глядя на меня, тряс меня за плечо.
– Слава Богу, Анита! А то мы не могли тебя разбудить.
Я успела увидеть Натэниела на той стороне кровати, и Жан-Клода рядом с ним. Я была в отключке так долго, что он успел умереть и ожить снова. Целые часы отдала этой тьме. Еще в комнате были Клодия, Грэхем и прочие. Значит, действительно часы, и снова их смена.
У меня было время все это заметить и подумать, а потом волк из моего сна попытался вылезти из меня.
Ощущение было – будто кожа на мне стала перчаткой, а волк – рукой. Он заполнял меня, невозможно длинный. Я ощущала, как его ноги вытягиваются мне в конечности. Но конечности у нас были разной формы, кожа не подходила. Волк пытался подогнать ее по себе.
У меня пальцы согнулись, пытаясь сформировать лапы, а когда это не получилось, волк попробовал сделать лапы из человеческих пальцев. Я кричала, держа руки вверх, пыталась набрать воздуху, чтобы объяснить. Но это было лишнее, потому что мое тело начало рвать само себя на части. Как будто каждая кость, каждая мышца пытались освободиться от всех прочих частей тела. Боль от этого невозможно описать. Части тела, которым никогда не полагалось двигаться, зашевелились. Как будто мясо и кости хотели выйти наружу, освободив место для чего-то другого.
Мика прижал мою руку к кровати вместе с плечом, Натэниел – другую руку, Жан-Клод придавил одну ногу, Клодия – другую. Они орали:
– Она перекидывается!
– Она потеряет ребенка! – кричала Клодия. – Да держите же ее, черт побери!
Грэхем навалился мне на талию:
– Я не хочу делать ей больно.
Что-то у меня в плече хлюпнуло – влажный сосущий звук, который от собственного тела никогда слышать не хочется. Я взвизгнула, но мое тело не обратило внимания. Оно хотело рвать себя на части, хотело себя переделать. Волк был здесь, прямо под кожей. Я ощущала, как он толкается, толкается, рвется наружу. Другие тела наваливались на мое кучей, и вскоре уже их тяжесть держала меня, но мышцы и связки продолжали дергаться.
Меня сотрясла судорога, заставившая державших меня перехватить руки. Чья-то рука оказалась у меня перед лицом, и я почуяла запах волка. Мой волк принюхался к бледной коже, и подумал – не словами, не образами, а какой-то смесью их. Стая. Родные. Безопасно.
Рука отодвинулась, с ней ушел успокаивающий запах. Волк попытался прыгнуть за ним, за ним, но другие запахи удержали меня. Леопард, крыса, и что-то еще не мохнатое, не теплое. Ничего, что нам было бы в помощь.
Волк стал когтить мне горло изнутри, будто рвался наружу, расширить хотел, чтобы выбраться. И не мог, не мог, сидел в капкане. Капкан!
Я хотела вскрикнуть, но крик застрял в глотке, вместо него вырвался низкий, траурный вой. Он прорезал гул возбужденных голосов, заставил застыть прижимающие руки, отдался эхом, затихшим во внезапной тишине. И когда эхо затихло, зазвучал другой голос, высокий и сладкий, и третий, более глубокий, на миг слившийся со вторым в торжествующей гармонии. Потом один из них упал на пару октав, нарушив гармонию, но в этом диссонансе была тоже гармония своего рода.
Я ответила им, и на миг наши голоса наполнили воздух вибрирующей музыкой. Прижимающие меня тела соскользнули прочь, запах волка стал ближе. Моего лица коснулась рука, я повернулась к ней, прижалась щекой, ощущая запаховую карту всего, чего эта рука сегодня касалась, но в основе этих запахов был волк. Я попыталась поднять руки, прижаться кожей к коже, но поднялась только одна. Что-то в левом плече сломалось, и эта рука меня не слушалась. Страх пронзил меня раскаленной молнией, я захныкала, и теплая шкура прижалась ко мне ближе. Никогда раньше не знала, что в запах можно завернуться, как в чужую руку. Но сейчас я обняла себя этим запахом, так его вдыхая, что он обволок меня, как объятие.
Продолжая прижимать к себе эту руку, я подняла глаза, вдоль нее, выше, пока не увидела черную рубашку и потом – лицо Клея. Глаза у него были волчьи, и мой волк знал, что это я сделала. Я вызвала волка в нем, и тот ответил.
Кровать рядом с нами шевельнулась. Оторвавшись чуть от руки Клея, чтобы понюхать воздух, я обернулась. Это был Грэхем, но поняла я это сперва носом, а не глазами. Такой был теплый запах, такой чудесный. Здоровой рукой я потянулась к нему, чтобы унести с собой немножко этой теплоты и чуда.
Я коснулась его груди, и только тогда поняла, что он голый. Как будто иерархия моих чувств перевернулась с ног на голову. Обоняние, осязание, зрение – приматы так не думают, так думают собачьи. Мне смутно вспомнился вид гладкого, мускулистого тела Грэхема, но запах от него был свой, правильный. А не одеждой определяется, кто свой и правильный, а кто нет. Однако прикосновение моей руки к теплой твердости голого тела вспугнуло меня, будто неожиданное. Мысли путались.
Я уперлась рукой ему в грудь, чтобы он не подвинулся ближе. Теперь я его видела, а не только смотрела, и видела, что он весьма рад быть при мне голым. А вот это меня разозлило. У меня все болит, мышцы жжет, ноет в таких местах, где вообще ничего не должно ощущаться, а он, понимаете ли, возбуждается оттого, что мы так близко голые. Черт бы его побрал.
Оказалось, что человеческий голос у меня еще есть.
– Нет. – Хрипло прозвучал голос, сорванно, но все-таки различимо. – Нет.
Клодия появилась у изголовья:
– Это я велела ему раздеться, Анита. Тебе нужно как можно больше контакта кожи с кожей.
Я попыталась встряхнуть головой, это оказалось больно. Поэтому я только повторила:
– Нет.
Она опустилась рядом с кроватью на колени, глядя на меня молящими глазами. Таких я у нее никогда не видела.
– Анита, других волков у нас здесь просто нет. Не осложняй жизнь.
Я проглотила слюну – с болью, будто что-то сорвано в горле, что не сразу заживет.
– Нет.
Перед Клодией возник Жан-Клод:
– Ma petite, прошу тебя, не будь упрямой. Хоть сейчас не будь.
Я посмотрела на него, морща лоб. Я чего-то не поняла? Чего-то не знаю? Чего-то. Чего-то важного, судя по выражению из лиц, но я просто не хотела, чтобы голое эрегированное тело Грэхема прижималось ко мне, когда я голая. Не хотела заниматься с ним сексом, а если мы окажемся голые в кровати, шансы на это возрастут. Да, у меня все болит, и ardeur накормлен по горло, но – считайте меня параноиком, – рисковать я не хотела. Ради ошметков моей нравственности я не хотела, чтобы Грэхем включился в соревнование будущих отцов. Более всего прочего это удержало мою руку выпрямленной и заставило губы снова сказать «нет».
– Ты не понимаешь, – сказала Клодия. – Это еще не кончилось.
– Что не кончилось? – сумела спросить я глубоким, не своим голосом, и тут сообразила. Волк решил, что ему помогают, помогают выйти, что стая поможет ему освободиться из этой тюрьмы, но я отодвинула ощущение других волков. Я отказала им в праве окутывать меня ощущением и ароматом волчьей шкуры, и мой волк снова стал вырваться – на свободу и к ним.
И рука моя потеряла жесткость – со всем остальным телом вместе. Я стала извиваться на кровати, как мешок со змеями, мышцы и сухожилия дергались так, что должны были разорвать меня. Кожа должна была лопнуть, и я почти хотела этого, хотела, чтобы волк этот вырвался из меня, чтобы перестал делать мне так больно. Я раньше думала, что этот волк – я; теперь я думала, что он хочет убить меня.
Запах волка был повсюду, густой, раздражающий, сладкий мускус. Я лежала на кровати неподвижно, по лицу текли слезы, и я хныкала – не волчьим звуком, а тихим, болезненным, человеческим. Я считала болью то, что было раньше, но ошиблась. Если заставить человека испытывать такие ощущения, он тебе расскажет все, что захочешь, сделает все, что скажешь – только бы это прекратилось.
Я лежала между Грэхемом и Клеем, их голые тела прижимались ко мне как можно теснее, но не сверху, не своей тяжестью, будто они знали, что это будет больно. Они осторожно держали меня между собой, положив руки мне на голову и на здоровое плечо. Прикасались они ко мне так, будто я могу сломаться, и ощущение было такое, будто они правы.
Глаза Грэхема выцвели из черных в карие, и лицо у него было встревоженное. Что они такое видели, чего не видела я? Что со мной? Клей наклонился, прижался губами к щеке и поцеловал меня – легонько. Потом шепнул:
– Перекинься, Анита, просто не мешай. Если ты отпустишь вожжи, будет не так больно.
Он поднял лицо – я увидела, что он плачет.
С тихим щелчком открылась дверь. Я хотела обернуться, но в прошлый раз, когда я это сделала, было очень больно. Не стоило любопытство такой боли. К тому же грудь Грэхема загораживала мне вид.
– Как ты смел приказывать мне прибыть? – прозвучал голос Ричарда, уже полный злости.
– Я пытался сделать это просьбой, – ответил Жан-Клод, – но ты не отозвался.
– И ты решил скомандовать мне, как псу?
– Ma petite нужна твоя помощь. – В голосе Жан-Клода послышался первый намек на злость, будто ему капризы Ричарда надоели не меньше моего.
– Насколько я могу видеть, – сказал Ричард, – помощников ей хватает.
Клей обратил к нему изборожденное слезами лицо:
– Ульфрик, помоги ей. Нам не хватает сил.
– Если вы хотите узнать, как удовлетворить ее в постели, спросите Мику. Я не настолько участвую в этом общем пользовании.
– Ты Ульфрик этой лупы или нет?
Мика стоял в ногах кровати, все еще голый, каким проснулся.
– А это, котенок, внутренние дела волков.
– Прекрати! – заорал Клей. – Не будь идиотом, Ричард, будь нашим вожаком! Аните больно!
Ричард наконец подошел к кровати, заглянул поверх тела Грэхема. Волосы у него еще были встрепаны со сна – густая каштаново-золотистая масса вокруг надменной красоты лица. Надменность, впрочем, ушла, сменившись виноватым выражением, которого я уже боялась не меньше.
– Анита…
С такой болью, с таким страданием произнес он это слово. Потом забрался на кровать, и я увидела, что он все еще в шортах – либо он успел одеться, либо спал одетый, что очень не похоже на ликантропа.
Мужчины подвинулись, давая ему место, но из кровати не вылезли. Ричард пополз надо мной, но первое же прикосновение вырвало у меня тихий стон боли. Он приподнялся на луках и коленях, не наваливаясь на меня, но мой волк был слишком близко к поверхности. Ричард вот так встал над нами – значит, он объявлял себя выше нас, а мой волк считал, что он такого не заслужил. И я была согласна.
Я ощутила, как волк собирается для прыжка. Будто действительно может метнуться из моего тела на Ричарда. И я почти сразу поняла, что так оно и произойдет. Однажды мне пришлось ощущать битву зверя Ричарда и моего, и это было больно. Мне сейчас уже было больно, и усиливать боль я не хотела.
– Подвинься, Ричард.
Снова этот хриплый шепот.
– Все хорошо, Анита, я здесь.
Здоровой рукой я уперлась ему в грудь, толкнула.
– Подвинься, быстро.
– Ты встал над ней в позиции доминанта, – сказал Грэхем. – Вряд ли ей это нравится.
Ричард посмотрел на него, не сдвинувшись.
– Она не волк, Грэхем. У нее нет таких мыслей.
Из глотки у меня донесся низкий вой. Хотя я и не собиралась выть.
Ричард медленно повернул голову – как персонаж фильма ужасов, решивший наконец обернуться. Уставился на меня, и волосы густой рамой вокруг удивленных глаз.
– Анита? – сказал он, на этот раз вопросительно, будто не знал, действительно ли я Анита.
Снова густой, дрожащий вой вырвался из моих губ. И голосом более низким, чем у меня вообще бывал, я шепнула:
– Отодвинься.
– Ульфрик, пожалуйста, отодвинься! – взмолился Клей.
Ричард снова встал на колени, все еще надо мной, но в такой позе, которую волк не мог бы точно повторить. Этого должно было хватить, но мой волк нашел другой выход, дыру, сквозь которую можно вырваться. До того, когда я делилась своим зверем с другими ликантропами, я ощущала лишь мех и кость, будто какой-то огромный зверь расхаживает во мне, но на этот раз я его увидела. Увидела того волка, который являлся мне во сне. Он не был совсем белым, скорее цвета сливок, с темным чепраком на спине и темным пятном на голове. Эта темная пелерина отливала всеми оттенками серого, перемежаемого черным, и даже белое и сливочное не было истинно белым и сливочным, а перемешивалось, как молоко и сливки. Я погладила этот мех рукой, и он ощущался как… настоящий.
Резко отдернулась рука, так что даже больно стало, я вскрикнула, но память кожи еще ощущала мех под пальцами здоровой руки, будто я коснулась чего-то плотного…
– Она пахнет по-настоящему, – сказал Грэхем.
Ричард надо мной застыл на коленях.
– Да, – сказал он очень далеким голосом.
– Вызови ее волка, – сказал Клей тихо. – Заставь ее перекинуться, чтобы она себя перестала терзать.
– Она потеряет ребенка, – возразил Ричард, глядя на меня с выражением, которого я понять не могла. Может, и к лучшему, что не могла.
– Ребенка она потеряет и так, и так, – сказала Клодия.
Он посмотрел на меня, и взгляд был растерянный.
– Анита, я вижу в тебе волка, прямо у меня за глазами его образ. Мы его чуем. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Вызвать твоего зверя?
Голос его звучал безжизненно, будто он уже был в трауре. Он не хотел этого делать – сомневаться не приходилось. Но тут мы с ним, для разнообразия, были согласны.
– Нет, – сказала я. – Не надо.
Он не обмяк, нет – но напряжение ушло.
– Вы ее слышали. Я не стану это делать против ее воли.
– Посмотрим, что ты скажешь, когда судороги увидишь. Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь держался так долго, – сказала Клодия. – В этот момент уже никто не может сопротивляться превращению. А у нее даже глаза еще человеческие.
Ричард посмотрел на меня с очень печальным лицом.
– Наш человек, – сказал он, но особой радости в его голосе не было.
Он убрал щиты – не до конца, но будто метафизически мелькнул, и я увидела проблеск его эмоций, мыслей, всего лишь проблеск. Если я перекинусь по-настоящему, он не будет меня хотеть. Он ценил мою человеческую суть, потому что сам в себе таковой не ощущал. Если я перекинусь, я перестану быть для него Анитой. Все еще он никак не мог понять, что став вервольфом, не перестаешь быть человеком.
Но за этими мыслями угадывались другие, хотя, быть может, слово «мысли» здесь неточное. Это был его зверь, его волк, и он хотел, чтобы я перекинулась. Чтобы стала волком, потому что тогда я буду принадлежать ему. Нельзя быть лупой и Нимир-Ра, если ты действительно волчица, по-настоящему.
Эта мысль заставила меня глянуть в сторону, туда, где стоял Мика, и я увидела эту потерю в его глазах, будто он уже был уверен в ней.
Ну уж нет.
Я не стану его терять, ни за что не стану.
Где-то в комнате – я поискала глазами – был еще один мой леопард. Слишком быстро я повернулась, задела мускулы в левом плече, мышцы, которые я порвала. Натэниел подошел к кровати, будто понял, кого я ищу.
На его лице высыхали слезы, будто он плакал и не дал себе труда их вытереть. Можно заводить романы вне своего вида, это я знала, но я помнила: Ричард как-то сказал, что доминанты так не делают. Если ты достаточно высоко в иерархии, вне стаи ты романов не заводишь. Я – лупа, самок выше меня по рангу нет. Я – Больверк, это автоматически возводит меня во что-то вроде офицерского ранга. Как ни верти, но если волк, которого я ощущаю, действительно выйдет на свободу, то теряю я не только неожиданную беременность.
Я знала, что во мне есть еще по крайней мере один зверь. Есть не только волк, но еще и леопард. Уж если мне окончательно становиться мохнатой, могу я выбрать зверя? Глядя в лицо Натэниела, глядя, как отвернулся Мика, чтобы я не прочла его мыслей, я знала, что попробовать хотя бы должна.
Глядя прямо на Ричарда, я сказала вслух:
– Ты не хочешь, чтобы я перекинулась, вот почему ты не станешь помогать.
– На самом деле ты не хочешь быть такой, как мы.
На его лицо вернулась та надменная, злая маска.
– Ты прав.
Его злость проявилась открыто – почти удовлетворенная злость, будто подтвердилось, что я такая же, как и он, что мне не больше его нравится быть в мохнатой шкуре.
Я посмотрела на Мику и Натэниела. Мика придвинулся к Натэниелу, обнимая его.
– Мика, Натэниел, помогите мне вызвать леопарда.