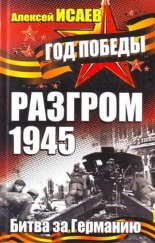Прокотиков (сборник) Фрай Макс
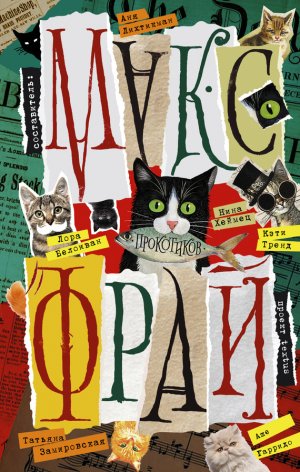
– Не беру, – улыбнулась она. – Все соседи – я, сын и дочь. Уединение относится к числу удобств.
– Судя по тебе, твои дети еще подростки? – поинтересовался я. – А муж есть?
– Даже не вздумай, – улыбнулась она чуть теплее.
– А вот этого ты мне запретить не сможешь, – поднялся я. – Я властен над собственным телом, но не над вздумыванием. Впрочем, заставить себя писать картины тоже не могу. Я ужасно ленив. Что у нас с неудобствами?
– С чем? – не поняла она.
– С неудобствами. Ты перечислила удобства, должны же быть и неудобства.
– Есть и неудобства, – призналась она. – Сын у меня болен. Когда у него случаются приступы, я запираю его. Но он ведет себя тихо. И кот.
– Что с котом? – не понял я.
– Он ходит, где хочет, – пожала плечами она. – И еще он смотрит.
– На кого? – нахмурился я.
– На кого-нибудь, – усмехнулась она. – Будет смотреть на тебя.
– Это опасно? – пошутил я.
– В лицо не вцепится, – рассмеялась она. – Ответишь ему таким же пристальным взглядом, и все. Зажмурится и замурчит.
– А если погладить? – поинтересовался я.
– Изменой не сочту, – озадачила она меня ответом.
Все оказалось даже лучше, чем я предполагал. Хозяйство Маты располагалось в конце узкой улочки, по которой едва ли мог бы проехать лимузин чуть шире обычного таксомотора. За глинобитной стеной скрывался уютный сад, собачий вольер без собаки и низкий, но просторный дом с белеными стенами. Предоставленная мне комната меня вполне устроила. В ней не было насекомых, зато имелась широкая кровать и еще более широкое окно, выходящее на море. В одном углу стояла чугунная печка, в другом холодильник, телевизор я не любил, открытые линии и любые другие способы связи мне были противопоказаны, так что мое зимнее существование вполне могло оказаться приятным времяпрепровождением. Тем более что у хозяйки оказалась весьма миловидная дочурка Ангуза лет восемнадцати и сын чуть постарше. Мата представила его Лео. Высокий и стройный молодой человек если и страдал каким-то недугом, то никак этот недуг не обнаружил. Он не подал мне руки, но поклонился, приложив ладонь к груди и, обернувшись к матери, произнес непонятное:
– В сам-мый раз.
– Бывает не в самый раз? – поинтересовался я, смотря ему в спину.
– Случается, – кивнула она. – Человек полон неожиданностей. Услужливый старичок может оказаться склочником и скандалистом. Тихий счетовод – эротоманом. А одинокий военный – любвеобильным семьянином, к которому подваливают многочисленные родственники. Но обычно я разбираюсь с этим. Я вижу людей насквозь. Считай, что я колдунья.
– Надеюсь, не практикующая? – спросил я. – Колдовство запрещено уже лет сто.
– Так я тебе и рассказала, – улыбнулась она. Хорошо улыбнулась, тепло. И ее губы заслуживали поцелуя, не меньше. Или же она уже начала колдовать? Что ты можешь, девочка средних лет, против агента тайной службы? Смешно…
– И что же ты увидела во мне?
– То, что мне нужно, – она стала серьезной. – Ты – одинокий, сильный, ничего не боишься, но хочешь покоя.
– За покой нужно доплачивать? – я скосил взгляд на ее декольте.
– Покой не продается, – улыбнулась она. – Зато появляется и рассеивается сам собой. Поймешь.
– А где ваш кот? – спросил я.
– Вот он, – показала она, и я увидел здоровенного черного кота, который лежал на поленнице дров.
– Он не смотрит на меня, – пожаловался я хозяйке.
– Спит, – она улыбнулась. – С котами это случается. Ты должен это знать.
Я спустился к морю к полудню. Против ожидания, на набережной оказалось довольно много народа. Отдельные смельчаки даже пытались купаться на узком каменистом пляже. Кое-кто прыгал с высокой скалы, которая торчала над крохотным заливчиком. Остальная часть берега представляла собой нагромождение бетонных кубов. Я перекусил на открытой веранде деревенского ресторанчика, затем взял пиво и присел на скамью на набережной.
– Знаете, как называется эта скала-м? – услышал я скрипучий голос. Он так и произнес: «Скала-м». Рядом со мной присел напоминающий седой репей старик. Точнее, забрался на скамью с ногами, как подросток или какой-нибудь пустынный погонщик верблюдов.
– Нет, – признался я. – Я здесь впервые.
– Она-м называется м-блюющий в море м-мужик, – сказал старик, расчесывая ногтями собственную шею. – Вон – нос-м, лоб-м, эти скалы – плечи. Берег – его задница. Вон тот выступ-м – верхняя губа. А м-буруны под ней – блевотина. М-похож?
– А еще какие есть здесь достопримечательности? – спросил я. Мяукающее заикание старика начинало меня раздражать.
– М-помилуйте, – рассмеялся старик. – Это обычная м-деревня. Какие тут могут быть достопримечательности? Здесь живут те, которые никого не хотят видеть. М-найдите на карте еще одну деревню, в которой нет ничего примечательного! Таких больше нет. Ни залива, ни нормального пляжа, ни гор над ним, ни особенного вида, ничего. Здесь ничего нет. Живут здесь те, кому ничего не нужно. Приезжают сюда разнообразные м-никто. Вот вы м-кто?
– Художник, – сказал я. – Но плохой художник. Никто, если следовать вашим рассуждениям.
– Да м-хоть любой, – махнул рукой старик. – Что тут рисовать?
Я бы нарисовал море. В нем и в самом деле не было ничего необычного. Волны, волны и волны. И серо-сине-зеленые мазки до горизонта в зависимости от того, что сверху – облака или чистое небо. Пахло рыбой, водорослями и еще чем-то пряным. Вот только рисовать я не умею. Набил ящик эскизами, купленными на рынке. Выбирал самые плохие. Чтобы мазня мазней.
– Скажите, а вы м-верите в нечистую силу? – спросил меня старик. – А в колдовство-м?
– Зачем мне это? – допил я пиво. – Я верю в море. В небо. В ветер. В это пиво. Нет, в пиво я уже не верю. Сейчас возьму еще бутылку и снова буду верить. Зачем мне ваша нечистая сила?
– М-неправильный вопрос, – проговорил старик. – Зачем м-мы нечистой силе, вот как нужно его ставить.
– Не нужно ничего ставить, – лениво пробормотал я. – Все, что требует установки, пусть остается неустановленным. Естественность – навсегда. Нечистая сила… Мне гораздо больше нравится чистая сила. Вот как эта девушка.
Она вышла из воды, выкрутила волосы, накинула халат и стала вытаскивать и выкручивать из-под него купальник. Чем-то напомнила мне Пуэллу. Такая же тонкая и одновременно сильная. Как пружина. Жаль, что далековата. Вот было бы смешно, если бы она оказалась Пуэллой. Это значило бы, что я ничего о ней так и не понял. Если я не ошибаюсь, она сейчас шерстит записи с камер на всех главных вокзалах Теллуса. Или занимается похоронами собственного папеньки. Куда ты направишься потом? Я так старательно рассказывал тебе, что не люблю жару и толпы туристов, что именно там ты и должна меня искать.
– Это м-моя дочь, – процедил сквозь зубы мой сосед по лавочке.
– Пойдемте, – сказала она, приблизившись.
Я узнал дочь хозяйки – Ангизу.
– Пойдемте, папочка не живет с нами уже десять лет, но до сих пор не только тянет с матери деньги, но и выслеживает наших жильцов и пытается вымазать нас в грязи.
– М-вас незачем-м м-мазать, – затрясся от ненависти, почему-то встал на четвереньки старик. – Вы и…
– Пойдемте, – взяла она меня за руку.
– Четыреста двадцать пять ступеней, – напомнил я.
– Эта семейка… – заскулил за спиной старик. – М-м-мерзость!
– Четыреста десять, – поправила она меня. – Еще пятнадцать – с набережной до пляжа. Я люблю точность.
«А еще что ты любишь?» – готово было сорваться у меня с языка, но я промолчал. Она и в самом деле была сложена почти так же, как и Пуэлла. Конечно, ей было далеко до не только дочери, но и ученицы Менториса, но зато в ней чувствовалась какая-то живая дикость. К тому же она была моложе Пуэллы лет на десять. Свежесть ее кожи поражала. А уж сама мысль, что отсчитывающая стройными ногами ступени передо мной девчонка обнажена под коротким халатом, окрашивала суету последних трех дней какими-то новыми красками.
– Он здоров? – спросил я о старике.
– Да, – пожала она плечами, отчего халатик задрался. – Пил. Да и теперь пьет. Но есть какие-то ограничения в голове. Есть. Вот, Лео кое-что от него взял. Но Лео безобиден. Да и он тоже. Он тихий.
– Я тоже тихий, – сказал я.
– Бывают тихие художники? – спросила она.
– Художники почти ничем не отличаются от людей, – соврал я. – Но я плохой художник.
– Вот те на, – огорчилась Ангуза. – А я уж хотела попросить вас нарисовать меня. На фоне моря.
– Море у меня есть, – припомнил я. – Уже нарисованное. Давайте приклеим вашу фотографию.
– Ищете легких путей? – спросила она.
– Хорошо, – согласился я, – давайте приклеим вас.
– Тогда незачем брать нарисованное море, – завершила она разговор. – Оно уже есть. И я приклеена к нему. Намертво.
Да, четыреста десять ступеней оказались весьма короткой дистанцией. Я бы не отказался повторить ее еще раз пять. Особенно если бы чуть выше и впереди шествовала девчонка, одетая точно таким же образом. Ангуза открыла воротца в глинобитном заборе, через которые мне предстоит ходить ближайший месяц, вошла внутрь, остановилась под раскидистой сливой и, обернувшись, обняла меня. Когда через несколько стремительно промчавшихся минут я недоуменно посмотрел на нее, она улыбнулась и прошептала:
– Все-таки в чем-то папенька был прав, – и, дурачась, продолжила: – Но м-жизнь слишком коротка, чтобы м-м-м-отказывать себе в удовольствии-м.
Жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в удовольствии. Нет, Пуэлла произнесла что-то иное, когда заявилась ко мне в квартирку и начала раздеваться так, словно собиралась принять душ после разминки. Тогда я был не столь решителен, как теперь, хотя чего могла стоить моя решительность сама по себе? Но Менторис никогда не шутил, а относительно Пуэллы он сказал без обиняков – залезешь к дочери под юбку – убью. И неважно, что сказал он это десять лет назад, и за это время много чего случилось, и его ученик давно уже не был безусым юнцом, то, что Менторис сказал один раз, действовало до тех пор, пока он не сказал бы что-то иное. Собственно поэтому, когда Пуэлла сбросила с себя одежду, я сразу понял, что мне придется убить Менториса. Или я, или он. И вот ведь, вроде бы не ладили отец с дочерью, но он стоял на страже ее будущего сторожевым псом. Что же она тогда сказала? Ну точно – пользуйся. Да. Пользуйся. А Менториса в итоге пришлось убить. Осталось выжить самому. Пользуйся?
– Я спать, – сказала Ангуза, но остановилась на дорожке, ведущей к его комнате. – Смотри.
Я остановился у вольера. В полумраке угадывалась фигура лежащего человека.
– Лео, – прошептала Ангуза. – Ничего страшного. Он быстро отходит. Но когда вот так лежит, то никому не мешает. Просто спит. Не опасен. Когда ваша комната свободна, он спит там.
– Что говорят врачи? – спросил я.
– Ничего, – хихикнула Ангуза. – Они же не знают.
– Почему? – спросил я.
– Тебе это мешает? – не поняла Ангуза.
– Нет, – хмыкнул я. – Почему это должно мне мешать?
– Тогда не дергайся, – посоветовала она. – Он – не твоя болячка. Не нужно ее ковырять, – она приблизилась ко мне, и прежде чем поцеловать в щеку, прошептала: – Душ на улице – с теплой водой. Спасибо тебе, плохой художник, за хорошую работу. Если болячка будет своя, тем более не нужно ее ковырять. Ты поймешь.
Женщина… Она мне говорит, что я пойму что-то, будучи младше меня почти в два раза. Впрочем, сколько раз я это уже слышал. Потом ты когда-нибудь поймешь. Только всякий раз это произносилось в адрес кого-то исчезающего навсегда. Единственный, кто мог бы мне это сказать с полным правом, был Менторис, и то только в первый год моего обучения. Через год он стал осторожен со мной. Осторожен, как с соперником. Черт его знает, что на него нашло, но это я почувствовал определенно. И все-таки надо нынешнее приключение заканчивать. Если события будут развиваться таким же темпом, Дамну придется сменить на что-то более спокойное. Со мной ничего не должно происходить. Совсем ничего. Случайности исключены, однако они выстраиваются в очередь. В тот день, когда я собрался залечь на дно, на этом дне обнаружился сумасшедший старик, его распутная дочь и впавший в оцепенение или странный сон молодой человек, который несколько часов назад производил впечатление нормального парня. Еще хоть что-то и все. Уйти прогуляться к морю и исчезнуть из этого поселка навсегда. Хотя тот же Менторис повторял, что, разбирая провал любого из агентов, он всегда приходил к одному и тому же выводу – судьба предъявила множество знаков, замучилась предупреждать неудачника, но внезапная слепота не только необъяснима, но и всесильна. Или колдовство запрещено зря, и порча все-таки существует?
Я почувствовал руки у себя на плечах, когда стоял под душем. Не руки Ангузы, а руки ее матери.
– Мата, – прошептал я, оборачиваясь и уже зная, что в этом раю мне нет места.
– Пессимус, – успела она сказать до того, как я коснулся ее губ. – Странное имя. Хочешь, я назову так своего кота?
– Нет, – прошептал я и вспомнил: «Безутешная хозяйка разыскивает пропавшего котика Пессимуса. Особые приметы – припадает на одну ногу. Вернись, мой герой. Твоя Пуэлла». Нет, не может быть. Пессимус – не имя, а кличка, о которой знаю только я и Пуэлла. Впрочем, какая разница, завтра меня здесь уже не будет. А память останется. И, надеюсь, не только у меня.
Я зашел в свою комнату через полчаса. Щелкнул выключателем, в свете тусклой лампы бросил на табурет стопку одежды, стянул прихваченное на поясе полотенце. Повязка на ноге держалась хорошо, плекс защищал рану от воды. Сколько мне осталось обходиться без хромоты? Три или четыре дня? Успею залечь где-нибудь еще подальше. Но без подобных удовольствий. Глухая гостиница, дешевый номер, лишь бы без насекомых. И тишина. Несколько коробок пива не помешают, конечно.
За моей спиной послышался шорох. Я обернулся, положив руку на пояс. Вот дьявол, все оружие осталось в тайнике. Что там? Между холодильником и печью, точно посередине пустой стены, на которой в обычных отелях вывешивают телевизор, сидел кот и смотрел на меня неотрывно. Я подхватил полотенце, снова зачем-то обернул себя и присел в паре шагов от зверя.
– Чего ты хочешь? – спросил я его и понял, что немедленное нападение мне не грозит. Кот не топорщил усы, не прижимал уши, не шипел. Он просто пристально и не отрываясь смотрел мне в глаза.
– Нет, приятель, – сказал я ему. – Я мог бы тебя взять в постель, но ты явно хочешь от меня большего. Поэтому выбирай между брысь на улицу и сиди себе на полу хоть до утра. Хотя глазищи у тебя что надо. Желтые и жадные. Не знаю, чем я могу тебе помочь, но если верить твоей хозяйке…
«Если верить твоей хозяйке», – странным эхом пронеслось где-то внутри моей черепной коробки, но я не собирался выстраивать сложные схемы для последнего дня в этом поселке, поэтому опустился на колени, наклонился к коту и пристально посмотрел ему в глаза.
Я не запомнил, как я заснул. В этом не было ничего странного, кто может вспомнить мгновение перехода из яви в сон, но я не запомнил, как поднялся и лег в постель. Помнил душ, помнил неожиданно стройное и мягкое тело Маты, которое все же не сумело затмить воспоминание о ее дочери. Помнил сумасшедшего старика, но не помнил, как лег в постель. Теперь же я не мог и проснуться. У меня не было ни ног, ни рук, хотя глаза были, во всяком случае я точно пытался таращить их или даже моргать ими, чтобы рассеять тьму, которая окружала меня со всех сторон, которая наполнила меня изнутри, которая сама была мною. В далеком детстве, если мне снились ужасы, я должен был прыгнуть с высокого места в пропасть, и сон неизменно оборачивался спасительным пробуждением. Сейчас не было ни кошмара, ни пробуждения, ни высокого места. Была только тьма. И я пытался выбраться из этой тьмы. Вскоре я даже не мог хлопать глазами, потому что тьма начинала прилипать к ресницам и висеть на них тяжкими комьями. Мне нужно было выбираться, но я не знал, откуда я должен выбираться и как, если у меня нет ни рук и ни ног. Поэтому я стал придумывать себе руки и ноги, и уже придуманными руками разгребать что-то тяжелое и липкое, и протискиваться через него, прорываться, пробиваться, ползти и снова разгребать и протискиваться.
Это длилось очень долго. В какое-то мгновение мне начало казаться, что это было всегда. И что все, что происходило раньше, было чем-то незначительным и случайным, а вот эта темнота и есть самое главное, суть, существо меня. А потом я проснулся.
Я увидел доску, на которой лежал. Не постель, а доску. Повернул голову и с трудом рассмотрел сетку, как будто я смотрел на нее изнутри. Опустил взгляд на каменный пол вольера, разглядел миску с кормом, спрыгнул и начал есть. Точнее, не так, ел не я, а кто-то другой. Просто у меня перед глазами мелькала миска и какое-то отдаленное ощущение подсказывало мне вкус еды. Странный, но отчего-то приятный. Значит, я был в вольере, ел из миски, и мне это нравилось. Точнее, мне это совсем не нравилось.
– Вот видишь, – донесся с той стороны клетки слишком громкий, но знакомый голос. – А ты боялся за зверя.
– Он лежал пластом два дня, – прозвучал в ответ другой знакомый голос. – Раньше такого не случалось.
– Раньше и постояльца такого не было, – ответил первый голос. – Лео очень доволен. Сказал, что отличное тело. Этот художник явно раньше был военным. Пришлось схватиться там кое с кем, так впервые Лео обошелся без побитой физиономии. Он даже сказал, что подумывает оставить это тело себе.
– Он идиот? – обладатель второго голоса обозлился. – Зачем же он тогда пихал его рожу под все камеры? Этой же ночью камень к ногам и в море. А если Лео будет упрямиться, я его тушку туда отправлю, надоело уже выносить за ним!
Я подошел ближе к сетке. Почему-то я оказался низко, хотя стоял, а не лежал. Основание сетки, обвитой пожелтевшим вьюном, было точно на уровне моего взгляда. С другой стороны сетки на садовых качелях сидели Мата и Ангуза. Покачивались и разговаривали. Но сидели и покачивались очень высоко, а я был низко. Но не лежал, а стоял. Я посмотрел на свои ноги и увидел кошачьи лапы.
Тьма вновь затопила все вокруг.
«Ответишь ему таким же пристальным взглядом, и все. Зажмурится и замурчит».
«Жизнь слишком коротка».
«Главное не затягивать. К тому же твоя тушка, Лео, киснет. Думаешь, я всякий раз буду заставлять ее держать глаза открытыми? Ах, чего мне это стоит? С кем ты еще хотел разобраться? А ты не думал, что тебя уже могут искать? Ты забавляешься третий день! Хватит, Лео, остановись! Ангуза, держи его… Ну что ты будешь делать? Лео, ты допрыгаешься, я отнесу кота в комнату, и этот чертов художник окажется в твоем теле! Что значит, не забудьте его связать?»
«Ангуза! Он какой-то идиот! Что он делает теперь?»
«Рисует».
«Зачем?»
«Думает, что если художник чудно дерется и стреляет без промаха, то он должен писать великие картины».
«И как?»
«Мазня какая-то. Но я ж тебе говорила, этот Пессимус сам сказал, что он был плохим художником».
«У него были другие достоинства».
«О, ты тоже успела его раскупорить?»
«В прошлый раз ты говорила – распаковать».
«Ответишь ему таким же пристальным взглядом, и все».
Тихий звук подъехавшей машины. Еще более тихое хлопанье двери. Сухие, еле различимые выстрелы. Знакомые выстрелы. Как глухие щелчки. По два сдвоенных на жертву. Один человек. Второй человек. Третий человек. Затем одиночный более громкий и крик боли. Удар, и потом уже хныканье. Еще один, уже более сильный удар. Загорается свет, и я вижу влетевшего в комнату самого себя. Оборачиваюсь и понимаю, что я сижу на постели, тут же лежит «тушка Лео». Мое родное тело скулит на полу, зажимая простреленную руку. Вслед за ним в дверь заходит Пуэлла с двумя пистолетами в руках и шипит как змея:
– Ты думал от меня скрыться? Нет, вы только подумайте, он думал от меня скрыться! За каким демоном, ты бросился во все тяжкие? Сошел с ума! Я уж думала, нанял кого-то надеть свою маску, а оказывается, собственной персоной! Это кто еще? Кто это лежит связанный на постели?
– Я не Пессимус, – скулит мое тело. – Я другой. Это я лежу на постели.
– Интересно, – смеется Пуэлла.
Это плохо, когда она смеется. Очень плохо. Но он этого еще не понимает, хотя пора бы уже. Рука прострелена. И, кажется, начала уже болеть нога. Вот это плохо. А ведь были у него шансы, были.
– Очень интересно, – смеется Пуэлла. – Пессимус говорит мне, что он не Пессимус, а лежит на постели.
– Эй?
– Она бьет тушку Лео ногой. Тушка вздрагивает, подтягивает колени к животу и вдруг жалобно мяукает.
– Мяу? А вот так?
Она вскидывает пистолет с глушителем и всаживает тушке Лео пулю в лоб.
– Теперь где ты? Ты только что лежал на постели, теперь там лежит труп. Говори, где ты теперь?
– Здесь, – хрипит Лео моим голосом. – Но я не Пессимус. Пессимус – кот! Он кот. Пустышка!
– Не смешно!
Звучит громкий выстрел, и вторая рука Лео повисает плетью. Какого черта? Это же не его рука, а моя рука! Но Пессимус кот… А тело Хероса, которого кое-кто называла в постели Пессимусом, скулит и трясется у ног прекрасной Пуэллы, агента секретной службы Теллуса, дочери шефа Менториса. «Ответишь ему таким же пристальным взглядом, и все».
– Послушай, Херос, – она присела на край постели, резким ударом вставила дуло пистолета в мой бывший рот. – Я знаю, что ты всегда считал себя самым умным. Да, тебе везло. Ты выпутывался из ужасных ситуаций. Но это – моя операция. Я собиралась убить своего приемного отца. Не ты, а я. Поверь мне, у меня были для этого основания. Ты убил его, чтобы он до тебя не дотянулся, но ты выполнял мое решение. Он в самом деле хотел дотянуться до тебя, потому что я жаловалась ему на тебя, что ты лезешь ко мне под юбку, но не отцовская ревность двигала им. Просто ревность. И да, к тебе под одеяло залезла я сама. И это я сорвала шпингалет на окне, я подсказала тебе идею с подкормкой. И я зудела насчет этого шпингалета, изображая заботливую дочь. Наконец, я устроила ловушку в твоей квартирке, из которой ты сумел вывернуться. Теперь, когда ты знаешь все это, скажи, где деньги Менториса? Я никогда не поверю, что ты не озаботился в первую очередь его деньгами! Они пропали со всех счетов в тот же день. Я их все равно найду, не усложняй мне жизнь. Где они?
– Не знаю, – заскулил Лео.
– А вот так?
Она встала и наступила ему на гениталии, заставив не только завыть Лео, но и содрогнуться меня самого, все-таки это была важная часть меня.
– Не знаю, – завыл, захрипел Лео.
– Как знаешь, – нажала на спусковой крючок Пуэлла, завершив пробег моего замечательного материального я. Интересно, как она собирается моделировать место преступления? У тела Лео дырка в голове! Как он отстреливался? Ах вот как!
Пуэлла подняла пистолет с глушителем и выстрелила в плечо настоящему трупу Лео. Затем обжала его пальцами обычный пистолет. Бросила оружие на пол, вставила в ту же ладонь пистолет с глушителем. Похоже на правду, но только если не знать, каким агентом был Херос, которого одна обворожительная коллега называла в постели Пессимусом.
– Ну что, – Пуэлла посмотрела на меня. – Ты теперь Пессимус? Иди сюда, пустышка. Имей в виду, я строгая хозяйка. В глаза мне смотри!
Она схватила меня за шиворот и встряхнула.
«Только не это», – подумал я.
Юлия Сиромолот
На пересечении
Правды и Свободы
На пересечении Правды и Свободы… нынче заседание… На пересечении Правды и Свободы общее собрание… Раз-два-три-четыре, пятый это хвост, шесть-семь-восемь-девять…
Мотыль бежал, приговаривая про себя всякую ерунду. Это у него привычка такая – вроде бы и ум занят, но почему-то помогает следить и все сразу видеть.
Раз-два-три-четыре, следом раскоряка, глупая собака… Бублик сопит, громко клацает когтями.
– Мотыыыль… Скоро уже?
– А тебе чего, – но оборачиваясь, буркнул Мотыль. – Тебя вообще не звали.
– Мне надо…
Надо ему… Стыд один с этим Бубликом. Ведь уже пугнул его два квартала назад, шипел… а толку! Раскоряка только прижался было к мусорному ящику, а потом все равно нагнал.
– Ты не кот. Тебя не пустят. Майко тебя разорвет.
– Я… почти кот… я тихо. Не разорвет… ффух… ох…
Дам ему лапой еще на входе, решил Мотыль. Жалко дурачка, хороший он, безобидный, и едой делится – а еда у него вкусная, и смотреть на него умора, и соседских котов он гоняет будь здоров, как положено… А все-таки виданое ли дело, чтобы на городской совет котов приходить с собакой!
Вот и перекресток. Надо добежать до подземного перехода, внутри есть лаз еще поглубже. А там я ему как раз каак засвечу в нос… На верхней ступеньке перехода с чрезвычайно скучающим видом сидел Бисс.
– Ты последний, приятель, – сказал он томно. – Иди за мной.
Мотыль очень быстро оглянулся. Бублик печально тряс ушами у мусорного бака метрах в ста. Вот и хорошо. Вот и ладненько.
Они с Биссом пробежали в переход и нырнули в лаз. Мотыль и сам отлично знал дорогу в подсобку за бывшим торговым центром, но сегодня Майко, видно, решила зачем-то выставить охрану. Зачем? Если слухи правда, то от Бисса, хоть он и хороший боец, толку, как от раскоряки.
В подсобке надпись «Вход воспрещен» освещала добрых три десятка котов и кошек разного возраста – Мотыль узнавал своих, но были и какие-то помоечные оборванцы – без уха, в колтунах, один без хвоста, и незнакомый желтоглазый ангорец, и какая-то трехцветная, сильно беременная кошка. Майко, видно, пригласила народ с окраин. Сама она сидела на ящике из-под пива – огромная, серо-черная, гривастая. Кисточки на ее ушах вздрагивали.
– Все собрались? – голос у нее был тяжелый, взгляд тоже. Старая Майко, больше всех других, даже больше котов, хитрая, ловкая, умная…
– Так знайте и другим скажите, – продолжала старая кошка, – что не слухи это. Сама была. Сама видела. Тигр пришел.
Кошачье собрание будто взболтали – общее «мааау!» наполнило подсобку. И еще какой-то звук – нелепый и очень-очень Мотылю знакомый. Он обернулся и увидел, что настырный Бублик пролез через дыру и теперь, как ни в чем не бывало, отряхивался. Уши его хлопали, как трещотка.
– А это еще что такое?
– Это я, – сказал в наступившей мертвой тишине бедолага-вторженец. – Я, Бублик.
С двух сторон к нему медленно, плавно подвигались Бисс и Бастер – два самых безбашенных бойца, Бастер как-то порвал бульдога, а уж этого комнатного недоноска он пришибет и даже не почешется.
– Это-то я вижу, – сказала Майко. – Сюда ты как попал? И зачем?
– По запаху. Матушка кошка, я по делу пришел. Я слышал, что вы тут про тигра обсуждать будете.
Бастер уже стал напрягать мышцу левой передней лапы. Полуторасантиметровые когти, останется дурак без глаза в лучшем случае…
– Ну, будем. Но тебе здесь места нет.
– Есть, матушка, – пес заметил бойцового кота и облизнулся. – А как же. Ведь тигры – они и собак едят.
Кажется, не выдержал кто-то из помоечных – завыл и от избытка чувств бросился на стену, распластался и упал на кого-то из собратьев, тот тоже заорал дурниной. Во мгновение ока подсобка превратилась в кошачий концерт.
– Тихо! – рявкнула Майко. – Тихо! Полоумные!
Коты и кошки осели, как тесто. Они еще гнули спины, показывали клыки и шипели, но хотя бы прекратили скакать и завывать. Мотыль и сам опомнился и увидел, что Бублик по-прежнему сидит у входа и тоже вполне по-кошачьи скалится и играет загривком. Вот же раскоряка упорная!
– Всем молчать и слушать! Собака… пусть сидит, отойди от него, Бисс. Итак, тигр – это не шутка. Я сама ходила на карьер и видела его.
– Ой, мамочка, – прошептала какая-то совсем еще молодая кошка. – Ой, я боюсь.
– Это настоящий большой зверь. Он один – а вовсе не стая, как некоторые тут рассказывают…
«А я что… а я ничего… у меня в глазах двоится… старые раны», – забубнил делегат от Мельничных, Василий, сидящие рядом зашикали.
– Но даже один тигр – это неслыханное дело. В городе!
– За городом, – пискнул кто-то из молодых ученых котиков.
– За городом, – согласилась Майко. – Невелика разница. Вопрос в том, что теперь нам делать и как быть котам и кошкам этой местности.
– Да что же делать, – проныл Василий. – Тигр – он ведь большой…
– Дело не в том, большой он или нет. А в том, кто он нам.
– Тигр – царь зверей! – сказал рыжий помоечный делегат – без левого верхнего клыка, с рваным ухом и весь в колтунах. Сидевшая рядом черная кошка с манишкой съездила его по загривку: «Лев – царь зверей, морда ты рваная!»
– Даже если бы и лев, – сказала Майко, – котам и кошкам он не царь. Маленький глупый пес прав, между прочим. Мы – не просто звери, мы – звери, живущие возле людей. И кто его знает, не станет ли он на нас охотиться.
– И на нас, – вздохнул Бублик.
– С другой стороны, – продолжала Майко, сверкнув на Бублика огненным глазом, – тигры тоже кошачьей крови. И кто знает, не должны ли мы защитить его.
– Да от кого же его защищать?
– Ах, от кого же его защищать! – съязвила Майко. – Да от Охотника!
Коты и кошки, кажется, перестали дышать. Стало слышно, как бурчит у кого-то в животе. Охотника боялись все, потому что он бил без промаха и без жалости. Стоило кошкам начать гулять самим по себе – и обязательно наступал судный день, когда по их девять душ приходил Охотник. Он истребил Вокзальных, несколько раз почти под корень изводил Мельничных, он наводил страх даже на Ученых, которых подкармливали вахтерши в университете. Только Домашние делали вид, что не боятся Охотника, а зря – ведь это именно Охотник застрелил знаменитого певца Пряника, старшину Домашних из Заводского района, когда тот всего-навсего пел положенные весенние хвалы солнцу, сидя на абрикосовом дереве.
– Охотник – это страшно, – подала голос беременная трехцветка. – Охотника нам не победить. У него ружье.
«Ружьеее!», «Уууу!», «Горе нааам!» – собрание опять превращалось в адский котелок. Майко потеряла терпение.
– Ша! Тихо, шапки-недоделки! Охотник за вами испокон веков ходит! Вопрос в том, придет ли он за тигром. А если придет, то в чем наш кошачий долг – проводить его к нему или отвадить.
Коты и кошки опять разом умолкли. Старая предводительница говорила немыслимые вещи – что одно, что другое и вообразить было нельзя. Чтобы кошки, вольные кошки проводили Охотника к жертве – пусть даже это страшный дикий зверь и, может быть, пожиратель кошек (черт с ними, с собаками, им собачья и смерть – но по нужде тигр и кошку съест, конечно), – невозможно и представить, и чтобы отвадить Охотника – Охотника! С Ружьем! – тоже невозможно. Что такое кошка против пули? Против хватающей руки в толстенной перчатке? Против ноги в окованном железом ботинке?
– Нам надо решить, – сухо сказала Майко, оглядывая своих собратьев. Бублик в углу смотрел на нее с восхищением – рысья морда с длинной переносицей делала старуху похожей на собаку. – Надо решить, кем мы будем считать этого тигра. Нам нужно поговорить с ним. Делегатами…
«Агрр», – послышалось откуда-то у нее из-за спины. – «Агрр».
Позади Майко была большая железная дверь, давно заложенная на засовы. И в эту дверь кто-то, судя по всему, очень большой, очень… сильно пахнущий лесом, дикой жизнью, сыростью и кровью – скребся и негромко говорил свое «агрр».
– Откройте, – хрипло крикнула предводительница. – Впустите его!
Коты гирляндами повисли на засовах. Скрежет раздался ужасный. Мотыль примерился было, но там и без него хватало рыжих, черных, полосатых и пятнистых. Бублик прикрыл морду лапой. Ворота, скрипя, приоткрылись, и из тьмы в подсобку вошел тигр.
Он должен был пройти по ночной окраине – малонаселенной сейчас, но все-таки… Он должен был пробраться по пустому торговому центру. И он каким-то образом знал, что его ждут.
Тигр полосатый. Дикая тварь из дикого леса, ну ладно, из перелеска, пришел незваный – или все-таки званый? – на совет котов. И положил перед Майко принесенную в пасти рыбу.
Кошки метались еще какое-то время туда-сюда, сверкали глазами, топорщили усы и подвывали. Тигр сидел тихо, и они наконец увидели, что он худой и старый. Снова все затихло, и только слышно было, как беременная трехцветка потихоньку ест рыбу.
– Он плохо говорит по-нашему, – сказала Майко. – Я не знала, придет ли он, если нет – мы пошли бы сами выяснять. Но вот он здесь, и, кажется, мы ему нужны.
Охотник оставил машину у дороги в перелеске и теперь взбирался на гребень карьера. Тигра видели там, у пруда. Чепуха какая – сбежал из бродячего зоопарка, кто бы подумал… С другой стороны, какая разница: зверь есть зверь. Замечали его грибники снизу, сквозь кусты, и купальщики с другого берега – никто верить не хотел, пока не сфотографировали – какое-то грязное пятно у воды, может, они со страху большую собаку за тигра приняли, какие в нашем климате тигры, да еще зоопарки бродячие…
Было ранее утро, еще и солнце не взошло – только сумерки, зеленые, как карамелька. Но пахло тут, конечно, не карамелью. Охотник потянул воздух – кошками воняет, это точно. Бродячие, наверное, собрались. Ничего, я их тоже отправлю к ихнему кошачьему дьяволу… Вот только разберусь… Ноги скользили по сухому грунту. Охотник хватался за кусты, за низкие колючие деревца – на руках у него были толстые перчатки. Он вскарабкался наверх, отыскал более-менее ровное место и устроился там со снайперской винтовкой. Очки ночного видения он сдвинул на шлем, потому что уже рассвело, солнце вот-вот должно было показаться. Он рассматривал пруд и берег – и сердце екнуло. Охотник увидел, как из прибрежных зарослей вышел тигр и стал пить. Только одно мгновение – еще одно, невероятное…
И что-то мягко шлепнуло его по затылку, сбив прицел. И еще раз. Охотник завел руку назад – тигру деться некуда, а вот что это там… Что-то острое впилось ему в запястье выше перчатки. Охотник выругался и приподнялся на четвереньки. Мягкое и тяжелое повисло у него на воротнике, куртка затрещала – раздался противный вой и снова не то когти, не то клыки – на этот раз в шее… Кошки! Те самые, бродячие, смердящие, как сто помоек сразу… Он привык, что кошки – трусоватые создания, мастера прятаться или убегать, кошки не охотятся на людей и не нападают…
Но эти нападали. Зверь прыгнул ему на шлем – облезлый хвост закрыл глаза. Настырные твари повисли на локтях, не давая взять винтовку (впрочем, винтовка против кошек и не годилась, тут бы нож – но кошки как будто понимали – и висели на руках, раздирая их в кровь).
Он отшвырнул троих или четверых, но к нему уже бежали новые, они лезли отовсюду, сверкая глазами, издавая утробный вой, задрав ощетиненные хвосты, как флаги. Охотник схватился все-таки за нож, но тут из кошачьих рядов вдруг выкатилось что-то черное и бросилось на врага. Лай и хриплый клекот, оскаленная до самых ушей пасть, желтые клыки! Охотник был человек жестокосердный, сильный и хладнокровный – но нападения маленькой диванной собачки часто не выдерживали и более храбрые мужи. «Уберите собаку! Уберите собаку!» – завопил он, обращаясь неведомо к кому, взмахнул ногой, потерял равновесие и покатился вниз со склона. Бублик рыкнул ему вслед и взрыл землю задними ногами, столкнув винтовку по другую сторону гребня.
Из кустов выбрался Бисс, слегка помятый и поцарапанный. Снизу подтянулся Мотыль. У него на лапе еще болтался лоскут от охотниковой куртки.
– Он вернется, – сказал Бисс. Этот кот вообще был скептик и маловер.
– Ну и что, – отвечал Мотыль. – Опять прогоним. А зато смотри, как хорошо получилось.