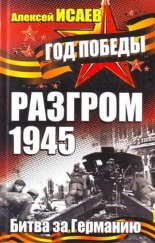Прокотиков (сборник) Фрай Макс
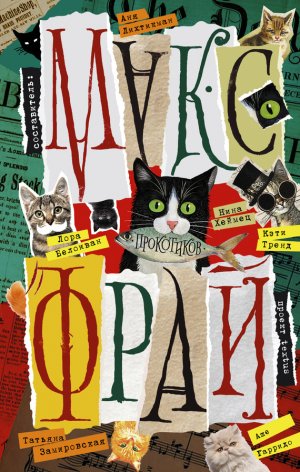
– Уф, – сказала она, – проехала, что ли.
…14 ноября, без свидетелей в нашем с Мариной лице, у Лены получилось слезть с тренажера в те же сумерки, что были в первый раз. Но теперь она едва успела отскочить к обочине, как ее ослепили фары, и мимо, не снижая скорости, промчалась «Хонда-цивик». Дождавшись, пока проедет машина, на дорогу вышел котенок. Лена успела его разглядеть: он был полосатым, он открывал рот и беззвучно мяукал.
В гору она взлетела хоть и тяжелой, но все же птицей.
– Больше не поеду, – сообщила она нам.
– Лена, скажи, что страшного в котенке? Чем может напугать котенок взрослую женщину, вооруженную велотренажером? – допытывались мы.
Лена пожимала плечами, разводила руками и не отвечала ничего путного.
– Он не живой, – говорила она, – у него взгляд как у мертвяка.
– Ему просто холодно, Лена, – отвечали мы, – просто очень холодно.
За котенком съездили мы с Мариной. Поехали на ее машине; предложение Лены отправиться к болотам на ее велотренажере мы отмели, как исчерпавший себя способ обнаружения места.
Точку, в которой Лена каждый раз теряла скорость и вынужденно прекращала крутить педали, мы назначили довольно уверенно и не ошиблись. Котенок появился минуты через две. Он был полосат, он был тощ, он мяукал еле слышно. Марина цопнула его с асфальта как ястреб и сунула в приготовленную на заднем сиденье коробку. Но едва она успела сделать это, как на дорогу вышел еще один котенок. Он был полосат, он был тощ, он мяукал еле слышно. Мы сказали: «ого», и второй котенок отправился в коробку к брату. Третий котенок вышел на дорогу, когда Марина включила левый поворотник, давая понять отсутствующим сзади участникам дорожного движения о своих намерениях тронуться в путь. Четвертого кота мы подождали минуты три: он вышел на дорогу буквально в последний момент, когда мы уже готовы были ехать прочь. Пятый появился вслед за шестым. Седьмой отставал на целых пять минут, но мы каким-то образом уже знали, что он непременно будет. Точно так же мы четко знали, что котята кончились, когда в коробке их сидело уже десять. Десять полосатых тощих котят, непрерывно мяукающих хриплыми истеричными голосами. Но мы все же выстояли на трассе контрольные двадцать минут, проверяя окончательность цифры «10».
Пять котов живут в нашем доме, пять в доме Марины. Они выросли, заматерели и даже были стерилизованы – от греха подальше. Лена категорически отказалась принять свою долю котов, хотя мы были согласны отдать ей меньшую часть, оставив себе по четыре зверя.
Кроме того, Лена больше не дружит с нами. Сперва она прекратила приезжать в гости к нам и к Марине, объясняя это тем, что полосатые наши котята напоминают ей о котенке, который напугал ее, выйдя на трассу к велотренажеру. Нет, ссоры не случилось: мы же взрослые люди, и никакие события не смогут заставить нас выяснить несовместимость отношений к жизни вслух. Просто вскоре мы перестали встречаться даже всяким случайным образом – в магазине ли, на заправке или где-нибудь еще, где чаще всего встречаются односельчане, бросаясь друг к другу с поднятыми руками и возгласом «бааа, кого я вижу». Так само получилось. Иногда нам не хватает ее компании, но даже тогда мы не предпринимаем никаких действий по восстановлению контактов: дороги сами знают, когда кого куда вывести. Тем более, мы с Мариной втайне, не признаваясь друг другу, негодуем на Лену за то, что она не подобрала того первого котенка. Хотя с ним все в порядке.
С ним действительно все в полном порядке. Дело в том, что все наши десять котов совершенно идентичны друг другу. У них одинаковое коричневое пятнышко на зеленой радужке левого глаза, одинаковый микроскопический шрам на правом ухе и одинаково отмороженный кончик хвоста. Наш кот просто очень хотел выжить там, на болотах, и выжить у него получилось немного чересчур хорошо. Но это не повод его бояться, совершенно не повод.
Оксана Санжарова
Кошка, которая приходит всегда
Мой первый Амстердам был пасмурным, мой первый амстердамский дом – в рабочих кварталах – многоподъездный, красный, с узкой лестницей. Возле нужной квартиры висел паззл с картины Брейгеля «Перепись в Вифлееме». Сразу за дверью нас ждала кошка.
Конечно, когда-то она была черная. Теперь черный цвет протерся до серовато-бурого – там проплешина, тут – седина, здесь – все вместе.
– Это Блэки, – сказала мне подруга, – будь с ней вежлива.
В моем доме жили три кошки, и я считала, что умею быть вежливой. Я присела на корточки и протянула руку. Блэки хрипло мяукнула и укусила меня единственным зубом.
Черт знает сколько лет назад ее хозяйка, улетая политическим эмигрантом с «привкусом горчайшего «навсегда»(с), нарушила все возможные правила и протащила черного котенка в самолет Москва – Амстердам. В Амстердаме Блэки страшно понравился наполнитель для лотка, специальная дерушка для когтей, пахнущая мятой, и мелко резанная сырая печенка из супермаркета, обещавшая «вашим питомцам долгую и плодотворную жизнь». Эту жизнь Блэки провела, слоняясь по четырем комнатам квартиры на окраине, воспитывая младшего человеческого котенка и дремля на диванах и спинке кресла. На момент нашего знакомства ей исполнилось шестнадцать лет, она ходила грациозно и жестко, как старая балерина с артритом, а на облысевшем пузе прощупывалась неоперабельная опухоль. Ночью она пришла спать на мои ноги. «Предательница», – беззлобно сказала подруга.
Эта игра продолжалась две недели – Блэки неизменно кусала протянутую руку, но иногда, зачитавшись в кресле, я чувствовала на шее или затылке ее короткое сухое дыхание, а потом – невесомое прикосновение лапы к волосам. Последнюю амстердамскую ночь она вновь спала на мне.
Я вернулась в Голландию через два года. Блэки умерла за год до этого – подруга похоронила ее в саду под Утрехтом, завернув в свою шаль. Через два дня, сидя у окна, я ощутила короткое прикосновение, волосы натянулись, зацепленные когтем, шею тронуло призрачное дыхание, глаз уловил движение черной тени на пределе бокового зрения.
Я чувствовала ее присутствие все двенадцать оставшихся дней. В нем не было ничего пугающего – все та же привычная дружба-вражда, только лишившаяся возможности протянуть руку и опасности получить укус.
Я прилетела домой, и подруга позвонила мне когда еще не все барахло из чемодана было разобрано.
– Сколько у тебя сейчас кошек? – не здороваясь, строго спросила она.
– Четыре, – ответила я быстрее, чем успела подумать.
– Ты украла у меня кошку, – сказала подруга, и мне показалось, что она, конечно, немного ревнует, но рада – теперь можно взять нового котенка.
Моим зверям Блэки не помешала – этот мини-прайд был слишком занят внутренними разборками, чтобы отвлекаться на призрак, который, к тому же, ничего не ест.
Правда я заметила, что они перестали гнездиться на диванном валике, который выбрала Блэки, – с него было удобно напоминать о себе прикосновением к плечу и волосам.
Потом мой питерский дом внезапно кончился, и я сбежала из него, захватив ребенка, чемодан вещей и немного денег – и не взяв ни одной из реальных теплых кошек. Правда, старшая из них не была моей, а младшую я недостаточно любила, но и средней вполне хватало, чтобы ощущать себя предателем.
Потом был чужой дом с закутком за шкафом, съемная квартира, в которой я раз в неделю собирала вещи, чтобы сбежать, неуютная комната у друзей, и я уже решила, что Блэки, как и подобает кошке, осталась с местом, а не с человеком, но однажды, в только что снятой квартире на Молодежной, на полу кухни я вдруг увидела ее – она каталась на спине, ловя лапами солнечные пятна.
Она осталась со мной еще на два года, а потом, когда в доме завелся живой кот, стала почти незаметна. Сейчас у меня нет ни одного кресла с высокой спинкой, с которого так удобно трогать волосы, но иногда я ощущаю дыхание, мягкий бок на секунду прижимается к ноге. Тогда я не смотрю вниз, но оборачиваюсь, чтобы увидеть то, что знаю и так – мой кот мирно спит на столе.
Екатерина Перченкова
Обстоятельства места
Тревожнее всего в комнате Полины было то, что над письменным столом висела фотография другого ребенка, выцветшего мальчика в джинсовом комбинезоне и голубой шапке с помпошкой, ради удачности кадра помещенного в самую середину весенней, не оттаявшей еще песочницы.
Комната была огромная, недетская, да и вообще нежилая: предметы мебели располагались у стен как бы в случайном порядке, и на существование здесь девочки указывала только коротенькая кровать, застеленная пушистым бежевым покрывалом. Письменный стол мог принадлежать и взрослому, во всяком случае около него стояли два взрослых стула, разлученных с полированным чешским гарнитуром. Ни куклы, ни медвежонка, ни брошенной на кресло яркой футболки, ни книги в цветной обложке. Вряд ли Полина сама поддерживала этот ожесточенный порядок в недетской своей обители, скорее бабушка.
…Тане как было дико в первый визит, так и осталось полтора года спустя: три человека живут в давно не ремонтированной квартире, комнату большую занимает ребенок, все свободное время они тратят на то, чтобы уничтожать следы своего присутствия в помещении. Всякая вещь кладется на место, случайно подвинутая – немедленно возвращается в прежнее положение, чашки с недопитым чаем стремительно уносятся на кухню, и даже на лестничной клетке пахнет чистящим порошком.
Особенно усердствовала бабушка, она встречала Таню с намоченной тряпкой – и, не дав толком разуться, принималась вытирать под ногами. Это оказывалось как-то особенно обидно, словно вместе с уличной грязью Таня принесла на сапогах опасную заразу и не укоряют ее только из вежливости. От обиды она всякий раз начинала сочинять отстраненную формулу: «к сожалению, сегодня будет наше последнее занятие с Полей, обстоятельства…» – и всякий раз к концу занятия передумывала.
Дело определенно было не в Полине, никакой особенной любви Таня к ней не испытывала. Нескладная, некрасивая и невоспитанная, она относилась к той породе детей, которая не внушает родительских чувств (или хотя бы простейшего умиления) никому, кроме собственной родни. Вертлявая, черноглазая, с узеньким старушечьим или даже обезьяньим личиком и скошенным подбородком, с торчащими крупными зубами и вечно заложенным носом, она не имела ни малейшего шанса вырасти хотя бы капельку симпатичной девицей. Таня не жалела ее за это: не всем быть красавицами, в конце концов, да и умницами не всем.
Класс коррекции, однако, Полине не грозил. Худо-бедно, но она справлялась с домашними заданиями, по математике иной раз получала неплохие отметки, но с чудовищной ее безграмотностью Таня вела войну второй год подряд. Ей уже становилось неловко: что толку от репетитора, если учительница в который раз говорит бедной Полиной маме: «Конечно, мы натянем ей троечку, но сами понимаете…». Эта натянутая троечка была тем обиднее, что словарь девочки казался живее и обширнее, чем у других десятилетних. Но способностей к чтению и письму – равно как и усердия к ним – ей, должно быть, не досталось от рождения.
К середине занятия Таня обыкновенно была готова взвыть. Диким зверем, очень бешеным. Полина роняла карандаш, потом ручку и линейку, лезла за ними под стол, находила там прошлогодний окаменелый ластик, возила им по паркету и пробовала на зуб, а потом возвращалась к тетради как будто вынырнувшая из воды, недоуменно глядела на недописанное слово и завершала его как в голову придет. Потом за окном раздавался звук – любой – и нужно было срочно посмотреть, что там. Потом у нее вдруг болел палец или нос, и надо было немедленно попить и в туалет.
Уже на третьем занятии Таня к стыду своему обнаружила, что сейчас ахнет кулаком по столу и начнет орать, потеряв всякий человеческий облик. Она взяла себя в руки и даже не повысила голос, а только вдохнула глубоко-глубоко и медленно выпустила свистящий воздух сквозь сжатые зубы.
И тогда кто-то протопотал по коридору, просунул под дверь круглую белую лапку и потянул на себя. Дверь подалась.
– Это Фредерика! – восторженно сказала Поля. – Она идет греться под лампой.
Поля не выговаривала «р», у нее получалось «Фхедехика».
Фредерика бесшумно прошла через комнату, обнюхала Танины ноги и вспрыгнула на стол. И села, действительно, под лампой – маленькая, легкая, пушистая, от лампы такая золотая, что Таня не сразу поняла ее настоящий черепаховый окрас. Поля тут же сдвинула все карандаши и ручки в угол стола – потому что кошка их сбрасывает, – и тут же передумала идти попить – потому что кошка тогда побежит следом, а пускай лучше сидит на столе, так интереснее.
Присутствие кошки оказалось спасительно для занятий. Пока Фредерика грелась под лампой, Поля отвлекалась, но только чтобы взглянуть на нее. И Таня отвлекалась тоже, как тут не отвлечься – кошка была удивительно хороша. Детская еще, котеночья мордочка, рыжее пятнышко на розовом носу, разноцветная пуховая шерстка, беленькие грудка и лапки. Глаза драгоценной, старинной зелени, не прищуренные, а только с готовностью прищуриться, которая Таню особенно очаровывала.
Кошки не любят, когда на них смотрят в упор, но Фредерика оставалась безразлична к прямым взглядам и равнодушна к Таниным попыткам погладить ее – не тянулась за рукой и не мурчала, как будто вежливо терпела прикосновения, – и Таня вскоре отказалась от этих попыток, оставив себе только любование. Она все жалела, что Фредерика приходит под лампу не каждый раз, а без нее занятия остаются сущим мучением.
Не из-за кошки же я к ним хожу, – думала она, вспоминая и улыбаясь. Таня не много брала за занятия, недостатка в учениках у нее не было, чтобы не выбрать тех, кто способнее или живет ближе… Но она все возилась с невыносимой Полей.
Не только из-за кошки, конечно.
Если бы чувству, которое Таня в себе обнаружила, было название, оно оказалось бы сродни любопытству. Болезненному любопытству даже не свидетеля катастрофы – он-то в своем наблюдении не волен, – а человека, намеренно смотрящего страшную видеозапись. Поля, и Полина мама, и бабушка, и странный их дом интересовали Таню так же, как подростка интересуют заброшенные строения, фотографии мертвецов, мутанты и радиация. В неуютных этих стенах с выцветшими обоями, за темными стеклами полированных шкафов, в горах упорядоченного и отчищенного хлама жила тайна – скорее постыдная, чем прекрасная, творилась невидимая маленькая история, и Таня хотела знать, чем все кончится.
Когда с первого занятия минуло почти два года, Поля наконец получила четверку по русскому. И то, что годовая все равно вышла тройка, не омрачило радости. Отметку праздновали чаем и вафельным тортом, занятия никакого не получилось: Полю ожидала дача, и мыслями она была уже там, поминая то речку, то старших мальчишек с мопедом, то соседских цыплят. Такой простой был чай и такой неудивительный торт, такое солнце за окнами, что Таня, покосившись на фотографию над столом, впервые подумала: а вдруг это Поля сама ее повесила. Вдруг это детский ее товарищ или какой-нибудь мальчик с дачи. И сразу поняла: конечно, нет, Поле не разрешили бы. Фотография – это слишком явный знак человеческого присутствия, а мама с бабушкой так боятся его, что дай им волю – сами себя вычистили бы из дома с порошком и вытерли бы следом сухой тряпочкой.
Фредерика пришла проверить, что это без нее едят, разочаровалась и разлеглась под солнцем наподоконнике.
– А когда я была маленькая, – сказала Поля, вгрызаясь в торт, – она была ростом с меня, если встанет на задние лапки. И мы танцевали вальс.
– Да ты что? – изумилась Таня, уверенная, что Фредерика появилась здесь незадолго до ее собственного появления. – Сколько же ей лет?
– Не помню. Бабушка говорила, но я забыла. Когда я родилась, она уже была.
Стоя в коридоре, попрощались до сентября. Таня отчего-то впервые заметила, что у Поли красивая мама: те же черты, что придавали девочке сходство со старой обезьянкой, во взрослом лице складывались удивительно гармонично. И обрадовалась: все-таки вполне вероятно, что Поля вырастет если не красавицей, то хотя бы миленькой.
А потом забыла о них на все лето, вообще обо всем на свете блаженно забыла, выпустив свой девятый «А» и с головой провалившись в отпуск. Вспомнила только под самый конец августа, когда принялась обзванивать родителей учеников, чтобы составить план занятий на осень. День стоял пасмурный, за окнами все ходили в куртках – с утра было всего одиннадцать градусов, с неба то и дело просыпалось немножко мелкого дождя.
– Фредерика, – сказала Таня шепотом, щурясь в серое стекло. Сразу потеплело.
Полина мама встретила ее в дверях одетая, попрощалась и ушла по своим делам. У нее было измученное осунувшееся лицо и круглый живот, совсем незаметный в мае. Таня обрадовалась за Полю, у которой вскоре должен был появиться товарищ в этом печальном царстве постоянно убирающихся взрослых.
Но радость оказалось кратковременна: с первого же взгляда стало ясно, что летом с Полей произошло нечто нехорошее.
Необъяснимо стыдясь, Таня вновь почуяла в себе щекотный азарт любопытного подростка. Тайная история, слабо тлевшая в этих стенах, вдруг ожила, загорелась и раскрутилась, нечто сдвинуло ее с мертвой точки, сдвинуло – и всей своей нечеловеческой силой задело Полю: за три месяца она стала словно бы худее и меньше ростом, сквозь летний загар прорезалась глухая болезненная желтизна, в движениях появилась несвойственная ей прежде медлительность, даже неуверенность.
Это страшное нечто Таня, ни секунды не сомневаясь, определила как смертельную болезнь – или печаль, но тоже смертельную.
Для занятий медлительность девочки была скорее хороша, но Таня, привыкшая к прежней непоседливой Поле, каждый урок проводила в состоянии очарованного испуга, вглядываясь в знакомое и чужое одновременно детское личико, с которого постепенно – истаивая от встречи к встрече – пропадали слабые следы улыбок и слез, исчезали едва намеченные контурные карты будущих морщинок; на котором однажды вдруг появились очки в желтой пластмассовой оправе – детские, девические, модные, моментальным контрастом выявившие врожденную старость ее лица. Таня то и дело порывалась спросить у взрослых, что случилось с Полей, но останавливала себя: будь то болезнь или нехорошее происшествие – ей знать не положено.
– Белое, – сказала однажды Поля, не поднимая головы от тетрадки. – Пьют с кофе, ну?
– Сахар? – спросила Таня.
– Фредерика тоже пьет.
– Молоко?
– Молоко, – ровным голосом повторила Поля. – Да. Забыла.
Все-таки болезнь, – подумала Таня и даже не опечалилась. Сама себе удивлялась и ругала себя, но происходящее с девочкой было словно бы частью естественного хода вещей, частью той истории, в которой Тане доставалась роль завороженного наблюдателя и не более.
Последнее занятие было в конце октября, то есть его не было; Таня позвонила в дверь, а бабушка открыла с мокрыми глазами, и сердце противно запнулось: вот сейчас она скажет: Поля…
Но бабушка вздохнула тяжело и мучительно, будто всем телом, и пожаловалась: Фредерика ушла.
Таня так и ахнула.
– Я, наверное, мусор выносила, не закрыла дверь. Четвертый день ищем. Завтра сантехники мне обещали открыть подвал, там посмотрю… Нет ее там, конечно. Ушла.
– Как же так… – сказала Таня.
– Она уже уходила один раз. Давно. Тогда вернулась. А теперь…
Таня оглянулась вокруг – на полутемный коридор, на чистое, без малейшего пятнышка, старое зеркало, на белую дверь, ведущую в кухню, и с подступающими слезами ощутила, что дом этот без Фредерики не содержит никакой притягательной загадки: он ужасен, он чудовищен, в нем все старое, все негодное и все стерильное, в нем живут две психически нездоровых женщины, одержимых уборкой, и девочка, у которой нет игрушек и детских книжек и которая, наверное, скоро умрет. Хотела было отговориться, уйти, просто уйти и никогда не вернуться больше, но Полина бабушка поглядела на нее умоляюще и сказала: хотите чаю? Давайте попьем чаю. Поля сейчас все равно…
– Да, – сказала Таня. Все равно… Значит, чаю.
Полина мама нашла Фредерику под жасминовым кустом, в который свалилась, возвращаясь со школьного выпускного на непривычных каблуках и после непривычного шампанского. Кошка не бросилась бежать, а уставилась на девочку с любопытством – и та не нашла ничего лучше, как сгрести ее в охапку и притащить домой. Это был первый решительный поступок в ее взрослой жизни: котенка она безнадежно выпрашивала, сколько себя помнила. Мама – то есть Полина бабушка – повздыхала над моральным и физическим падением дочери, отмыла обеих с шампунем, и стали они жить-поживать втроем. Фредерикой кошку назвали в честь героини мексиканского сериала, избавив таким образом от скучной необходимости быть Муськой или Баськой. Кошка была взрослая, в роскошном ее трехцветном хвосте виднелась седая шерсть.
Полина мама тем временем совершила второй решительный поступок: забеременела от однокурсника. Семьи не вышло, но мальчик получился – загляденье: кудрявый, ясноглазый, бойкий. К двум годам он вдохновенно лепетал на птичье-человечьем суржике, носился как заведенный и разбирал на мелкие детальки все, что только возможно, а к трем вдруг начал забывать слова и движения, будто бы стал расти в обратную сторону, внутрь себя. Врачи сказали, что его организм не умеет усваивать какие-то важные элементы и починить такую поломку нельзя, это дурная наследственность, семейное проклятие, если хотите…
Полина мама сидела в обнимку с Фредерикой и ревела целыми днями.
Полина бабушка призналась, что семейное проклятие существует: прадедушка с прабабушкой были двоюродные, думали, обойдется, а вот не обошлось.
А потом Фредерика ушла.
И Полина мама ушла тоже: надела красивое платье, нарисовала себе красивые глаза поверх зареванных и хлопнула дверью. Вернулась неделю спустя, и еще два месяца ходила за угасающим мальчиком, и вела под локоть рыдающую в голос бабушку с его похорон, и дома, усадив ее на кухне и накапав в рюмочку корвалола, призналась, что внутри у нее Поля.
Фредерика вернулась за месяц до Полиного рождения: бабушка пришла из магазина – а она сидит на коврике у двери, умывает мордочку. Подхватила ее скорее, забрала в дом, а там при свете разглядела и подумала: господи, это же другая кошка! У нашей был хвост седой, а у этой нет. Эта вообще почти котенок. Потом присмотрелась – у нашей пятнышко рыжее было на носу, и у этой есть. Зубик был справа сколотый, и у этой тоже. И пальчики на задней лапке цветные: на других лапках все розовые, а тут два черных. А Полина мама как увидела – вцепилась в нее и едва ли не месяц, до самых родов, протаскала на руках, спала с нею в обнимку и все плакала, плакала, но уже не от горя, и не от радости, а просто так, потому что старая жизнь кончалась, и нужно было выплакать ее остатки, прежде чем начнется новая.
И действительно началась новая жизнь, и до недавнего времени казалось, что с Полей все идет хорошо, а этой весной маме стало чудиться, что Фредерика все время глядит на нее сочувственно, будто бы жалеет. Поля еще была разрушительной непоседой, еще неощутимо было прикосновение семейного проклятия, а мама уже знала, что и в этот раз не обошлось ничего.
Таня ушла домой – и не скоро, но что-то спасительно переключилось в ее голове: о Поле она совсем больше не думала, и о бедной ее маме, и о бабушке. С тех самых пор, как занималась с другой, непохожей, смышленой и здоровой девочкой, и вдруг поняла, что мучительно хочет увидеть Полю, какая она сейчас. Какой там срашный почти уже никто в обыкновенном теле десятилетнего ребенка. И тогда признала, что сама себя пугает этим любопытством к смертельному повреждению, что не хочет знать себя такой, сделала усилие – и не вспоминала больше.
Зато каждая кошка – и уличная, и прикормленная в магазине, и у кого-нибудь в гостях – напоминала о Фредерике, которая теперь существовала в памяти как бы отдельно от несчастной семьи. Прежде Таня выходила на улицу после занятий, унося в глазах сидящую под лампой Фредерику, свое несостоявшееся прикосновение к ее золотому пуху, и сердце у нее тихонько светилось, и теперь, стоило замедлить шаг и прислушаться, чувствовался внутри опустелый печальный след этого свечения.
Полина бабушка позвонила однажды в конце августа, и Таня не сразу ее вспомнила. Точнее не соотнесла голос в трубке – бодрый, привычно деловитый – с тем, какой растерянной запомнила ее в последний раз.
– Такое дело, Танюша, – с ходу начала бабушка, – Поля пропустила в школе год, разленилась невероятно, а сентябрь на носу, и вот мы боимся… Не нашли бы вы для нас время?
Поля жива, – чуть не сказала Таня вслух, не успев ощутить ни облегчения, ни радости, только одно огромное удивление.
…Все в этом доме стало иначе: уже за дверью, на лестничной клетке, начинался незнакомый прежде запах жилья. В коридоре, оклеенном новыми обоями, не было больше старинного трюмо, а висело зеркало в хитроумной раме, и на полу стоял большой пластмассовый самосвал с красным кузовом. Выбежали – поглядеть, кто пришел – вихрастый малыш, совсем не похожий на сестру, и веселый серый котик.
Поля жила теперь в маленькой комнате вместе с бабушкой. Она подросла, у нее округлилось лицо и стала совсем девическая фигурка; она проколола уши и носила смешные желтые сережки-смайлики. Заниматься пришлось на кухне, потому что все прочие пространства оказались заняты мамой, братиком, бабушкой и телевизором, но это получилось даже неплохо, с чаем и печеньем дело шло куда веселей.
Все было хорошо. Таня постоянно оглядывалась кругом, запоминая приметы спасенного дома: дома, где должно было стать очень плохо, но почему-то вышло иначе.
Только Фредерики не было.
– Я ее увезла, – призналась Полина бабушка, выйдя однажды провожать Таню. Наверное, потому призналась, что продолжала чувствовать связь со свидетельницей минувшего несчастья и считала необходимым объясниться. – Она вернулась, а я ее увезла. Все точно как в тот раз: прихожу из магазина, а она сидит на коврике. И у меня прямо сердце к ней рванулось.
И тут я поняла – только не смейтесь, Танюша, – что она была послана нам в утешение. Горя нам досталось много, без нее мы не справились бы. Я бы – так точно умом тронулась. А человеку ведь не дается того, чего он перенести не может. И я подумала: если она жалеть нас не станет – может, и горя лишнего не будет. Взяла ее в сумку и повезла к сестре моей в Луховицы. Она меня старше, ноги еле ходят, глаза видят плохо, мужа похоронила в том году, тяжко ей. Привезла, высадила из сумки, говорю: теперь здесь живи, утешай, а мы сами справимся. И своим не сказала, что она возвращалась.
Такие вот дела, Танюша. Придумали для Поли лекарство, оказывается. Пока пьет – все с ней в порядке. Она другого котика выпросила у матери. Андрюша вот родился.
А я все ее вспоминаю, знаете, особенно ночью, как она иногда под бок уляжется… Таня, Таня, как же я ее любила…
Ничего не происходило больше в этом доме, кроме обыкновенной жизни, и обыкновенность вдруг стала отзываться в Тане смутным чувством опасности. Когда поблизости не творилось ничего такого особенного – из тех вещей, что обычно бывают с другими – это особенное могло случиться с самой Таней, и было бы хорошо избежать его.
И наконец, вскоре после осенних каникул, она сказала бабушке придуманное давным-давно: к сожалению, сегодня будет наше последнее занятие с Полей. Понимаете, обстоятельства…
Александр Шуйский
Кошкины слезки
Вокруг меня всегда очень тихо. Может быть, поэтому она пришла именно ко мне.
Когда мне хочется разбить тишину, я вытягиваю губы трубочкой и издаю тонкий свист, который слышат только собаки и летучие мыши, но ближайшая собака живет тремя этажами выше, а летучих мышей в нашем доме нет.
И когда она появилась у меня на лестничной площадке, я вытянул губы и присвистнул – такая тощая и жалкая она была с виду.
– Не кричи, – сказала она, недовольно морщась. – Могу я войти? Я хочу есть и пить, а у тебя полный пакет еды.
Я растерянно взвесил в руке пузатый пакет из универсама и принялся искать ключи по карманам.
– Конечно, – сказал я. – Только у меня неприбрано.
– Ерунда, – сказала она с видом царицы Савской и зашла в дом.
Мы разделили на двоих куриную печенку с картошкой – картошка мне, печенка ей, – она из последних сил залезла на диван, пробормотала «прошу прощения» и заснула на сутки.
Пока она спала, я прошелся по магазинам – мое холостяцкое жилье было совершенно не приспособлено для женщины. Проснувшись, она оглядела мои покупки, фыркнула, но тут же перепробовала все обновки.
– Наполнитель купишь впитывающий в следующий раз, – распорядилась она. – И блох у меня нет, можешь не распечатывать этот зеленый ошейник. А так все хорошо.
Мое утро всегда начинается с кофе, даже если оно начинается в четыре часа дня. Ночью я обычно работаю – переводы, таблицы, платят не слишком много, но это можно делать из дома, а общаться с заказчиком только почтой. За срочность платят больше, и я часто ложусь не когда стемнеет, а когда закончу. После этого мне нужно отоспаться, а проснувшись, сварить кофе. Не рабочий допинг наспех, который лишь бы покрепче, а настоящий, сваренный на «три воды», с корицей и мускатом.
Она вошла на кухню, как только стихла кофемолка. Я выложил ей еды, она быстро и аккуратно поела, потом молча ждала, пока я не сцедил себе черную жижу в чашку и сел, и только после этого вспрыгнула мне на колени.
– Мне, в общем, только бы отоспаться, – сказала она накануне вечером. – Я поживу у тебя дня четыре?
– Может быть, останешься? – сказал я тогда робко.
– Ну, может быть, – протянула она. – Еще не знаю. Как получится.
А сейчас я прихлебывал кофе, гладил ее по пестрой трехцветной шерсти, чувствуя каждый выпирающий позвонок, и думал, как бы спросить, что она решила.
Но заговорила первой она:
– Ты ведь не станешь спрашивать, как меня зовут? Вы всегда даете кошкам свои имена.
– Не стану. Если только ты сама не захочешь.
– Тогда придумай что-нибудь.
Я рассмеялся и сказал: «Сара, конечно». – «Почему Сара?» – «Потому что Царица Савская».
– А, – сказала она и зевнула. И принялась вылизываться.
Кошки всегда вылизываются, когда не хотят говорить или не знают, что сказать. Точно так же люди начинают теребить на себе одежду, или курить, или чесаться, или разглядывать ногти. Я посмотрел на свои ногти и подумал, не обидел ли ее чем-нибудь, но мы оба промолчали.
Когда я собрался в магазин, она потребовала выпустить ее во двор. «Я скоро вернусь», – сказал я. «Угум», – сказала она и быстро лизнула переднюю лапу. Из подъезда мы вышли вместе, она исчезла за углом, даже не оглянувшись.
Я не должен был этого делать, но я пошел за ней. В спину не дышал, конечно, отставал на один поворот, но в наших проходных дворах легко проследить, куда идет кошка, ведь она всегда останавливается перед каждой подворотней, а их много. Она прошла четыре двора насквозь, пересекла узкую улицу, вошла в арку напротив, нырнула в кусты и исчезла. Этот двор не имел сквозного прохода, она могла уйти только в подвал. Я огляделся, запоминая место: четыре подъезда, чахлый газон с сиренью и акацией, пять машин на тесном пятачке, единственный тополь и скамейка под ним. Надеюсь, она скажет мне, если у нее тут котята, подумал я.
Я выбрался из двора и на всякий случай зашел в соседний. Так и есть. Один из подъездов, заколоченный с той стороны, был открыт с этой, окна лестницы выходили как раз на двор с тополем. Я поднялся на второй этаж и присел на подоконник. Сара сидела под скамейкой с таким видом, будто была здесь всегда, с сотворения мира. Подожду немного, подумал я.
Мы ждали около трех часов. Уже начинало темнеть, когда Сара зашевелилась под скамейкой. В арку стремительно вошла молодая женщина с двумя набитыми пакетами в руках. Сара высунула нос, следя за ее проходом через двор, проводила взглядом до самого подъезда, но выходить не стала. В квартире на втором этаже зажегся свет, в открытое окно кухни донеслось звяканье посуды, а через несколько минут запахло горячим маслом. Сара вскочила на скамейку, чтобы разглядеть окна получше. Хозяйка хлопотала на кухне, даже, кажется, что-то напевала. В кухню вышел мужчина, подошел к ней и обнял со спины. Сара соскочила на асфальт и ушла со двора.
Когда я вернулся с продуктами, она уже сидела у моих дверей, тщательно умываясь.
Поздно вечером она пришла ко мне на письменный стол и заглянула в монитор.
«Что ты делаешь?» – «Перевожу. С английского на русский».
Я видел, что она удивлена и заинтригована.
– Переводишь людей для людей? Бедный. – Она даже слегка боднула меня в плечо в знак сочувствия.
Я поспешил ее утешить:
– Ну, что ты. Я же не вижу тех, кого перевожу, и тех, для кого перевожу. Мне не нужно жить в двух мирах, как вам. Для вас это вопрос жизни и смерти, а для меня – только заработка.
– Но ты все равно знаешь, – возразила она, спрыгнула со стола и ушла на кухню.
Кошачье племя – прирожденные переводчики, они живут на границе между «есть» и «могло бы быть», видят оба мира разом. Любой котенок очень быстро учится слышать разницу между тем, что люди говорят и что имеют в виду, потому что под самым простым «кис-кис-кис» может скрываться все, что угодно, от «иди сюда, я тебя покормлю» до «у меня есть консервная банка, и я хочу привязать ее к твоему хвосту». Те, кто не учится, просто не выживают.
Я закончил главу, встал из-за компьютера и вышел сварить себе кофе. Сара умывалась на диване.
– Извини, что я спрашиваю, – сказал я. – Но ты… ты пыталась переводить людей для людей?
Она продолжала тщательно мыться. Но в конце концов ответила:
– Я просто ушла.
Каждый день в одно и то же время она просила ее выпустить. Я знал, куда она ходит – встречать хозяйку. Иногда она пропадала на день или два, и я не находил себе места. Иногда ходил вслед за ней и видел ее во дворе, под неизменной скамейкой. Иногда не видел. Однажды, сидя на своем посту в подъезде, я не дождался Сары, но дождался ее хозяйки. На скамейке сидела бабушка, она приветливо кивнула соседке:
– А я тут давеча вашу Глашеньку видела, прям вот тут, под скамейкой, – сообщила бабка сладким голосом. – Сидела она тут, сидела, а как Игорек-та начал тебя снова честить на все лады, так она и ушла. Я ей кис-кис, иди домой, а она – в подворотню, только ее и видели.
– Бабаваля, – устало сказала женщина, – сколько раз я вас просила.
– Да что «бабаваля», – беззлобно огрызнулась бабка, уже ей в спину. – На весь двор же орал, дармоед несчастный, глухим надо быть, чтобы не слышать, согнала бы ты его, не пара он тебе, или хоть подстричься бы заставила, что ли, взрослый мужик, а патлы, как у хиппи, простихоссподи… Вот видела бы это твоя матушка-покойница, царствие ей небесное, мученице…
В другой вечер и я стал свидетелем такого скандала, действительно, кричали они на весь двор, ссорились самозабвенно, по-итальянски, с грохотом посуды и плюхами. Я не кошка, но даже мне было понятно, что оба берут силы в этих ссорах. Я уже собрался уйти, как вдруг увидел, что длинноволосый Игорь выскакивает из подъезда, бранясь себе под нос: «У-у, ссука, дура гребаная». В открытое окно вылетела спортивная сумка, от удара об асфальт на ней лопнула молния, вывалились какие-то тряпки. Игорь подобрал сумку и еще минут пять кричал в окно бессвязные ругательства. Наконец он ушел, а во двор вышла хозяйка Сары. Она принялась обходить кусты, повторяя: «Глаша, Глашенька». Голос у нее был заплаканный. Обшарив двор, она ушла в соседний, громко призывая свою кошку, и я поспешил домой. Сара не появилась – ни тем вечером, ни через день, ни через три дня.
Я увидел Сару только неделю спустя. Как ни в чем не бывало, она сидела у моей двери. «Зайдешь?» – спросил я. «Зайду», – с достоинством ответила она. Но переночевав, ушла снова.
Я сам начал ходить в тот двор и сидеть в нем часами. Работа не клеилась, я брал только мелкие тексты, от которых спешил отделаться. Меня спасал опыт и привычка к тому, чтобы всегда «быть на хорошем счету», в качестве мои переводы не теряли, только в количестве. Я работал по ночам, утром спал, а вечером приходил на свой подоконник. В квартире зажигался свет, тянуло стряпней, пахло размеренной, спокойной жизнью. Сара иногда сидела на окне и щурилась – олицетворение домашнего уюта. Я уговаривал себя, что прихожу убедиться, все ли с ней в порядке. Но когда однажды поздно вечером во дворе появился Игорь, все с той же набитой сумкой, подстриженный и чисто выбритый, я признал, что лгал себе все эти дни.
Блудный сын был принят без возражений. Я просидел на подоконнике почти до утра, но ничего не дождался.
…Сара появилась у меня через два дня, грязная и взъерошенная. Несколько дней она только спала и ела, а когда я ее гладил, то чуял самый скверный запах, который может исходить от кошки: жирной влажной земли и свалявшейся шерсти. Так кошки пахнут, когда собираются умирать. Все это время она молчала, я тоже не донимал ее расспросами. Но на радостях делал по десять страниц в день.
Когда скверный запах исчез, Сара снова попросилась на улицу. Я выпустил ее и пошел следом.
Она не стала забираться под скамейку, а села прямо в темном проеме подъезда, и сидела так до тех пор, пока не появилась хозяйка. Та поставила на асфальт пакет и молча уставилась на свою кошку. Сара ждала.
– Явилась? – наконец произнесла хозяйка. Сара встала и неловко потерлась о ее ноги.
– Все вы меня ни в грош не ставите, – сказала хозяйка. – Горазды стали приходить и уходить, когда вам хочется.
«Ты бы это не кошке говорила, – подумал я. – А Игорю своему. Нашла, на ком твердость характера отрабатывать».
Сара потерлась настойчивее. Но хозяйка была явно не в духе.
– Иди гуляй дальше, – сказала она. – Давай, иди. Нечего тут делать вид, будто я тебе и правда нужна.
Сара села поодаль и лизнула лапу. Хозяйка подняла сумку и прошла в подъезд. Сара неуверенно шагнула за ней, потом развернулась и побежала прочь. Из подъезда выскочила хозяйка с криком «Глаша!», метнулась обратно, звеня ключами, я услышал, как хлопнула дверь, а потом хозяйка вылетела во двор, уже без сумки, и помчалась по дворам, причитая: «Глаша, Глашенька, кошечка моя, ну прости меня, ну, пожалуйста».
Я варю кофе и поглядываю в открытое окно. Что-то Сара задерживается. В соседнем дворе у нее появился ухажер, я очень рассчитываю на котят к концу лета. Я варю кофе и думаю о чувстве любви и чувстве вины. Тогда, месяц назад, Сара пришла еще грязнее, чем обычно. Когда я взял ее на руки, то увидел мелкую россыпь влаги вокруг глаз – кошкины слезки. В первый момент я подумал, что у нее загноились глаза, и потянулся к аптечке, но она фыркнула: «Брось, ерунда». А потом добавила: «Я совсем ушла. Я перестала понимать себя и испугалась».
«Я знаю разницу между чувством любви и чувством вины, – сказала она. – Я знаю ее у людей, знаю у себя. Мы живем тем, что чувствуем разницу между тем и этим. Между «есть» и «могло бы быть». И я испугалась, когда перестала ее чувствовать. Так делают только люди. Я испугалась, что перестану быть кошкой».
Я попытался ее утешить – все-таки я переводчик.
«Люди часто выдают одно за другое, – сказал я. – Потому что с чувством вины иметь дело гораздо легче, чем с чувством любви. И если одно на другое подменили еще в детстве, приходится так и жить – ссорится и мириться, выгонять, уходить, а потом возвращаться, просить прощения и прощать».
«Я знаю, – сказала Сара. – Пусть так будет у людей, я не против. Но ни одна кошка не может позволить втянуть себя в эту игру. Для этого надо быть человеком, говорить на вашем языке и слышать то, что говорят, а не то, что имеют в виду. Я не могла себе это позволить. Дай мне, пожалуйста, поесть».
От нее больше не пахнет землей и сухой шерстью, моя Сара лоснится, по ее пестрой шкурке пробегают искры, когда я ее глажу. Я варю кофе и посматриваю в окно. На лавочке перед подъездом сидит Бабанадя с неизменным вязанием в корзинке. Завидев бегущую домой Сару, она начинает сюсюкать: «Кис-кис-кис, какая славная кошечка завелась у нас на первом этаже, ты ж моя сладкая. Как он тебя зовет, а? Была бы собачка, звали бы Му-Му».
Сара дергает хвостом, обходит ее по большой дуге и ныряет в подъезд. Я снимаю кофе с плиты и иду открывать.
Марина Воробьева
Когда идет снег
В этом городе снег идет раз в году и лежит день-два, очень редко неделю, так заведено. Если снег в эту зиму уже был, значит, больше его не будет до следующего года, снег здесь как день рождения, отпраздновали и живем дальше.
Когда снег начинает сыпать хлопьями, сначала в него никто не верит, все стоят у окон и смотрят, как белые бабочки на излете становятся гусеницами и тонут в луже, разлитой по всей земле и дрожащей от ветра. Массовое самоубийство белых гусениц завораживает, а надо бежать домой, пока не закрыли все дороги, пока водители не побросали свои машины на обочинах, пока не застрял в сугробе единственный в городе трамвай. Скоро трамвай качнется последний раз и откроет двери в холод, в ветер, в мокрый снег, выгоняя людей, эти люди уже не доберутся домой, их пустят в ночлежку, специально организованную в большом концертном зале, там они будут драться за одеяла, победители завернутся в одеяло, как в кокон, врастут в него и будут спать целый год. На следующий год пойдет снег и они превратятся на несколько секунд в снежных бабочек и тут же утонут в луже, но уже не бабочками, а полупрозрачными гусеницами. А потом лужа замерзнет, снег ляжет на землю, на апельсиновые деревья и на дикие желтые хризантемы. Трамвайные рельсы снова уйдут под снег, и снова кто-то станет победителем.
В этом году нам не надо никуда бежать, не надо вспоминать свое имя, глядя сквозь стекло на падающий снег, не надо повторять его три раза, окликая самих себя, чтобы разбудить и нестись домой, мы уже дома. Мы никуда и не пошли, мы решили остаться, как только услышали, что время снега приближается. Пока есть электричество, мы будем греть дом и пить чай, пока открыт магазин, мы сходим за вином и сварим глинтвейн, а потом будь что будет, дома не страшно.
А будет снег на оранжевых апельсинах и на розовых цветах миндаля и на зеленой траве, и мы будем гулять около дома, будем писать слово «снег» на всех заметенных скамейках, на машинах, на ступеньках. Написанное везде слово не может быть просто сочетанием букв, его смысл лежит на земле.
И вот уже слово написано и пока не тает, теперь можно и поиграть в снежки, и слепить снеговика.
Снег в этот раз лежит очень тонким слоем, мы поставили один на другой два огромных шара, теперь наскребаем остатки снега с пригорка для головы снеговика. У снеговика уже есть имя – мы его назвали Виктор. Может быть, мы думали о победителях, ставших снегом, а может, нам это имя помогало отгородиться от взглядов детей, стоявших вокруг. Незнакомые дети, мы их никогда не встречали в нашем дворе. Какие-то они неуютные, как бродяги в ожидании своей порции супа.
Виктор вобрал в себя весь снег с пригорка, оставляя за собой сначала полосы мокрой зелени, а потом одну сплошную зелень, будто и не существовало ничего больше. Мы хотели сказать детям, что на соседнем пригорке все еще лежит снег и дальше он лежит, до самой пустыни, на всех хватит, ничего, что он намазан тонким слоем, как масло на почти диетический бутерброд. Но дети молча смотрели, и мы молчали и катали последний самый маленький снежный ком.
В нашем городе дети никогда не молчат, они обязательно скажут, что хотят лепить снеговика именно здесь, или что у нас выходит слишком криво, или попросят морковку, или спросят, как у нас дела и где наши дети, и почему мы играем одни. А эти только смотрели и почти не двигались, не замерзли бы.
Мы вылепили Виктору лицо, сначала хотели сделать ему драконью морду, но он хотел получиться человеком, и мы послушались. Красивый он вышел, только немного нос скривился, и мы не стали поправлять. Кого-то он нам напоминал. Наверное, нельзя придумать совсем новое лицо, не похожее ни на кого из знакомых. Совсем как живой вышел. Нам на секунду показалось, что у Виктора слегка дернулся угол рта, словно он пытался нам что-то сказать. Если бы мы хотели, мы могли бы погадать, чьим голосом он заговорит. Но мы замерзли, перчатки наши насквозь мокрые, ботинки тоже и дома ждет глинтвейн. Мы хотели сфотографировать Виктора на прощание, но карта памяти осталась дома. Мы все равно щелкнули его пустым фотоаппаратом перед тем как уйти. Снега завтра не будет, а мы еще будем, поэтому лучше согреться и не заболеть.
Мы помним про соляной столб, но мы обернулись. Нет, дети не играли с Виктором, не кормили его морковкой, не пинали его ногами, втаптывая в траву, не лепили из него снежки.
Смотри, они молча его едят, они вгрызаются в его ноги, в его толстый живот, в лицо, так на кого-то похожее.
Послушай, хочется крикнуть им что-то про ангину, но мы же понимаем, что эти дети не нуждаются в заботе.
Дома мы включаем все обогреватели и варим глинтвейн, на электрической батарее сушатся наши перчатки и ботинки и сидит наша кошка. Мы не думаем ни о чем, нам завтра никуда не надо, в городе никто не работает в снег, транспорт не ходит, а в единственном глубоком сугробе завяз единственный трамвай. Такие дни выпадают раз в год, как и дни рождения.
Ты говоришь, что глинтвейн получился слишком сладкий, а я говорю, что снег растает завтра к полудню. Кошка сидит на раскаленной батарее и не тает, и это вселяет надежду, что и мы настоящие и переживем полдень, если он действительно наступит.