Пхова Бычков Андрей
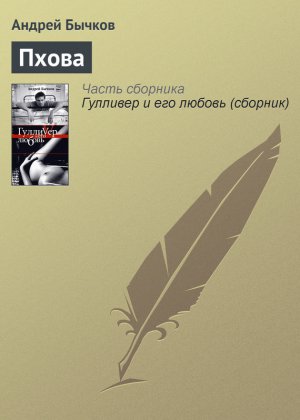
Когда уже ничего нельзя было сделать и это означало, что все надежды теперь бессмысленны, когда уже нельзя было сделать ничего, он подумал, что, быть может, только теперь всё и начинается, потому что всё всегда должно начинаться по ту сторону надежды. «Я мертв», – сказал он себе. Но был ли он действительно мертв?
О рождении девочки ему сообщил их общий приятель, которому он как-то под кайфом что-то такое сказал, что тот догадался. И потому приятелю было приятно сообщать ему и о предложении немца, и о браке, а теперь и о рождении девочки.
Глядя в эти скорбно-радостные глаза сообщающего, отводя взгляд, он подумал, что теперь эта невозможность оставляет его с ней навсегда. Её девочка, её его чужой ребенок будет расти, как смерть. Большая смерть или маленькая – это, в общем-то, всё равно, потому что для смерти все всегда остаются рядом.
Он вспомнил женщин, которые у него были после неё и ради которых он приходил сюда, к этому своему приятелю, хозяину этой квартиры, открытой квартиры для всех. Они были разными, эти женщины, но Айстэ оставалась одна, и он никак не мог об этом забыть, о том, что Айстэ – одна, да, скорее всего, и не хотел. Быть может, он и в самом деле был мазохист, так сказал ему его отец, что ему нравится умирать от любви, вот он и умирает.
Он знал, что поступил правильно, избежав этого брака, брак был бы равносилен смерти, но и отказ от союза оказался смертелен. Тогда он подумал, что, быть может, любовь – это и есть смерть. Но умирать и быть мертвым – это ведь не одно и то же.
Теперь ему оставалось только смириться и быть мертвым, если он больше не хотел умирать. Но ведь это не так просто.
Он вспомнил, как они зашли с отцом поссать в какую-то подворотню, и он рассказывал, какая она сучка и какая сучка её мать, как он расплачивался за их такси, и Айстэ пеняла ему за то, что у него не было мелких денег и ему пришлось подниматься на второй этаж, оставив их в машине дожидаться, пока он не разменяет свою последнюю десятидолларовую купюру, чтобы расплатиться с шофером, чтобы поднять потом на второй этаж её и её мать, мать Айстэ, и ждать, как швейцар, пока её мать напьется вина, чтобы увезти её обратно, потому что Айстэ не сможет увезти обратно свою мать, потому что Айстэ уйдет в ночной клуб вместе с немцем. «И ты ещё хотел на ней жениться? – усмехнулся отец, застегивая ширинку. – Ты просто мудак, да, вот что я тебе скажу».
Лежа один на диване, он вспоминал теперь эту историю по-разному – и чтобы себя обвинить, и чтобы избавиться, он пытался себя оправдать и, наоборот, очернить, пытался утешить себя этой историей и возвратиться к самому её истоку, когда все еще было так легко и ничто не предвещало такого мучительного конца.
Иногда он думал, что умирать так – это значило ещё сохранять надежду, сохранять, не предпринимая ничего, замирая и оставаясь неподвижным, как в той гексаграмме из «Ицзин». Когда он случайно увидел Айстэ с немцем в метро, как они целовались на эскалаторе, он стоял на две ступени ниже и мог дотронуться рукой, мог толкнуть или ударить этого немца, сказать ему, что это его жена, и тогда она бы стала его женой, «Айстэ моя жена», и он еле сдержался, но не только побоявшись быть смешным перед ними обоими, быть раздавленным ею, еще одно, другое, странное чувство, которое он не знал как и назвать, удержало его. Он вышел в ночь, кусая губы, не понимая и понимая, отчего так больно, и слепой, возникший внезапно из темноты автомобиль едва не сбил его, а может быть, и сбил, и это уже не он остервенело набирал на телефонном диске номер немца, зная, что Айстэ там, в его постели, и так, через немца, подавая ей знак, знак своего присутствия, ведь однажды она сказала ему, что он всегда звонит, когда вот-вот изменится судьба. Потом он захотел узнать, как быть и что это всё значит, и еще не знал другой магии, кроме «Ицзин», и бросил монеты. Тогда книга ответила, что отныне он должен замереть, застыть в своей неподвижности, и он заплакал. Это была гексаграмма номер пятьдесят два, и в комментарии к тексту указывалось на её особую значимость в буддизме.
Умирая в своем странном желании – чтобы снова что-то было между ним и Айстэ – и ничего для этого не предпринимая. Напротив, теперь при случайных встречах с ней, он держался холодно и отстраненно, удивляясь молчаливо в самом себе, что вот она, его любовь, так близко, рядом, та, которая всегда с ним, сейчас здесь, и от этого «здесь», и оттого, что это так странно, что она снова здесь, и оттого, что в этом нет ничего удивительного, быть может, от этого и не страдаешь или страдаешь не так тяжело, не так мучительно.
Он прекрасно помнил ту сцену, тогда на квартире у того своего приятеля, когда вернулся из Парижа. Он услышал её голос, который всегда его так глубоко волновал, неотделимый и отделенный от её эротизма, голос, существующий сам по себе, сам собой зачарованный и, быть может, потому чарующий других, их, других, зачаровывающий. Он перешел из комнаты в комнату и увидел её – в тонком, полупрозрачном египетском платье, красном с черными зигзагами, Айстэ, от любви к которой он умирал в этом проклятом Париже, зарабатывая франки на своем одиночестве. Она тоже увидела его и едва заметно кивнула, и он едва заметно кивнул ей в ответ. То, что они не виделись несколько месяцев после мучительного, оскорбительного для них обоих разрыва, словно ничего и не значило. Он опустился на диван рядом с чахлой женой приятеля и стал вполголоса рассказывать той про Париж, про то, что у него был там свой сад на Монмартре, где он снимал жилье, сад в четырех стенах четырех четырехэтажных домов, принадлежащий на время лишь ему одному. Краем глаза он следил за Айстэ и видел ее, Айстэ, движение, как она нарочито долго собиралась уходить и как осталась, он знал, что конечно же из-за него. И когда она равнодушно и словно бы случайно опустилась в кресло напротив, глядя в сторону, вслед своим длинным пальцам, вслед тонкой сигарете «Моre» и тонкой уходящей струйке дыма, он вдруг захотел сделать ей больно и сказал тихо, но так, чтобы она, Айстэ, слышала, сказал, наклоняясь к самому почти уху чахлой, как заветренная роза (так он подумал тогда про себя, хотя слово «заветренный» больше подходит к слову сыр, но ведь в конце концов он вернулся из Парижа), сказал ей, этой жене приятеля, что она ему там часто снилась и почему бы им не пойти вдвоем в ресторан, ведь теперь он так мучительно богат. Он видел, как Айстэ вздрогнула, он понял, что это настигло её, но зачем, зачем он это сделал, ведь, быть может, это была их последняя встреча, а разве он не любил её?
Но рано или поздно это должно было кончиться. И теперь, когда возникла эта девочка, эта чужая девочка, из чужого, не его (не его?!) семени – немца, о котором Айстэ, смеясь, говорила ему – «эта немецкая гадина»; немца, который был в конце концов разыгран для причины, чтобы поставить его к барьеру, чтобы он наконец решился и сделал ей предложение во второй раз, чтобы он женился на ней и на ее матери и как мужчина взял бы на себя тяжесть семьи… Так это было или не так, ведь ты рассказываешь себе эту историю по-разному? Теперь, когда возникла эта девочка… быть мертвым не всё ли равно как… Так это или не так?
Как тебе говорили, как надо накалить лезвие ножа и опустить в холодную воду, произнося слова заклятия, ведь каждое слово – это слово заклятия.
Так это или не так?!
Вот сейчас, вот сейчас, Айстэ, ты исчезнешь, и эта комната будет пуста, и каждая вещь в ней о тебе забудет, и в каждой вещи исчезнет твой звук, прости меня, Айстэ… Как ты смотришься в зеркало, скоро тебе ехать в ночной клуб, петь за деньги, кто-то будет крутить рулетку, жадно поглядывая на «zero», цинично разговаривая про твои ноги и постукивая в такт, да, постукивая в такт. Это так странно, что, когда мы с тобой познакомились, когда нас познакомил мой друг, когда я поцеловал тебя в спину (или только посмел дотронуться?), ты была тогда ещё его женщина, это было, когда он спал, мы все были пьяны, когда… нет, не тогда, а потом, да, он уже уехал за границу, и мы встретились вдвоем и решили поехать ко мне, и ты боялась, и ты хотела, потому что ты как-то догадалась, что это должен быть я, и я тогда еще на знал, что это должен быть я, и это было время звезды, и все могло измениться от случайной причины, и тогда ты стала извлекать эти звуки, и это был твой ритуал, теперь я знаю, что это был твой ритуал, ведь ты не просто пела джаз, как это было смешно написано на твоих афишках, и ты стала извлекать эти звуки из всего, что было в моей комнате, я не говорю про те две хрустальные вазы, я не говорю про настенные часы, и про чайные серебряные ложечки, и даже про шерстяное шуршащее одеяло, и про иголки, и про нож, и про ту дурацкую резиновую игрушку, и про носки, и про воду в аквариуме, про самих рыб, которых ты тоже как-то сумела коснуться, я слушал и смотрел, как зачарованный, а потом ты стала петь одну ноту, всего одну длинную ноту, петь её, напевать, покачивая головой и посматривая на меня, как на том концерте, а потом другую, удлиняя ее и удлиняя, пока не показалась третья, не начала вызываться четвертая, у тебя был голос в три октавы, как у Сары Уонг, как у Сары Уонг. «Да нет, – сказала ты потом, – это не сложно, это совсем не сложно – петь так. Ведь рвать связки не надо, как их рвет попса, потому что есть дыхание и надо петь на дыхании, тогда не устаешь, но об этом знают немногие, и немногие могут научиться, и немногие к этому способны, к тому, что называют „фаланговым пением“. Через два часа тебе надо было ехать в ночной клуб, петь за деньги, петь перед этими квадратноголовыми, и у нас еще было два часа, целых два часа…
Знаешь, есть вещи, которых нельзя касаться, которые нельзя брать в руки, потому что эти вещи, как ты. Но они не как ты, а они как-будто как ты.
Каждый хочет от чего-то избавиться, каждый хочет что-то вернуть, каждый хочет пойти дальше. Есть имена Андрей, Александр, есть имена Борис, Глеб, Евсей, есть имена Федор, Григорий, Иван, Максим… Ряд обрывается случайно, никто не знает когда. Кончается жизнь, и имя становится ясным, ведь теперь оно уже не принадлежит человеку, камень, пространство, и видно далеко-далеко. Далеко-далеко не значит поле, далеко-далеко не значит река, далеко-далеко не значит Максим, но далеко-далеко – это и река, и поле, и Максим.
Я где-то читал, что если долго повторять свое имя, то от него можно избавиться, а может быть даже, и от себя.
Давно-давно, Айстэ, когда тебя ещё не было, кем я был, свободный и никчемный, чего я хотел? Когда и ты жила ещё, не зная ничего обо мне, так странно устроена эта жизнь, где ничего изменить нельзя и где можно лишь возвратиться к началу, чтобы узнать, в чем причина. Давно-давно, Айстэ, когда ещё не было разрушено царство, когда я слышал пение и других птиц, когда высокий лес окружал, когда, взрывая неподвижность земли, стволы деревьев восставали из трав, когда их ветви переползали, девственно сочетаясь на высоте, когда то тут, то там стекало по стволам солнце, ртутью зависая в разрывах листвы, когда я шел среди низких близоруких, жадных до царапин кустов, чавкая и меся босыми ступнями мокрую черную грязь, сбивая палочкой незрелые ещё ягоды дикой вишни, когда брильянтовые священные мухи лениво дрожали в окладах луж и голубело небо в разлете листвы над головой, когда выползали на острые травы смешные летучие муравьи, давно-давно, разве я смогу вернуться в те времена, когда я ещё не знал этой узкой страсти – жадно смотреть, как проходите мимо вы в легких полупрозрачных платьях, вскрикивая и прижимая сквозь смех свой и стыд от ветра взвившийся было подол. Муравьиная травинка-кислинка, когда-то ее можно было невинно сосать, глядя на девочку-зайчика с зеленым бантиком и с карими глазками. Может быть, и ты, Айстэ, когда-то и ты была такой же?
Это как сон? Да, это как сон. Научи меня, как мне тебе присниться, ведь ты все равно уходишь, а я всё преследую тебя. Как те два голубя, голубь и голубица, помнишь, она бежала на него и пробегала мимо и снова возвращалась и пробегала мимо, словно она говорила: ну же, ну же, ну что ты?
Но когда же я увидел тебя, именно тебя, в первый раз, я, твой Калибан и твой Ариэль? Вспомнить взгляд, с которого началась эта история, которую кто-то рассказывает себе каждый день, лежа на диване или зажатый в метрополитенной толпе, бродя по улицам, снова находя себя, чтобы потерять и чтобы снова найти у той реки, у той полуразрушенной башни, чья тень на воде, рассказываю себе каждый день, путая конец и начало, когда же, когда, так долго не отводя взгляда: „кто ты?“ – „а ты?“ – „какое ты имеешь право так долго смотреть мне в глаза?“ – „что ты за женщина – птица, кошка?“ – „опусти дерзкий взгляд!“ – „нет, это ты должна подчиниться!“ – „как ты смеешь так долго!“
Айстэ, Айстэ, может быть, вот сейчас и в самом деле все начинается, сейчас, когда я уже мертв. Кто, и кому, и о чем рассказывает здесь, где времени нет, и нет никакого дивана, ни темной улицы, ни этой реки с полуразрушенной башней на берегу?
Как ты, Айстэ, раздеваешь девочку и кладешь. И как она шевелит ножками, оглядываясь и ища над собой эти блестящие синие, красные круглые, с веселым потрескиванием изнутри, эти разноцветные погремушки, в которые можно толкаться ручками, толкаться ножками. Большие полные шары на белой резинке, что натянута поперек двух загородок. Те твои фотографии, Айстэ, где ты склонилась к девочке и где ты стоишь, прижимая к себе свою малышку, те твои фотографии, которые настигли меня, когда я тебя искал, чтобы просить прощения, когда не помог мне тот нож, то раскаленное лезвие, фотографии в иллюстрированном журнале „Еlle“: „Известная скрипачка и джазовая певица, экстравагантная noise-maker[2] в кругу семьи со своей маленькой девочкой“. Что это было? Моя неудавшаяся попытка. Тогда этот нож снова вошел глубоко, чтобы еще мучительнее было мое умирание. От любви к тебе, Айстэ, от любви к тебе.
Тот концерт, ты скажешь, что это был тот концерт, когда мы с тобой познакомились, Айстэ, когда нас познакомил мой друг. Ты была еще тогда его женщина, и ты передала мне в гардеробе номерок, и тогда проскочила эта невидимая электрическая искра, меня и в самом деле ударило электричество. Электричество, из которого состоит и молния, и смерть, и любовь. Тогда мы случайно коснулись пальцами, ты сузила зрачки, одиннадцать было вытравлено на номерке, и ты сказала про два счастливых числа – одиннадцать и тринадцать, и ты поднялась за кулисы, а я вслед за своим другом спустился в зал, чтобы ждать и чтобы потом с удивлением вслушиваться в эти странные звуки, когда ты то удлиняла, то укорачивала струну, а потом стала царапать деку своего инструмента и вдруг легко, божественно и виртуозно заиграла Вивальди, который, как ты потом мне со смехом сказала, был совсем не Вивальди, и был бы, быть может, вершина Вивальди, если бы не был тогда же тобой же небрежно сымпровизированный концерт. Потом ты оставила скрипку, её опустив, её отпустив, чтобы твой магический голос наполнил пространство, разрастаясь и разрастаясь, завораживая сидящих, настигая их в их неподвижности, словно каждый в себе открывал другие пространства, чтобы забыть свою жизнь. И было достаточно одной-единственной ноты, бесконечно богатой, светящейся и пушистой ноты, что проникала и проникала сквозь темноту, летя и в самой себе множа эти пространства и вновь возвращаясь к темноте, вновь возвращаясь на свою траекторию медленного светящегося падения. Я помню, ты смотрела на меня, только на меня, я помню, только на меня, да, на меня, не отводя взгляда.
Джаз, джаз, это всё твой проклятый джаз…
В той гостинице тоже был этот джаз, в той гостинице, где вы остановились с матерью и куда я потом приходил, мучительно приходил, потому что не мог не прийти, потому что себе уже не принадлежал, приходил, чтобы идти, куда ты прикажешь, и ты смеялась и ты хлопала в ладоши, и я шел и покупал тебе чай, чай, чай…
Как твоя мать переходит из комнаты в комнату и как держит в руках черный тюльпан, и как она ищет, ищет и не знает, ищет, ищет и не видит, ищет, ищет и не может найти, и как то, чего нет, есть.
Здесь, где нет времени, где есть только этот голос и где я говорю „он“, зная, что он – это я, и что он – это не я, и что он – это и я, и не я, теперь здесь я вижу маленькую девочку с белыми, как у зайчика, ушами, которая бежит по коридору и прыгает на колени к своей матери, и эта маленькая девочка, Айстэ, – ты. И еще я вижу, как твоя мать поворачивается и как смотрит, и у нее длинный и острый клюв, да, длинный, острый и хищный клюв, а в руках черный тюльпан, и она смотрит, и она ищет, переводя эти узко посаженные глаза, раскосые с поволокой павлиньи глаза, и на лбу у нее вишневое пятно. Мой бедный друг, он слишком долго стоял на ветру, ничего не понимая и ни о чем не догадываясь, торгуя с лотка сигаретами, лишь бы твоя мать с урчанием по вечерам ела мясо, запивая его красным вином, нашептывая о шекспировской „Буре“ и о том, что и после смерти – Ромео – Ромео, что и после смерти – Джульетта – Джульетта, что и после смерти мертвые продолжают любить друг друга там, в нигде. Черная птица с длинным клювом, когда-то и она хотела стать счастливой и сама была маленькой девочкой с мечтами о домике на берегу синего моря, где по вечерам на закате можно читать счастливую книгу.
– А кто её мать? – спросил Максим.
– Она, как бы это тебе сказать, ну, – задумался его друг. – Довольно известная актриса.
Это была улица, где они говорили, Максим и его друг, Евсей, и улица уходила вдаль, и они шли по этой улице, и улица незаметно изгибалась и уходила вниз, вниз, потому что Земля была круглая, и если бы они так дальше и шли, то они бы вернулись к началу, и они бы всё поняли и им не надо было бы проживать эту историю и они могли бы прожить другую, более счастливую.
– А как её имя?
– Имя или фамилия?
– Она, как и Айстэ, из Литвы?
– Нет, она русская, это отец Айстэ из Литвы. Так тебе понравился концерт?
– Да.
– И этот пронзительный крик в конце?
– Честно говоря, стало немножко жутко.
– Ты хочешь сказать, что у тебя зашевелились волосы?
– Если бы я мог видеть свои волосы, я, быть может, и мог бы увидеть, как они зашевелились.
– А так ты не почувствовал? – засмеялся Евсей, хлопая Максима по плечу.
– Так – нет, – засмеялся и Максим.
– Погоди, вот как-нибудь увидишь на сцене и её мать, тогда почувствуешь.
Это был тот самый день, когда они шли, чтобы купить вино, один из тех легких прекрасных дней, когда так легко пить вино на бульваре с друзьями, когда распускаются листья и шумит фонтан, и говоришь о том, что в августе надо обязательно поехать на море, и вспоминаешь город, где в одной кофейне варят классный кофе, а на набережной зажигают фонари, и они разгораются не сразу; в соцветии из пяти шаров каждого из светильников они постепенно наливаются лиловым, а потом сиреневым, а потом желтеют, и верхний всегда быстрее, чтобы затем разгореться в яркое, в белое.
– Знаешь, – сказал Евсей, когда солнце уже исчезло за домами и стало немного прохладно, – давай допьем это полусухое. А потом я позвоню Айстэ, и мы купим еще, джин там или мартини, и поедем к тебе.
– А может, не надо? – почему-то сказал Максим.
И как она сказала ему: „Не входите“. И как он, Максим, вошел. Эта её маленькая японская грудь. „О, – сказал он, потупившись, – прости“, – сказал он, Максим. И Айстэ низко чувственно засмеялась, прижимая к груди платье, а потом отбрасывая его и обнажаясь на мгновение в каком-то порочном стыдном жесте, исполненном нестерпимого удовольствия. Она упала на постель лицом вниз, продолжая пьяно смеяться, и рядом лежал Евсей, пьяный Евсей, сонный Евсей с белыми блеклыми белками глаз. Как они белели из-под его полузакрытых век, и как его рот был открыт, и как он весь был белый, словно вывалянный в муке. И как она сказала: „Дай ему вина“. И как она сказала: „Из того бокала“. И как она сказала: „Что рядом с моей сумочкой“. Её обнаженная спина и не его, не Максима, его, Максима, рука, коснувшаяся её спины, как она загадала про себя, как хотела и как потом коснулся губами, так тоже захотела она, лежа лицом вниз, как поцеловал в том самом месте, где изощренные восточные женщины так любят ласку, она не была восточной женщиной, она была совсем из другой страны, Айстэ из другой страны, и как он взял этот бокал, стоящий рядом с её полураскрытой сумочкой, и вино было какое-то синее, и как он лил из бокала Евсею в рот, и как текло по щеке и по подбородку, и как Евсей пьяно замотал головой: „Зачем?! Зачем?!“ – и пьяно заулыбался полузакрытыми глазами: „А, это ты“, – как-будто узнал Максима, и его лицо было вымазано синим и щека блестела от луны, и как, низко наклонившись, Максим всё шептал и шептал ему: „Ещё“, и как Евсей сонно глотал, пока не стал уже давиться и не задрожал, выпучивая из-под век закатившиеся от боли белки и вдруг затих, и Айстэ вжалась в постель, словно желая исчезнуть, и лежала тихо, не дыша, а потом сказала: „Отнеси его в другую комнату“. И Максим взял Евсея, и Евсей был легкий, и голова Евсея свесились, и волосы Евсея свесились, обнажая лоб, и лицо было вымазано синим, и руки обвисли назад, за спину, и не были видны, и ноги тоже не были видны, словно их, ног, не было, словно и руки и ноги были уже отсечены острым ножом, и это, оставшееся от усекновений, тело было словно присыпано чем-то белым, скользким, как тальк, как мука, чтобы не было видно крови, тело его нежно любимого друга, который приехал к нему домой как друг со своей женщиной, и он, Максим, уступил им свою постель, да, свою постель, так он его нес, meriah,[3] чье тело разбросано по полям и зарыто в землю, чтобы взошли злаки, злаки как знаки… И как он, Максим, лег на место Евсея, на свою широкую и низкую кровать, где уже лежала обнаженной эта женщина и где она загадала и ждала, странно улыбаясь в полутьме и облизывая влажные от желания губы, ведь это должен был быть он, Максим, ведь это он был предназначен, как об этом сказала ей её мать, что это должен быть он, быть он, Максим, которого они увидели на той фотографии, которую Евсей случайно им показал, где он стоял высоко в горах рядом с Максимом. И как он, Максим, стал раздеваться в полутьме, чтобы остаться перед ней обнаженным, и как она смотрела на его наготу, на его фалл, на его меч, которым он будет её казнить, казнить, казнить, и луна была желтой, и это была огромная желтая луна, через стекло, через стекло, желтая как желток яйца с мутными кровавыми прожилками. И Максим лег рядом с Айстэ поверх простыней и лежал и ждал, когда она его позовет, словно он уже себе не принадлежал и принадлежал только тому готовящемуся убийству, и тогда она сказала: „Что же ты ждешь?“
Здесь, в нигде, где ничего нет, знаешь, когда человек умирает, белая энергия отца опускается в его сердце и навстречу ей поднимается красная энергия матери, и тогда земля погружается в воду, и вода иссыхает в огне, и в воздухе развеивается огонь, и тогда умирающий видит ясный и чистый свет, изначальный свет, чистую реальность, начало и конец, в котором он может остаться, не рождаясь заново и не стремясь к встрече с тобой, Айстэ, потому что это бессмысленно, ведь жизнь проживается один раз, эта жизнь – этот один раз, так же как и твоя девочка, как твоя девочка.
Как ты надеваешь ей ползунки, и как она ползет, и как она открывает дверь, опираясь на свою пухлую ручку, и ложится на бок, и падает, и снова, пыхтя, поднимается на четвереньки, и ползет в темный коридор, где налево всегда виден свет, где немец сидит, сидит, сидит на табуретке, и, незаметно раскачиваясь над книгой, курит, и у него большая пепельная голова и белое трупное тело, закутанное в синий халат, и еще золотые очки, и ноги с проволочными черными волосками, и как он, откладывая сигарету и не отрываясь от книги, кладет пальцы на пальцы и трещит, думая, что он один, и что Айстэ не слышит, и как девочка смотрит на него, и как она слышит этот хруст и случайно шевелится, и как он, немец, вздрагивает и оборачивается на звук, и видит её, эту приползшую к нему девочку, смотрит на неё, как на кошку, как на собаку, как на мышь и говорит ей по-немецки: „Чего надо?“ И она хочет, как мать, как её учила мать, она хочет разлепить губы и выпустить два членораздельных звука, два других добрых звука – „па“ и „па“, и не может, и не понимает, что он ей говорит, зачем он ей так говорит, и давится, и падает, и ударяется лицом о пол и кричит, дико кричит, как разрезанная кошка и как собака, как слабая мышь, зачем, зачем, и как немец вскакивает, отбрасывая назад табуретку, отшвыривая эту книгу, что ему не дают почитать, не дают почитать, а он любит читать, да, любит читать, а ему не дают, не дают почитать, и как выбегает Айстэ и плачет, и как смотрит на него, а он трещит пальцами, и как сквозь слезы она, Айстэ, смотрит на него: „За что?! За что ты её так ненавидишь?!“ И словно он ей отвечает сквозь пальцы, сквозь их щёлк-щёлк, как когда уходишь в лес ещё глубже и глубже, туда, за болото, к тому оврагу, к тому темному скользкому оврагу, где на деревьях растут странные полупрозрачные грибы, где никого нет, где никогда никого не бывает, он ей говорит, своими маслеными глазками говорит, через золотые кольца и через стекла линз: „Потому что это не моя девочка, и я знаю, чья это девочка“. И она говорит ему: „Гад, гад, ты просто гад, ты не мужчина, ты гад, гад!“ И она хватает на руки кричащую дочь и дает ей грудь, и та берет и, забыв о своем крике, впитывая в себя белое молоко, любовь и ненависть своей матери, сосет и смотрит на них, на двух людей, на двух смертельных людей, как они впились взглядами друг в друга. И как Айстэ видит, что он жадно хочет, жадно хочет, хочет, хочет её сейчас, именно сейчас, когда она его так ненавидит, до слез ненавидит, как он хочет её ебать, ебать, ебать, и только ебать, как ебал раньше надувную резиновую куклу с красной присоской вместо губ, которую она нашла как-то в пыльной коробке на его антресоли, ебать и больше ничего, и за это он будет терпеть магазины, ссоры и деньги, и за это будет расплачиваться сполна, будет растить, будет растить эту девочку, которая будет его выгладывать, вылизывать изнутри, освобождая полость, пока от него ничего не останется, только остов большого, крупного мучного мужчины, словно присыпанного тальком, с тяжелым отечным лицом и с одышкой, ходящего медленно, грузно, в скрипящем черном пиджаке и в деревянных черных брюках, в этой чужой неудобной жизни с утренними очередями в посольстве и ночной спиной жены, как она отворачивается и не дает, сжимая ляжки, не дает и плачет в подушку, потому что эти его черные проволочные волоски и потому что так – не туда и это неудобно, в стенку, и оттого, что он старается, чтобы было удобно, чтобы было не в стенку, становится только хуже и это всё гадко, гадко, гадко, а он всё держит, держит, держит как костяной паук, и только вытерпев его, паука, и заплатив ему за его посольскую муку, мукой за муку, можно встать и уйти, чтобы наклониться над кроваткой и неслышно плакать над своей девочкой, над своей бедной девочкой.
Не плачь, Айстэ, не плачь, здесь, в нигде, где тебя нет, ничего тоже нет, потому что жизнь – это иллюзия.
Кто-то рассказывает историю, а это значит, что это ты рассказываешь историю, и ты рассказываешь её с конца, и я рассказываю её с начала, а кто-то начинает ткать с середины, во все стороны, как узор, Айстэ, как узор, как те следы от коньков, белые, хрупкие, поверх голубого льда, которые плавит солнце, потому что уже март, а Евсей далеко-далеко там, куда он уехал, чтобы тебя убить за твое предательство, куда он уехал, чтобы вернуться и чтобы тебя убить, ты сказала мне, чтобы я его выгнал, ты сказала утром: „Выгони его, Максим“. Но он был мой друг, и я не смог его выгнать. У него болела голова от того синего отравленного вина, и ему было плохо, но он все же ушел, качаясь, ушел, и его вырвало у лифта. Но ведь тогда еще между нами ничего не было, Айстэ…
Отец, где твой сын? Помнишь, ты рассказывал мне про одну женщину, ты валялся у неё в ногах, и над тобой все смеялись, что ты сошел с ума, а ты спал под её дверью, и ты продал книги, шкаф и письменный стол, лишь бы исполнять её капризы, она хотела какой-то изумрудный чай, какой бывает только на Кипре, она хотела ту высокую индийскую вазу с птицей Гаруджи из антикварного магазина. Она утонула в озере, та женщина, двадцать лет спустя, через двадцать лет после того, как ты так и не смог её забыть и женился на моей матери. Она, та женщина, была натурщицей и позировала художникам, и они кутали её в кашемировую шаль, и давали горячий чай, и давали большие деньги, лишь бы её писать обнаженной, лишь бы писать игру божественного света и, быть может, божественной тьмы. Но ты, отец, ты не был художником и не был богатым человеком, и ты не мог подарить ей свои рисунки и свои картины, с которых бы она смотрела на себя и любила бы себя, и только себя, как та девочка – Нарцисс и звезда, упавшая в озеро, и ты мог лишь валяться у неё в ногах, когда она при всех тебя выгоняла, когда у тебя не было денег бежать за вином, чтобы поить её поклонников, всю эту разношерстную художественную пьянь в длинных беретах и картонных шарфах, малевавших из разъятых разноцветных каземирмалевических квадратов ускользавшее от них Божество, цельно текущее рядом с ними. И они пытались ее пленить своими безумствами и разноцветными квадратами своих картин, которые она вывезла потом на Кипр, чтобы жить там долго и счастливо, покачиваясь в шезлонге на берегу, щурясь на солнце, попиливая пилочкой для ногтей и иногда с тайной грустью глядя на озеро – был когда-то „такой-то такой-то“, не художник, не банкир, „такой-то такой-то“ никто, но он любил, и он валялся в ногах не на словах, а на самом деле… Отец, отец, здесь, в нигде, где все давно известно наперед, что ты не хотел, чтобы твой сын был, как ты, игрушкой для женщин. Но не ты ли когда-то показывал мне письмо одного старого художника, который приводил в нем слова Платона, что любящему простительно валяться в ногах перед любимым? Тот художник один не смеялся над тобой, говорил ты мне, он был из них из всех самый известный и умер в Париже в возрасте семидесяти четырех в постели с женщиной, которой было сорок. Отец, отец, зачем ты не сказал мне тогда: „Женись на ней, если любишь и если она любит тебя“. Зачем ты сказал: „И ты ещё хотел на ней жениться?“ Тогда я рассказал тебе и про черный тюльпан, про тот черный тюльпан и про её мать, но ведь всё, что мы рассказываем, – полуправда и полуложь, ведь и её мать хотела, чего-то хотела не только для неё, для своей дочери, но и для нас обоих. Знаешь, когда всё уже было кончено, когда Айстэ уже жила с немцем, когда она спала в его постели, я, узнав об этом от своего приятеля, хозяина той квартиры для всех, почему-то снова пошел в гостиницу к её матери. И, увидев меня, она расхохоталась, и она послала меня за вином, и весь вечер она рассказывала мне, как на её спектакли ломятся зрители в Вене и в Мадриде, в Нью-Йорке и в Берлине, в Париже и в Лондоне, лишь бы попасть, лишь бы увидеть, что она сделает с ними, как она их преобразит, и как они, земляные черви, станут как ласточки, и что и Айстэ знает этот секрет, и что я тоже мог бы узнать, что такое слава, но я дурак, я никто, слепой недозрелый крот, и что я просто дурак и что я веду себя как баба, что я не могу послать этого немца на три буквы, потому что, потому что… „Потому что Айстэ тебя… любит, Максим“, – сказала она и грустно посмотрела в окно. И я увидел, как снова кружится зима, и то, что было год назад, как однажды, сидя один перед книгой и глядя в окно на падающий снег, я вдруг стал различать каждую снежинку, как медленно они опускались в пространстве, а может быть, и оставались неподвижны, и это пространство само, и дома, и деревья, и пешеходы медленно летели вверх, а снежинки оставались неподвижны и вдруг исчезали в сияющем белом надвинувшемся, тогда вдруг раздался звонок и я почему-то знал, что это звенящий звонок Айстэ, и это оказалась и вправду она. И она позвала меня на каток, и я сказал, что последний раз катался назад лет десять, и она сказала, что не беда, что она тоже катается неважно, и мы встретились у входа в парк, и на катке были зеленые и оранжевые огни, и там играла праздничная музыка, и на коньках катился большой длинный Дед Мороз в легкой красной шубе с воротником из ваты, и у него были тонкие ноги в черном трико, и он смешно эту вату терял, и за ним гурьбой катились ребятишки, и они смеялись, как смешно он переставляет ноги, и они поднимали эту вату и отдавали её опять Деду Морозу, и он смешно засовывал за воротник, и за ними катились счастливые бабушки и дедушки, а за ними катились счастливые хулиганы, и они все кружили по кругу, слегка вытянутому, как овал, и мы, одевшись, покатили за ними, и я сначала спотыкался и падал, и тебе, Айстэ, было смешно, и ещё ты боялась, как бы я не разбился, тебе было и смешно, и страшно, но когда-то я занимался танцами и падать умел, и я стал умело падать и подниматься, пока моё тело не вспомнило, что было десять лет назад, как оно двигалось умело и пластично и как оно всегда нравилось женщинам, как им нравились его незаметные пассы, и я был счастлив, глядя на тебя, как ты, раскрасневшись, отбрасываешь прядь, эти твои быстрые движения, шах, шах, эти твои быстрые жесты, и как ты сосредоточенно переставляешь ноги и катишься, боясь упасть, такая тоже смешная, и как я помогаю тебе поворачивать, осторожно беря тебя под локоть, и как ты смущенно взглядываешь на меня, и то, что было в твоих глазах, этот стыд за то, что уже было между нами и чего как-будто и не было, что было не так важно, потому что уже возникало другое, несравнимо и несравненно большее, что как этот свет в глазах, когда ты спрашиваешь, боясь, что ошибешься, веря и не веря: „А ты?“
Свет, преломляющийся в хрустальной вазе, когда был уже май и лед на катке давно растаял, хрустальная ваза, и ещё одна керамическая, и ещё та, высокая черная с золотистой полосой, когда было много цветов, помнишь, цветов было много, мы наломали сирень, а потом накупили тюльпанов, да ещё те розы, которые я тебе подарил, а потом ещё те три нарцисса, они стояли в гостинице со вчерашнего дня, я сидел и курил, глядя, как ты, Айстэ, расставляешь цветы по всей комнате, каждый раз угадывая для каждого букета то место, то единственное место в пространстве, предназначенное только для него, мириады тонких, бесконечно малых твоих движений, которые я в себе останавливал, целые миры, в которых говорил Бог: смотри, это твоя любовь, – не боясь говорить сам, признаваясь, что счастлив, движение этого мира, как ты, Айстэ, оглядываешься, поправляя в одной из ваз цветы, разве это тюльпаны? и поднимаешь руки, с которых падают вниз рукава твоего красного с черными зизгами платья, обнажая на левой царапинку, низкая ваза с сиренью, ты ставишь её высоко, на желтый гостиничный шкаф, на самый край желтого… „Ты дурак, Максим, ты просто дурак, и ты ничего не понял“, – сказала тогда её мать, допивая последний бокал, а потом сказала, чтобы я убирался, и я молчал и не двигался, и тогда она закричала, чтобы я убирался. Вот о чем я не рассказал тебе, отец, о чем я тебе не успел рассказать.
Здесь, где ничего нет, где как снежинки мелькают и исчезают образы, где мелькают и проносятся образы, и слова, и эти адские и божественные звуки, где есть ещё одна возможность не родиться, последняя возможность не родиться, и не встретить, и не услышать, и не полюбить снова, Айстэ, тебя.
Но он приходил, Максим, приходил, мучительно поднимаясь по лестнице, в ту открытую квартиру для всех, к тому своему приятелю, и те, кто там были, думали, что он приходил из-за женщин, и они не знали, что он приходил только из-за одной из них, из-за Айстэ, которая иногда тоже заходила сюда с немцем, про которого говорили, что он чудовищно богат, глядя на его золотое пенсне и на его брезгливые губы. И тогда, случайно сталкиваясь с Максимом, Айстэ Максима не замечала и лишь возбужденно смеялась и нежно гладила немца по его белой рыхлой руке с золотыми часами и прижималась к нему. И Максим отчужденно уходил в коридоры квартиры, где сидели женщины и где они пили чай и вино, и невинно трепались, и зорко посматривали по сторонам, не выйдет ли кто из мужчин и не расскажет ли им что-нибудь занимательное, и среди них была одна фифа, одна актриска, что всегда так влюбленно смотрела на Максима. И Максим подсаживался к ней и предлагал ей сигареты, и вино, и пирожные, доставая их из пакета, тонко шутил и начинал рассказывать ей ни о чем, и актриска не замечала тоски, с какой он иногда оглядывался, как уже уходила Айстэ, и как она нарочито долго и громко смеялась, прощаясь с хозяином и с его женой, и как она смеялась тем смехом, тем низким грудным смехом, который всегда так его волновал, и как немец неподвижно стоял, черный, как гильотина, держа на руках её серебристую шубку. И когда они уходили, Максим на полуслове бросал свой рассказ и, не глядя на актриску, уходил в дальнюю комнату, где сидел или лежал один из его вечно пьяных приятелей, и Максим расталкивал его, чтобы пить, пить, пить, потопляя в вине злаки зла, растворяя в вине знаки зла.
Как ты, Максим, на катке, Максим, когда ты уже знал, что полюбил, когда ты уже вспомнил движения тел и стал катиться все плавнее, и стал скользить всё изощреннее, и стал изгибаться всё пластичнее то в одну сторону, то в другую, и стал уже пробовать па, и прыжки, и батманы, когда Айстэ смотрела на тебя, и ты видел тайный блеск восхищения в её взгляде и знал, что и она влюблена, влюблена и что влюбляется всё больше и больше, когда возникло это странное чувство, что теперь, когда ты уверен, что она любит тебя, что теперь ты можешь и не любить, что это теперь в твоей власти, потому что есть другое наслаждение – мучить, мучить тех, кто любит тебя, и что это легко, что любящих предавать легко, и что не любить их легко, и наслаждение мучить несравненно больше, потому что тот, кого ты мучишь, это тоже ты, но в то же время это не ты, и ты как бы мучишь себя, себя не мучая, и как ты вдруг засмеялся, холодно засмеялся ты, Максим, глядя Айстэ в глаза, через пассы своих тел, через веер раздвинувшихся движений, глядя словно из-за своей спины, словно с кончиков высоких и черных крыльев, как Айстэ пытается понравиться тебе, на языке твоих тел, как она пытается тебе подражать и делает это неумело, вот этот неудачный поворот, и вот уже, задевая коньком о лед, падает, падает, с надеждой обращая взгляд к тебе, что ты протянешь ей руку и не дашь ей разбиться, разбить и сломать хрупкие колени, и как ты не протягиваешь ей руку, и она ударяется о лёд, больно бьется о лёд. Что это было, Максим, что за странное жестокое чувство, холодное, острое, жестокое чувство, словно это не ты упал и не тебе так больно? Что ты сказал тогда в себе? Или ты вспомнил другую женщину, которая когда-то мучила отца, которая когда-то так же жестоко и холодно глядела, как разбивается вдребезги его сердце? Но почему, почему именно Айстэ должна расплачиваться за это? Твой странный взгляд, с каким ты смотрел, как она падала. „Как она неуклюже падает“, – сказал ты в себе, вспоминая конечно же и о Евсее, и, глядя, как Айстэ падает, ты удивлялся, что он в ней нашел, ведь если бы не её божественный голос и не её божественная скрипка… И ты вспомнил, как он, Евсей, сказал тебе, что уезжает, чтобы вернуться и чтобы отомстить, и теперь, глядя, как она падает и как она разбивается, ты себя похвалил, Максим, ты сказал себе: вот почему я здесь, и только из-за него, из-за Евсея, я здесь, и только, чтобы защитить ее от Евсея, я здесь, и чтобы только отомстить за Евсея, я здесь, и тогда ты протянул руку, чтобы помочь ей подняться, но она увидела этот холод и этот лёд в твоих глазах и заплакала.
– Послушай, что такое любовь?
– Зачем спрашивать об этом? – ответит тебе твой вечно пьяный приятель.
– Нет, ты скажи, ты любил?
– Пей, и сейчас выйдем к бабам.
– Чтобы рассказать им о любви, – горько усмехнешься ты, Максим.
– Зачем, когда можно и сразу.
– Ты циник.
– И ты тоже. Пей.
– Я пью, и ты тоже пей.
– Я пью, ты что, не видишь?
– Они хотят, чтобы мы были им как слуги, чтобы мы были как калибаны, чтобы мы носили за ними их сумочки и рюкзачки.
– Они не знают, Максим, кто они, и мы им нужны, чтобы они узнали, потому что они могут знать через нас, только через нас, и тогда мы им отдаём, а они нам возвращают, и оттого движутся звезды и планеты, и звезды и планеты этого и хотят, и если ты знаешь это, то ты это делаешь только ради звезд, а не как народ, только для своего удовольствия, как свиньи.
– Пойдем, дружище, для своего удовольствия, как народ, ведь больше не остается ничего.
– Вот я и говорю, хряк ты.
– Почему так тяжело молчание, когда она проходит мимо и я ничего не могу ей сказать?.. Ничего.
Кто-то выстрелит себе в рот, и в его глазах застынут звезды, кто-то увидит себя над собой, как он оставляет свое тело, капельку семени, из которого никогда не родится девочка, желтое пятно, которое нелепо засохнет и будет сожжено вместе с другой забрызганной кровью одеждой, но что теперь до одежды ему, отправляющемуся с призрачными фалдами в далекое путешествие, этот вздох облегчения, этот ослепительный свет.
Потому что у тебя нет сил любви, и ты не хочешь новых романов, и ты хочешь лишь слепых богов земли, которые помогли бы тебе исчезнуть хотя бы на миг и избавить от мучительного умирания твое молодое тело, потому что ещё длится твоя любовь, длится, длится это мгновение, помнишь, как наклонились под деревом волхвы, и как на небе светила звезда, и мы с тобой, Айстэ, прочли у Леонардо, что из всех органов человека, движущихся произвольно, один лишь язык превосходит остальные по числу движений. Вот почему так долго объяснение в любви, в любви, которая кем-то по неведению предается, только вот кем и за что, и кто и когда начал первым это предательство, отчего счастья нет, а есть только горечь, с какой поднимаешься от самки и слушаешь, как она лжёт, и даешь ей ещё баксов, чтобы ещё раз в себе самом забыться, и с надеждой дотронуться до струны, и попросить звезду, чтобы звезда тебя простила.
Немец, который выйдет за дверь и злобно плюнет и бросит сигарету, вынет бумажник, чтобы подсчитать, сколько он на тебя, Айстэ, истратил, чтобы увидеть свое одиночество и ненавистную пыльную коробку в углу, как надо опять надувать через нипель и добавлять масла в прибор, в этот ненавистный жужжащий женский моторчик, с которым придется опять жить, потому что с жизнью жить опасно, здесь, в России, с жизнью жить опасно, потому что здесь жизнь может ограбить или убить или, что ещё хуже, заразить медленно убивающей через боль болезнью, этой ужасной русской болезнью по имени смертная тоска, от которой люди постепенно сходят с ума и умирают в грязных городских больницах.
Немец, который тоже кому-то отомстит за то, что так больно в этом другом, невидимом мире, в котором были даны обещания и ему, что так легко быть легким и счастливым и что для этого ничего не надо, кроме того, чтобы ты была рядом, чтобы на тебя можно было смотреть, и долго-долго, не отводя взгляда, читая в твоих глазах, что не ошибся, что это та самая правда, что в книгах как священная ложь, и за это, за это, именно за это надо пороть свиней длинными узкими ножами, блестящими при зловещем свете луны, потому что пороть их надо ночью, когда комнату через шторы заливает тусклый лунный свет, и тогда надо накрываться с головой и там, под одеялом, нашаривать усатое рыло и, удерживая за хряк, вонзать, вонзать, вонзать, чувствуя уже, как брызжет и как горячее течет по руке в этой слепой омерзительной темноте, где, задыхаясь, можно только рыдать, рыдать от одиночества.
Девочка, лежащая на спине, открывающая глазки, чмок, чмок, словно бы всасывая из соски невидимое молоко, сладкое молоко, которого нет, соска-пустышка, чтобы не плакать, глядя на потолок, где сплетаются причудливые тени, вычерченные огнями движущихся автомашин, замерших уличных фонарей, как они, тени, уже бегут по стене, эти странные блики, неясные световые волки, обезьяны, слоны, муравьи, чем-то это похоже на ветер, а может, это и вправду ветер, как она, выпростав ручку, пытается их поймать, потрогать их в их беге, эти блики, удивляясь, что они никому не принадлежат, и что её руки не боятся, и что они под её тенью исчезают, эти бесшумные пятна светящихся неведомых существ, что скачут уже и по её руке, – так когда-нибудь и ты догадаешься, что и ты не принадлежишь этому миру, что мир бликов – это и есть изначальный мир, игра света и пустоты, пространства и эха.
Как та самка, та фифа, та актриска, та статистка, как она, когда ты так бессмысленно кончил, когда ты, Максим, так пьяно замычал и отвалился и лежал, насосавшись своих чёрных наслаждений, собираясь с силами, чтобы кончить ещё раз, как она, отдыхая, сказала тебе про Евсея, как она спросила, знал ли ты Евсея, и как ты переспросил: Евсея? И как ты не сказал ей, что когда-то вы были друзья, и как не сказал, что рассорились из-за Айстэ, и что Евсей обещал отомстить, вернуться и отомстить, как ты лишь сказал: „Да, я, кажется, его знал“. И как она, эта фифа, зевнула, и как она, эта актриска, закуривая, сказала, что он, этот Евсей…
И она рассказала, как рассказали и ей в полицейском участке, как он, Евсей, был пьян, когда выстрелил себе в рот, так пересказывал дежурный лейтенант, что этот русский играл в покер на аппаратах, а потом нервно смеялся, а потом пил в баре джин, а потом, оставив в фойе этот никчемный безликий покер, вышел на снег, и это было где-то в Голландии, где снега почти не бывает, и где ещё с начала века тротуары моют с мылом горячей водой, и где на снегу Евсей долго стоял в одной батистовой рубашке, а потом выстрелил себе в рот, meriah, глядя на звезды.
Священная майя, облако сновидений, открой глаза, закрой глаза. Кто-то, кто никогда не умрет, кто-то, кто никогда не родится, забыть о словах, имя которых – имя которых. Кто-то, кто идет по следам, кто-то, кто настигает и настигает, кто-то, кого нет и кто есть… Зачем, Айстэ, зачем мы рассказываем истории, где начало и есть конец и где конец есть начало?
Как ты хотел её найти и как ты искал. Метро, где на каждой двери, в каждом вагоне было написано „не прислоняться“ и где ты читал „НЕПР И СЛОН, Я – ТЬСЯ“. Непр и Слон, что стояли за твоей спиной, дыша перегаром в затылок. Найти, Айстэ, тебя, чтобы это не было так бессмысленно, отчего нажимают на курок, найти, чтобы о чем-то тебе сказать, попытаться хоть что-то объяснить, чтобы ты хоть что-то могла услышать.
И он стоял в ожидании поезда, и он просил Бога – хотя бы ее увидеть. Полупрозрачное лицо Евсея, стоявшего перед ним у самого жерла туннеля, когда закрываешь один глаз, изображение мира сдвигается, и за тем лицом, лицом Евсея, открывается другое лицо – он, я или ты? Ветер, откинувший полы плаща, и сирена поезда, синее вино на небритой щеке, свет фар. „Прости, что и я тоже здесь“, – горько и виновато улыбнется твой друг, чтобы ты вошел в вагон, и чтобы в вагоне встретить Айстэ, и чтобы там никого не встретить и снова блуждать по переходам, подниматься по лестницам, спускаться по ступеням, со станции на станцию, зная, что она, Айстэ, где-то здесь, потому что пространство, это и есть встреча, даже если эта встреча под землей, а не там, где цветут каштаны и где в сумерках ломают сирень, не видя за поцелуями стражей, не там, а здесь, под землей, ниже кладбищ, где прорыты туннели для тех, которых мчат безжалостные поезда. И когда он уже поднимался и когда он уже выходил, когда раздвигались ступени эскалатора, как меха подземного бессмысленного органа, который, играя, славит протекание этой непонятной жизни, когда случайно взглянул вверх, когда вдруг случайно увидел, и это было немыслимо, и это было невероятно, то, что он увидел Айстэ. Но это и был, Максим, твой жестокий Бог, потому что Айстэ держала за руку немца и потому что немец уже к ней наклонялся. И Максим увидел, как она потянулась к нему и как немец коснулся её губ. Та гексаграмма из „Ицзин“: „Не спасешь той, за кем следуешь, невесело её сердце, слабая черта на предпоследнем месте, лишь в речах сохранится раскаяние, лишь в речах исчезнет раскаяние, сильная черта наверху, сосредоточься же на своей неподвижности“.
Зачем тебе видеть, как она сядет с немцем в такси и как немец будет держать свою ладонь на её колене, медленно поднимая все выше, задирая и задирая платье, и как Айстэ будет мучительно улыбаться и говорить ему: „Подожди“. И как он наклонится к ней, и как она уже будет лежать в его постели, расставив ноги. И название одеколона будет „Mein Kampf“. То, что ты видишь, Максим, и то, чего ты никогда не увидишь, чего не узнаешь никогда, о чем она тогда думала. Зачем ты предал эту любовь?.. Как, когда немец, жестоко раздвинув, жестоко вошел, Айстэ вдруг мельком увидела Евсея, как будто это не немец, а это Евсей в неё вошел. Как когда она испугалась, это странное чувство, что теперь она никогда не сможет петь, петь так, как пела, на одном дыхании, и она не знала, что сейчас, именно сейчас ты, Максим, судорожно набираешь номер немца и отчаянно пытаешься дозвониться. Как она попробовала было его оттолкнуть, скинуть этого немца, который на неё уже наседал всем весом своего грузного тела, и который уже в ней трудился, и который уже в ней работал, как будто что-то в ней подменял, как ей стало страшно и как он сказал: „Не бойся“. И как она почувствовала, что он ворует, что он что-то такое у неё берет и что-то такое у неё отнимает, и как она крикнула: „Максим!“ Как будто только ты, Максим, только ты мог помочь. И как тогда немец остановился, и как его лицо стало серым и стало злым, и как его пенис скукожился, вылезая из Айстэ. И как немец спросил: „Максим?“ И как Айстэ сказала: „Я тебя ненавижу“. И как он сказал: „А ты знаешь, что застрелился Евсей?“ И как холод словно разлился по ее телу. „Что? Что ты сказал?“ – переспросила она. „А ты что, не знала? Одна актриса на той квартире, она приехала из Голландии, та, с которой остался тогда твой Максим“. И как он рассказал ей, как та рассказала ему, как Евсей вышел на снег и как выстрелил себе в рот, чтобы никогда не сказать: „Айстэ, я тебя люблю. Айстэ, я тебя ненавижу“. Как она вспомнила его счастливый взгляд, счастливый взгляд Евсея, и очертания его лица и увидела, как оно разорвалось на части. И, глядя, как пытается закурить немец, как он щелкает и щелкает зажигалкой и как нет и нет огня, она почувствовала, как будто и она сейчас, вот сейчас должна выстрелить себе в рот, чтобы замолчать навсегда, и как она зарыдала. Немец, который медленно поднялся и смотрел, как он смотрел на неё, как она плачет. Как подняла к нему своё заплаканное лицо и сказала: „Дай мне выпить! Слышишь?! Дай мне чего-нибудь выпить“. И как он принес ей коньяк, коньяк, в который он не кинул таблетку, потому что теперь был уверен, что всё получится и так.
Как смерть имени в страдании имени и как отречение. Где то, что было вчера, где вчера? Его нет, как его не было и раньше, но оно есть, оно, увы, есть, но оно и есть, и нет его, и ни есть, ни нет. Через бесконечную череду мгновений подняться к самому началу, чтобы осознать и его иллюзорность, осознать, что всё лишь великая пустота, пространство, исполненное причудливой игры света. Тот, кто знает священные звуки мантры, тот достигнет исполнения желаний, только какой в этом смысл, страдание или наслаждение, колесо жизни и не-жизни, разорви цепь и не рождайся, вот в чем смысл смерти, великой возможности освобождений.
И тогда я подумал, что я тебя никогда не касался, и что я тебя никогда не видел, и что тебя никогда не было, потому что сон, это как сон. И тогда Айстэ невесело усмехнулась. „Ты шутишь“, – сказала она. И Максим был перед ней, и она сидела, качая коляску, в которую перекладывала на ночь дочь, чтобы качать, качать, качать, чтобы не плакать, не плакать, не плакать и чтобы видеть другие сны, чистые сны про муравьев и птиц, и про смешного Незнайку, который знает всё, всё, всё, и про шары, зеленые, оранжевые и голубые, и про глаза зверей, которые по ночам не спят, и видят, как они растят под землей ходы и образовывают огромные залы, в которых можно жить, потому что раньше все звери жили под землей, потому что земля – это мать, мать – земля, в которую ложишься, когда умираешь, а небо – отец. И Айстэ смотрела, как спит девочка, как она разметалась во сне, как она чмокает и как она движется над, чтобы однажды, оглядываясь назад, когда ещё ничего не было, когда было лишь начало, смеющееся пространство, исполненное рыб, цветов и солнца, и когда ещё не было этого мальчика с травинкой, что так странно на тебя посмотрел, словно что-то такое в тебе увидел, словно потянул на себя светящуюся нить, и затягивая, и затягивая, когда уже исчез навсегда. И, глядя на девочку, Айстэ снова вспомнила о Максиме, как они лежали на его диване, как было хорошо, и как она запрокинула голову, и ветви дерева за окном были как корни и уходили в небо, и как она закрыла глаза: „Так… так… да… да… ещё… мой хороший“. И в той комнате был ангел, вырезанный из тонкой серебристой фольги, и ангел парил на невидимой нити, завязанной узелком под самый потолок, и в той комнате не было люстры и она освещалась лишь четырьмя настольными лампами, которые стояли где придется – на полу и на полке, на столе и на другом столе, за которым иногда читал книгу Максим, когда жил один, без женщин. И как потом ты засмеялась и как сказала: „Счастье моё“. И как я сказал: „И мое“. И как ты сказала: „Мы будем жить одни“. И как я сказал: „Наверное“. И как ты сказала: „У нас будет девочка“. И как я улыбнулся: „А почему не мальчик?“
Прижимаясь к тебе, ощущая твое тепло, это сонное женское твоё, Айстэ, тепло… Кто-то нежно тычется как теленок, чтобы потом бороться как бык, за яркий свет как бык, за яркий свет звезды, за её ясный и чистый свет, как потом я лежу в полутьме поверх свечения четырех ламп, возвращаясь постепенно к этому миру, прислушиваясь к себе, когда исчезает граница тел и далекая звезда – это тоже я, когда вслушиваешься в молчание тел, когда тебе говорит звезда. Как ты поешь про старые времена, когда все было так легко. „Знаешь, иногда я так счастлива…“
Немец, который войдет незаметно, как мерзко он тебе, Айстэ, улыбнется, и как он скажет: „Пора“.
Мертвая принцесса никогда не родится, пока её не встретит жених, мертвая принцесса не раскроет рта, пока губы ее первого жениха её не коснутся. Были розы, и они не нужны. Как приходит осень, когда срезаны розы…
Помнишь, как я был в белой рубашке, как я „крутил колесо“ и обещал показать тебе сальто, смертельное сальто назад, сальто-мортале? Помнишь, тогда была странная жаркая весна, и вишня распускалась перед черемухой. „Апокалипсис“, – шептали в аллеях старушки. А мы ломали сирень, а мы купались ночью в озере (та, ночная невидимая вода и словно парящие блики светильников), а утром перебегали шоссе, легко рискуя жизнью, и в кафе на станции, забывая о риске, смеялись. В кафе твое лицо было так близко, так странно близко, что у тебя такое лицо, и я спрашивал себя: неужели это лицо девушки, которую я люблю? почему она такая? это так странно, губки бантиком, которые ты иногда поджимаешь, как девочка, карие глазки и ещё то, как ты трепещешь, когда говоришь, словно ты говоришь, вся говоришь… Как ты смешная, в одном халатике переходишь из комнаты в комнату и поешь „у-и-а“, твоя утренняя распевка, всего полчаса, чтобы не перетрудить связки, а потом за завтраком рассказываешь какую-нибудь ерунду, как тебя пытался изнасиловать школьный учитель или про свою соседку по даче, толстую-толстую, которая после родов сворачивала груди, засовывая их в лифчик, так она, бедняга, похудела. „У-у-ии-аа“… Как ты готовишь салаты и как я на тебя смотрю, скрипка, на которой ты играешь иногда быстро, иногда медленно, медленно-медленно, о, этот медовый тягучий звук, эта бесконечно длящаяся нота, в которой скрыты концерты, в которой текут века таких же мгновений, когда есть только ты и я, „что это?“ „я не знаю“ „играй ещё, ещё“, тех наслаждений, от того, что это длится и длится.
„Пора“, – скажет немец, и немец раздвинет диван, разберет постель с извечным запахом своего немецкого пота, пота немецкой прилежной работы. Зевая, наденет ночной колпак и скажет (щелк-щелк – костяшками пальцев) про супружеский долг, посмотрит через очки, нежно и отвратительно улыбаясь, и ты, Максим, стоя в вагоне метро и глядя в черное отражение стекла, увидишь, как он, этот тучный человек, словно присыпанный тальком, в дурацком ночном колпаке, расстегивая ширинку на пижаме и доставая свое богатство, начнет деловито ебать, просто ебать твою, Максим, любовь, ебать твою любовь, чинно, размеренно, для своего здоровья, для своей немецкой семьи, вдоль и поперек, вдоль и поперек, потому что свое, своя частная гигиена, Айстэ – своя частная гигиена, и… „Что же ты ждешь?!“ – крикнет тогда за твоей спиной Евсей, выкрикнет то, что ты давно уже хочешь услышать: „Убей его! Задави этого немецкого гада, если ты еще мужчина! Чтобы ты принадлежал этой жизни, чтобы ты имел право сказать, что и твоя жизнь все же была“.
Во имя чего приносятся жертвы, и кто-то стреляет себе в рот, и чей-то прах развеивается по полям, чтобы взошли другие злаки, сильные злаки, злаки как священные знаки, услышь же этот грохот из-под колес железного поезда.
„Потому что она, Айстэ, звезда, – cкажет тебе Евсей, – а ты никто, вот в чем ты себе не хочешь признаться, потому что и ты, Максим, – Калибан, и ты избран быть Калибаном, вот чего хочет от нас ее мать, чтобы она могла по вечерам есть рыбу, запивая ее белым вином, завоевывая вместе с Айстэ Америку и Европу, опираясь на тебя, Калибан, на твою могучую спину. Посмотри в черное стекло вагона и ты увидишь, как они сидят, Айстэ и ее мать, кивая большими головами, и как они ждут, как они ждут своего Калибана, своего раба и слугу, который будет бегать, бегать, бегать, который будет носить, носить, носить, который будет платить, который будет доставать и возить их развозить по Америкам и по Европам, а они будут тебе нашептывать про мертвого Ромео, про мертвую Джульетту, и наградой тебе будет маленькое счастливое существо, шевелящее пухлыми ножками и смешно шлепающее в ладоши и смотрящее на тебя ясными невинными глазами, и улыбающееся чисто, без морщин. И ведь ты будешь ее любить, теперь свою девочку, как ты будешь любить жену свою Айстэ, забывая эти смешные вопросы, кто ты и зачем, и что это за неясное чувство, что ты для чего-то предназначен, как тот непальский царевич, и о чем теперь нет смысла вспоминать. И тогда взойдут другие злаки и тогда пожнут другие плоды, тогда забудутся эти ошибки и тогда простятся эти грехи, и проживется слепая жизнь человека, слепая счастливая жизнь человека. Поспеши же, а не то унесутся ветром воздушные знаки и догнать их сможет лишь Ариэль, лишь тот, кто поет песни воздуха“.
Как однажды ты наклонился над ванной, и стоял, опершись на обе руки, и смотрел, как внизу, на дне, плавали твои разноцветные рубашки, как красивые мертвые животные, и это была твоя жизнь. Жизнь, в которой она, Айстэ, снова проходила так близко, когда еще ее можно было вернуть и когда еще опять было не поздно что-то исправить. „Или еще я не совсем мертв?“ – горько усмехнулся ты, глядя вниз, на белье.
Как ты лежишь на диване, как ты бредешь по улице, как ты наклонился над ванной, как ты спрашиваешь сам себя на берегу этой реки, у старой полуразрушенной башни, где зеленые ящерицы на горячих камнях, протяни руку – и они исчезнут, как ты спрашиваешь сам себя:
– Кто я?
И как кто-то тебе отвечает:
– Кто я?
И как тогда ты спрашиваешь:
– Где я?
И как тогда кто-то тебе отвечает:
– Где я?
Звук твоего голоса, на одном дыхании, эхо твоих отражений, поверх хрустальных сфер, кто-то, кто еще хочет слышать, кто-то, кто еще хочет услышать, что все всегда начинается по ту сторону надежды.
Потому что это берег реки и это старая полуразрушенная башня – место, где начинается нигде, где ты смотришь на свои руки, и где трогаешь свое лицо, и где вспоминаешь то, чего нет и чего, быть может, и не было, ведь все так легко придумать и каждый придумывает сам себя, как ты упиваешься своей болью, чтобы избавиться от нее, избавиться от того, что было.
Место, где происходит ритуал, и где ты среди них, этих других людей, вспоминая об Айстэ, и о той гексаграмме из „Ицзин“, и о трех драгоценностях, ожидая, когда выйдет мастер, когда выйдет буддийский маг, который избавит от мучительного умирания.
Место, где ты среди них – разные другие люди – человек с выпученными глазами, который ночью бегал по гомпе, где ты спал, и который, когда его спрашивали: „Что ты делаешь?“ – отвечал: „Я бегаю“; и еще хиппи в полотняных белых одеждах, и ещё три студентки, и пожилой таджик в халате, и женщина, у которой умер муж, и женщина, у которой муж в тюрьме, и четверо парней из Архангельска, с которыми ты ехал в поезде… И их, этих разных людей, было много, которые приехали сюда, так далеко, чтобы побыть со своей смертью так близко. И, быть может, многим из них было страшно, как было страшно и тебе, хотя та жещина, муж которой умер, говорила, что это не страшно и что смерти нет. Она сидела рядом, раздвинув колени, и говорила, что это внутри тебя и что ты остаешься, что ты как бы над, там, в нигде, в той чистой стране, имя которой Девачен, и в то же время здесь.
Маленькая капелька крови, которая выделится на темени и которая будет как знак. И она, та женщина, заглядывала тебе в глаза и странно улыбалась. Та другая капелька крови, капелька крови Айстэ, что впитывалась в белую ткань простыни, обозначая хитросплетение узора, когда было еще нельзя, нельзя, как входит и выходит твой фалл, и как в изнеможении она откинула голову и изогнулась, напрягая живот. „Так… так… хорошо… ещё… ещё… мой хороший…“
Буддийский мастер в темно-красной одежде, колокольчик в его руке – пама – символ пустоты, как в другой – дордже – жезл – символ сияния.
Тот помост, на котором спят ночью студентки, чтобы их не коснулась роса, так они смеялись, как ты нечаянно наступил одной из них на лицо, когда пробирался за тем желтым листком, на котором были написаны священные слова мантры, в одиннадцать, когда было ещё не поздно, когда одна из них уже спала, накрыв лицо тканью, и ты не заметил, и она вскрикнула, а потом ты вернулся к костру, чтобы выучить эти слова наизусть и повторял. И та женщина, у которой умер муж, почему-то снова была рядом, и она не видела, как ты подошел, и она смотрела на огонь, и она не двигалась. Как плясали блики пламени на её неподвижном лице, и как были черны и блестели её черные волосы… Тот странный разговор, что едва доносился из гомпы, как они говорили, те, что были здесь не в первый раз, как те избранники, которые знают, как можно этого достичь, и что это не для собственного наслаждения, а для наслаждения Божества, и что для этого надо свое наслаждение сдерживать, и что для этого надо знать один тайный звук и повторять его долго-долго, на одном дыхании, а не рвать, как рвет туда и сюда попса, и что этот звук, этот священный звук знают немногие, и что для этого нужна не просто пизда, а нужна священная пизда, пизда богини или полубогини, которая тоже знает об этом и которая тоже делает это не для своего наслаждения, а как священный ритуал, для наслаждения Божества, и они, эти избранницы, тоже знают этот тайный звук, и они его повторяют, погружаясь с тобой в свет и им, светом, становясь, в нем, в свете, растворяясь, в свете, который везде и нигде, и тогда ты узнаешь то, чего ты не знал, и то, что другим, обычным смертным, недоступно, и как она подарит тебе карму своих добрых дел, так и ты подаришь ей свою, и тогда вы сможете вернуться к началу и найти причину того, почему мир движется так, как он движется.
Как падали яблоки в ручей и как лежали там, на дне, красные, желтые и белые. Как был сладок виноград, который вы покупали у старого Яна, сами снимая кисти с лозы, ты, человек с выпученными глазами (кажется, его звали Роман) и та женщина. И как она сказала: „Северо-западный ветер“, когда вы проходили мимо железной дороги, где была одна колея… Виноград лопался, когда ты его отрывал от лозы, спелые синие ягоды с тонкой кожицей, под которой искрилась плоть, а старый Ян качал головой, рассказывая, что вода идёт с горы вниз, а потом её гонят насосом обратно, к его фанзе, и иногда, когда хочешь пить, нет воды. И ещё он рассказывал, что здесь перепутаны времена, что здесь есть три времени – местное, по Алма-Ате и по столице, – и что одно из них забегает вперед, а другое отстает, а свое словно бы и не движется.
Как, когда ты умираешь, так важно, чтобы потоки сознаний устремлялись через отверстие Брахмы, оставляя твое тело, и как нельзя касаться тела умершего, чтобы они не исходили через другие отверстия, если ты хочешь родиться снова человеком.
Как, когда они, потоки сознаний, исходят через ухо, то ты рождаешься в другом мире, в мире гандхарвов, небесных музыкантов, и пребываешь как те ноты, те звуки, что длятся и длятся, рождая иные миры.
Потому что ты – та женщина, Айстэ, которой нельзя касаться, потому что ты как ты, но ты не как ты, а ты как-будто как ты.
Как курится и стелится дым тех благовоний, словно те письмена из „Тибетской книги мертвых“. Буддийский маг попросит Дордже Чанга и всех великих учителей, монахи польют воду на зеркало, тонко-тонко зазвенит колокольчик пама, проникая окрестности, обритая наголо голова монаха, дордже, который держит в руках маг, дордже, в котором блестит солнце, высокие облака в синем небе, как ветер шевелит листвой у самой воды, и ты чувствуешь его прохладу, звук колокольчика, что как эхо.
Как день за днем принимая священную форму светящегося Йидама,[4] принимая свою жизнь как она есть, ты сам в себе смотришь вверх через отверстие Брахмы, что на самом верху, на твоем темени, и просишь Амитабу, Будду Безграничного Света, что пребывает над тобой и подобен закату в миллиарды солнц: „О, Лучезарный, благослови на совершение пути Пхова!“ И как потом, собрав себя, как ты есть, отправляешь в самое сердце Амитабы, в чистую страну Девачен.
Тот, последний день ритуала, когда ты подумал, что всё уже кончено и что ты – это уже не ты. И те обрывки воспоминаний, и те измученные картинки, что как под стеклом, Айстэ, как под стеклом, и та девочка, как под стеклом, и немец, как под стеклом, и нашептывающий про убийство Евсей, как когда под стеклом аквариума в молчании беззвучно глотают рыбы, выпучивая от недостатка воздуха глаза, и ты наклоняешься над ними, глядя, чего они хотят, это так странно, словно теперь ты другой, словно теперь у тебя нет плавников и словно теперь у тебя нет жабр, и что ты дышишь свободно, без воды, что ты не добываешь воздух из воды. Тот, последний день ритуала, и те две высокие птицы, которые парили над этим местом, и как кто-то сказал, что на Пхова всегда бывает радуга, и как радуга действительно была.
Те, кто теперь знает, как умирать, те, кто теперь знает, как рождаться, и ты слышишь, что говорит тебе маг. Те, кто открыл в своей смерти, и те, кто ещё не открыл, идите на яркий свет, очищая в себе изначальное зеркало.
Тот, последний день ритуала, когда маг сказал, что скоро откроется и тебе, но что ты должен быть осторожен и не касаться женщин. Капелька крови, знак посвящения, отверстие Брахмы, что ты так мучительно раскрывал здесь, на берегу реки, у этой старой полуразрушенной башни, чтобы перестать называть это здесь – везде. День за днем боль, что сжимала твое сердце, как в тисках, твой длящийся и длящийся смертный час, лишь бы уйти от своего несчастья, лишь бы уйти от безумия, умереть, чтобы не умирать, каждую минуту и каждый час, Айстэ, Айстэ, лишь бы освободить пространство от твоего, Айстэ, невидимого присутствия, снова увидеть даль, те высокие стволы, как когда-то я шел, меся ступнями божественную грязь, глядя, как зависает солнце в разрывах листвы, эти тонкие пушистые нити, светящиеся нити солнца, что качаются на ветвях и касаются мягко моих ресниц, когда я прищуриваю глаза и слегка прикрываю веки, что как будто эти лучи, они и есть мои светящиеся ресницы…
Тот, последний день ритуала, когда ты, Роман и та женщина, которая всегда садилась рядом и иногда касалась твоей ноги, широко разводя колени и закрывая глаза, как она тоже боялась умирать, что ты читал на её лице, как хотела и не хотела забыть свою прошлую жизнь и мужа, который был убит, как хотела найти другую, новую жизнь без страданий и несчастий, когда всё получается само собой по ту сторону надежды, тот последний день ритуала, когда собирали виноград в саду, старый смеющийся Ян, и как вдруг стало темно и подул из-за горы северо-западный ветер и пошел дождь, и вы решили переждать и лежали на полу, в фанзе старого Яна, слушая, как дождь шумит по крыше, и Ян радовался, что будет много-много воды, и дождь всё не кончался и не кончался, и каждый из вас троих, глядя в окно, рассказывал свою историю, то, от чего он хотел уйти и от чего хотел избавиться, как говорят перед расставанием те, что случайно едут в одном купе, и поезд несет их через ночь, и им хочется рассказать, почему так странно устроена жизнь и почему счастливы лишь начала, а счастливых концов почти нет, и так часто истории заканчиваются трагично. И Роман рассказывал о том, как он не любил своего отца, как отец ему звонил слишком часто и как рассказывал, как когда-то любил одну женщину, а он, его сын, его слушал, молча слушал, не понимая, почему, почему он должен это слушать, вспоминая старческий запах отца, когда сидел с ним рядом, как иногда к нему приходил, как думал, что он чужой, что отец чужой и перестал понимать, зачем звонит ему этот чужой человек каждый день и почему именно этот человек – его отец, зачем отец, и как понял это однажды, когда ему позвонили из больницы и сказали, что его отца сбила машина, то, от чего никак не мог избавиться Роман каждую ночь в своем сне, пробегая по коридорам смерти, чтобы успеть ещё застать жизнь отца, как его тело вывозили на каталке и как отдали одежду в пятнах крови и один белый ботинок, как усмехнулась медицинская сестра: „А разве вы не знали, что при ударе машиной слетают ботинки и летят метров за двадцать и их никто не будет искать, вот почему один?“ Белый „мерседес“ с новыми русскими, который сбил отца, гроб, над которым он так горько плакал, и то, что он понял, что – не слова… Как дождь все стучал и стучал по крыше, и как каждый из них думал о своем, и старый Ян тоже, он курил на веранде, глядя в свое отражение в дожде, вспоминая, как он переходил границу с Китаем, когда-то давно из-за одной девочки, как он напоследок тебе сказал.
И как, когда молчание кончилось, стала рассказывать та женщина. И как она не стала рассказывать, как убили её мужа, а как она рассказала, что до того, как это случилось, она часто писала про это, про то, что его убьют, и как она сказала: „То есть не его, не именно его, потому что убивают всегда каких-то персонажей…“ Потому что она была писательницей. Но персонажи всегда были – он. Внутри неё – он. И как, когда его убили на самом деле, она долго не могла писать, потому что она тоже что-то поняла, ведь она, как это ни странно, любила своего мужа и, быть может, потому и желала его смерти, и как могла убить только его, и что это, наверное, трудно объяснить, что, она, наверное, им всем кажется безумной, как она это сказала, замолчав, и как стало совсем темно, и как дождь всё не кончался, и они молчали, не зажигая огня, и сидели в темноте, не видя лиц друг друга, и им не хотелось возвращаться в лагерь, потому что это был последний день, и завтра все разъезжались по разным городам и странам, чтобы никогда не увидеть друг друга. И как та женищина посмотрела на Максима, и как Максим посмотрел на ту женщину, и они догадались, что они друг на друга смотрят, и как об этом догадался и Роман. Как старый Ян уже спал, покачиваясь в кресле на веранде, и снова пробираясь через камыши, и входя в реку чуть ниже моста, пока светящийся круг от прожектора уходил на тот берег. И как Роман сказал, что он пойдет, потому что у него забита стрелка с хиппи, с теми хиппи, что спали у гомпы каждую ночь, завернувшись в целлофан на случай дождя. И как он поднялся, а та женщина сказала, что хочет чаю, чтобы согреться, перед тем как идти в дождь. И как Роман натянул куртку на голову и вышел. И как Максим и та женщина остались. И как ты подумал, что и тебе надо уже уходить сквозь дождь в новую жизнь, надо бы подняться и сказать, что лучше попить чаю в лагере, как ты вспомнил, что сказал тебе маг, чтобы ты был осторожен, пока не раскроется отверстие Брахмы, и как ты хотел уже подняться и хотел ей сказать, что чаю лучше попить в лагере, и почему-то молчал, и как она дотронулась до твоей руки, и как ты не убрал… Этот последний день ритуала, последний день, когда случается то, что случается, если этого хочешь ты и если этого хочет она, и что если это случается, то не только для вашего наслаждения, но и для наслаждения Божества.
И когда стало совсем темно, он спросил ее: какой цвет этой тантры? И тогда она сказала, что цвет тантры – зеленый. А звук? – спросил он. А звук…
Как та весна, когда вишня распускалась перед черемухой, как та белоснежная ветка, что мы поставили с тобой, Айстэ, в бокал, когда я жил на последнем этаже той шестнадцатиэтажной башни и окна комнаты выходили на северо-запад, и ты, Айстэ, сидела в кресле, читая книгу, и я завязал тебе глаза тонким батистовым платком.
Потому что дело не в книге, а в том, что поверх слов, – сказала потом та женщина Максиму, – и что как люди мы все как люди, и что когда называешь имена, то возникает обычность жизни, и обычность жизни позволяет опереться о колесо, и что одни писатели пишут для славы и еще избавляясь от опыта прошлой жизни, а другие настигают и настигают для наслаждения Божества.
Как та девочка, что растет и растет, как она держится за твои пальцы, как, когда она идет, и как их, пальцы, отпускает, чтобы сама, сама, такие большие деревья и травы, и еще целый мир.
История, которая не знает, где я, которая находит того, кто ищет, находит, чтобы сама о себе рассказать.






