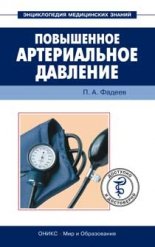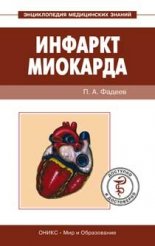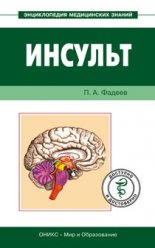Детородный возраст Земскова Наталья
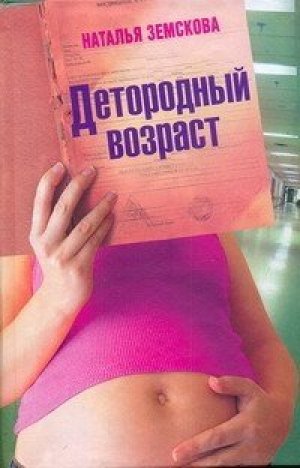
– А дети?
– Только Аня.
– Вот и хорошо: пусть помогает Ане.
– Да что хорошего? Красивый здоровый мужик обязан размножаться. Как исчезающий вид.
– Да уж, исчезает…
– Причем по всем статьям. На рыбалках, охотах, в горах, во всяких экстремальных видах отдыха гибнет кто?
– Мужик.
– В разных катастрофах, драках, локальных войнах и просто в армии?
– Мужик.
– Плюс аварии на производстве, гибель военных самолетов, подводных лодок и прочей техники. Но главное, он, этот мужик, поляризуется.
– Это как?
– Ну, собирается на полюсах общества. Наркоманы, алкоголики, бомжи и преступники в основном кто?
– Они.
– Да, нижний полюс. Ну а верхний – сфера большой политики, большого бизнеса, высокого искусства. Этих интересует только дело. А! Еще одну статью забыла – гомосексуалисты. Мало того что их и так не сыщешь днем с огнем, так они еще и спариваются. Что остается? Жалкая горстка особей, которую рвет на части женская половина человечества. Так что мужчина – нормальный, среднестатистический – обязан размножаться, а не вымирать. Но, как правило, чем он более развит, тем меньше ему хочется это делать: он живет другим.
– А мы выкручивайся как хочешь.
– Вика, ну ты же выкрутилась. Свой погиб – взяла чужого. Хотелось насовсем, но вышло на время. Так что всё логично.
– Не надо мне этой вашей логики, а нужно нормальной человеческой жизни.
– Ладно, я тебя успокою. И живут они на тринадцать лет меньше, чем мы. Так что в любом случае, хоть ты замужем-презамужем, доживать всё равно одной.
И никого это не успокоило. Все жалостно вздохнули.
Глава III
24–26 недель
Я лежу, смотрю в тусклый потолок и думаю о Жанне из нашей бухгалтерии. Примерно на этом сроке у нее начались преждевременные роды, и мальчиков – оказалась двойня – спасти не смогли. Казалось бы, какая разница, пять или шесть месяцев, но разница гигантская. На пяти еще возможен поздний аборт. Шесть – уже преждевременные роды…
Шесть – это ближе к семи. Шесть – это ужас как страшно. Месяц я здесь отлежала, начинаю второй. Дня три как ничего не капают, и, по идее, Реутова вполне может отправить меня домой – до следующего острого состояния. Но перевозки, перевозки… Сказала, что никуда не поеду, готова платить за лечение. Она только рукой махнула и ушла в ординаторскую. Значит, пока не отправит.
Начались явные шевеления ребеночка, будто он крутится, как веретено: раз – и повернулся. А до этого были совсем слабые – движение волны, как будто рыбка проплыла и замерла. Совершенно новые для меня ощущения.
Страшно-то страшно, но есть и плюс: кончилось «межсезонье», то есть период от четырех до шести месяцев, когда беременность как будто бы совсем не проявляется. То ли есть она, то ли нет. Токсикоз давным-давно закончился, а шевелений еще нет, и как ты к себе ни прислушивайся, всё равно ничего не услышишь.
Тяжелее ходить, тяжелее лежать, невозможно сидеть. Сильно расширились вены и всё время болят. Надеваю супертугие чулки на резинке, что почти невозможно с моими способностями, и только тогда встаю. Вены мне еще пригодятся. Пока лежу, живота не видно: он расползается к бокам, и малышка уютно (так я думаю) располагается на мне. Но все попытки устроиться на боку обречены: разросшаяся матка сильно напрягается и становится твердой, как камень, плоскостью. Никогда бы не поверила, если бы не увидела своими глазами. Каждая такая ее реакция приводит меня в ужас, но всякий раз мне кажется, что надо пробовать еще. Не надо, лишний риск – и только.
На той неделе выписали Вику. Перед тем как уйти, она вымыла мне голову – совсем как в парикмахерской. Нагрела чайник воды, велела запрокинуть голову и вымыла над тазом. И так быстро и ловко у нее это вышло, что я не успела устать. Вымытая голова – самое счастливое событие последнего месяца. О большем мечтать не приходится. Душ здесь какой-то есть, но я, скорее всего, не вынесу такую процедуру.
Выписали Громкую Зою. Не выписали – перевели в перинатальный центр, в палату интенсивной терапии, и у нас пока две свободные койки. Оксана, как и я, лежит, у Тихой Зои – плохие анализы, Олю Старцеву наблюдают. В четыре Оля обычно уходит домой, и мы остаемся втроем, уставшие от разговоров и неизвестности, каждая по-своему проживая еще один день.
Чтобы подвести ему черту, я начала петь детские песни. Глажу руками живот и пою, чтобы малышка меня слышала. Во время пения пытаюсь радоваться, чтобы ей доставались положительные эмоции. И так мы с ней всё время в страхе…
Алеша мне принес фонендоскоп, и я слушаю сердцебиение маленькой. Ее сердечко стучит часто-часто – где-то сто шестьдесят ударов в минуту, и мне приходится делать усилие, чтобы сосчитать и не сбиться. Сто шестьдесят! Никогда бы не подумала, что так много.
Буквально на днях мы с ней наладили связь. И стоит мне подумать о ней или ее позвать, как она делает движение. Когда я начинаю с ней разговаривать или напевать песню, она перестает шевелиться и слушает. Правда, сегодня она меня напугала. Проснувшись утром, я, как обычно, «вышла на связь», но никакого шевеления не последовало. Я позвала еще и еще – тишина. Дрожащими руками достала фонендоскоп, послушала стук сердечка, немного успокоилась, поговорила с ней, попросила подвигаться. Некоторое время она не шевелилась, а потом вдруг последовали три внятных толчка, как будто она со мной играла.
Иногда она не шевелится и час, и два подряд – я ужасно пугаюсь. А потом может долго «играть» и «кувыркаться», зная, что меня это радует.
Уверена, мы понимаем друг друга. И чтобы ее не пугать, я изо всех сил скрываю свои страхи. Страхов у меня – некуда девать. Вот, например, бывает замирающая беременность, когда младенец в утробе матери вдруг перестает развиваться. Но я уговорила себя, что вероятность этого кошмара – один случай на миллион, и нечего заморачиваться. А сама всю дорогу тянусь к фонендоскопу.
– Маша, ты так сойдешь с ума, отдай фонендоскоп обратно, – просит Тихая Зоя.
– Не отдам. Пока я ее слышу и пою песни, с нами ничего не случится.
– Отвлекись, почитай, повяжи.
– Мне нельзя отвлекаться, пойми ты.
– Да кто тебе сказал?
– Никто. Не знаю… Но это точно. Отвлекаться нельзя. Я должна следить за маткой и время от времени слушать ребенка.
– Сойдешь с ума.
– От этого не сходят. Сидели же люди годами в тюрьмах, карцерах, одиночках – и ничего, переключались потом на обычный режим.
– И где они, те люди.
– Буковский, скажем, в Англии. Пятнадцать лет сидел за антисоветчину, если помнишь.
– Его на кого-то потом обменяли, да?
– На Луиса Корвалана.
– Подряд пятнадцать лет?
– Нет, с перерывами и сменой декораций: тюрьма, лагерь, лечебница для душевнобольных.
– А он что, душевнобольной?
– Ну, в какой-то степени да, если человек практически в одиночку пытался бороться с тоталитарным режимом и железным занавесом. В тюрьме он выучил английский, читая Диккенса в подлиннике.
– Обалдеть.
– Ага. И первую пресс-конференцию после депортации вел по-английски.
– И что же?
– Преподает там вроде в Оксфорде и пишет книги. А шел, между прочим, конец семидесятых – какая заграница?
– А он туда хотел?
– Не знаю. Скорей всего, не думал. Но они с ним замучились, не знали, что делать, вот и отправили куда подальше.
– А чего мы с тобой про Буковского заговорили? – Зоя уселась на кровать, положив под спину подушку и устроившись, будто в кресле.
– Да вспомнила его тюремные записки – что-то похожее я сейчас чувствую.
– Ну, Маш, ты и сравнила! Наша «тюрьма» хотя бы конечна по времени.
– Я не об этом. Буковский писал, что в тюрьме на тебя всей своей тяжестью наваливается чувство вины перед близкими. Сидишь в карцере, книг не дают, и память любезно подсовывает то, о чем ты очень хотел бы забыть. Что вот, скажем, когда-то, сто лет назад, твоя мама лежала в больнице, а ты, идиот, гонял в футбол и ходил к ней через раз, – ну и так далее. У каждого свое. Он, например, вспоминал про убитого зайца.
– Какого зайца?
– Обыкновенного, белого. Пишет, что возвращался как-то с друзьями с охоты, и вдруг на дорогу выскочил заяц. И они, те, кто были в машине, стали палить по нему изо всех сил. Заяц метался, но его, конечно, убили. Так вот, Буковский говорит, что и до этого, и после ему доводилось на охоте убивать зверей, в том числе зайцев, но такого чувства вины, как за этого, он не испытывал никогда. Пишет, мол, получилось, «за него я и сидел…». Пока живешь обычной жизнью, об этих «убитых зайцах» не помнишь. Но стоит выйти из ежедневной круговерти, как они прямо-таки воскресают из мертвых.
– Точно… – задумалась Зоя. – Но я думала, это только со мной. Слушай, а может, лучше, что эти «зайцы» иногда воскресают. Ведь в обычной жизни они всё равно сидят в подсознании. Как скелеты в шкафу.
– Сидят, конечно.
– А у тебя какие «зайцы»?
– У меня, Зоя, долги.
– Большие?
– Неоплатные.
– Понятно.
– Вот сейчас умирает моя бабушка.
– У тебя что, бабушка жива?
– Обе.
– Как здорово.
– Так вот, бабушка Нюра, Анна Павловна Голубева, со мной сидела до пяти лет. Когда мне было восемь месяцев, мама вышла на работу, а я оказалась несадовская. Бабушке было всего сорок пять. Почти как мне сейчас.