СССР. Автобиография Королев Кирилл
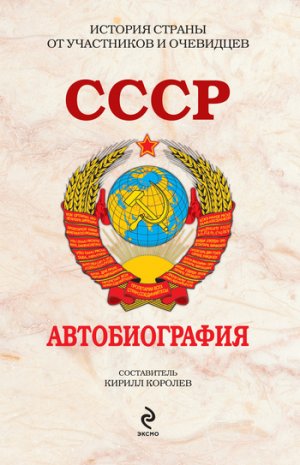
Пролог. Эта страна – была
Кирилл Королев
Подростком я часто задумывался, какой будет жизнь в 2000 году. Эта дата казалась почти мистической – не эсхатологической, вовсе нет, просто рубеж столетий, что-то такое весьма необычное, сулившее новизну и неожиданность. И в те годы ни мне, ни моим сверстникам попросту не могло прийти в голову, что в 2000 году на карте мира уже не будет той страны, в которой мы родились и росли, – Советского Союза.
Мое детство пришлось на «сыто-застойные» семидесятые, на период «махрового социализма», как стало модно выражаться впоследствии; нас окружала хрестоматийная советская действительность эпохи развитого социализма, со всеми ее достоинствами и недостатками, и мы принимали ее как должное. СССР не то чтобы казался вечным – он и был вечен в наших глазах, и иной страны, иной жизни мы себе не представляли.
Взрослея, мы с удовольствием пересказывали друг другу подслушанные у родителей политические анекдоты – зачастую не понимая их смысла, однако по-прежнему воспринимали окружающее как данность, от которой никуда не деться. Мы понемногу, на примерах старших, приучались жить собственной жизнью, параллельной той идеологизированной реальности, которую создавали телевидение, радио и газеты, но и в наших «домашних» мирках не находилось места мыслям о том, что Советский Союз и все то, что олицетворяли собой эти два слова, могут однажды исчезнуть.
Впрочем, к середине восьмидесятых даже тем, кто привычно жил по течению и «уклонялся вместе с линией партии», стало понятно, что в «Датском государстве» очень и очень неладно. Во взрослую жизнь мы вступали под аккорды траурного марша и под «Лебединое озеро» по телевизору; на фоне престарелых предшественников поистине удивительно смотрелся новый генсек, смехотворно молодой по меркам Политбюро: пусть его выступления по большей части содержали всю ту же набившую оскомину риторику, зато он нередко говорил без бумажки – для тех времен это было невероятное событие.
Пока не объявили свободу – что не запрещено, то разрешено, – мы и не ощущали, как нам ее не хватало. Слова «гласность» и «перестройка» повторяли как заклинания, старшие часто вспоминали хрущевскую оттепель и многозначительно качали головами: мол, поглядим, как будет на сей раз... Лично для меня, уже студента, первое воспоминание о перестройке – сугубо экономическое: на центральных улицах Москвы появились лотки, с которых начали продавать гамбургеры и хотдоги, прежде неоднократно клеймившиеся с самых высоких трибун, заодно с кока-колой, как буржуазные, чуждые советскому народу товары.
Между тем страна, незаметно для общества, увлекшегося гласностью и рынком (еще одно модное словечко тех лет), тихо умирала. А мы этого не видели – не потому, что не хотели, а потому, что и предположить не могли, будто такое возможно. Когда начались волнения в национальных республиках, общими чувствами – по крайней мере, в Москве – были растерянность и недоумение, а еще – ощущение предательства: многие искренне верили, что прибалты (равно как грузины, азербайджанцы и далее) выказывают СССР и советскому образу жизни чудовищную неблагодарность. В голове не укладывалось, как они могут так поступать: ведь для нас, поколения шестидесятых-семидесятых, мы всегда были вместе.
Апофеозом гласности стали съезды народных депутатов, впрямую транслировавшиеся телевидением и радио. За ними следили, пренебрегая работой и отдыхом, словно на свете не было ничего важнее, а до коллапса и окончательного распада страны оставалось все меньше...
Итог семидесяти с лишним годам советской власти подвел путч. В полном соответствии с учением Маркса история повторилась как фарс: начало Советскому Союзу положил вооруженный октябрьский переворот 1917 года, ставший настоящей трагедией, а рухнул СССР после опереточного августовского путча 1991 года.
Мы проснулись в другой реальности.
Но эта страна – была.
Кирилл Королев,
Июль 2010 года
Часть первая
«ДО ОСНОВАНЬЯ, А ЗАТЕМ...»
Октябрьская революция, 1917 год
Лев Троцкий
К началу XX века многонациональная Российская империя оставалась единственной европейской страной, в которой еще сохранялась абсолютная монархия – самодержавие. Эта форма правления изжила себя и категорически не соответствовала изменившимся экономическим и политическим условиям, однако из-за существенной инерционности российского общества продолжала свое существование. Ее в значительной степени подорвали поражение России в русско-японской войне 1904–1905 годов и первая русская революция 1905 года, но понадобились еще десять лет, чтобы самодержавие пало. Его падение спровоцировали катастрофические людские потери в ходе Первой мировой войны, продовольственный кризис и нарастание политической активности в обществе: даже Государственная дума – российский парламент, учрежденный в 1905 году и в целом послушный монарху – все чаще выступала против царя и требовала отставки правительства, а заводы по всей стране бастовали, причем забастовщики выдвигали прежде всего политические требования.
В феврале 1917 года демонстрация рабочих Путиловского завода в Петрограде переросла в столкновения с полицией. Так началась Февральская революция, проходившая – за малыми исключениями – без вооруженных столкновений; в ее итоге последний российский император Николай II Романов отрекся от престола, началась подготовка к выборам в Учредительное собрание, а в стране установилось фактическое двоевластие: номинально Россией управляло Временное правительство в Петрограде, а на местах руководили советы рабочих и крестьянских депутатов – выборные органы, находившиеся под сильным влиянием политических партий левой ориентации, прежде всего РСДРП (большевики и меньшевики) и социалистов-революционеров (эсеры).
Временное правительство игнорировало требования общества отказаться от дальнейшего участия в Первой мировой войне, что усиливало протестные настроения, искусно подогревавшиеся социалистами, которые увидели в ситуации возможность прийти к власти в стране. В июле 1917 года восстал Петроградский гарнизон, однако восстание было подавлено вызванными с фронта частями; партию большевиков, принимавших активное участие в восстании, объявили вне закона. В августе вспыхнул так называемый корниловский мятеж – главнокомандующий русской армией генерал Л. Г. Корнилов выступил против Временного правительства и лично А. Ф. Керенского, который объявил себя «диктатором». Испугавшись, Керенский обратился к большевикам, которым сочувствовала значительная часть солдат, матросов и горожан и которые обладали реальной властью в советах депутатов; по его приказу рабочим раздали оружие для обороны Петрограда от туземной дивизии Корнилова, двигавшейся к городу. Агитаторам удалось уговорить мятежников сдаться, а вот оружие, которое раздали рабочим, вскоре повернулось против правительства.
К октябрю 1917 года страна фактически перестала существовать как единое целое, правительство слабело на глазах, и партия большевиков во главе с В. И. Ульяновым (Лениным) не преминула этим воспользоваться.
Одним из главных идеологов октябрьской революции и самых активных ее участников был Л. Д. Троцкий, впоследствии – видный партийный и государственный деятель, а затем – один из первых советских диссидентов.
Октябрьское восстание было, так сказать, заранее назначено на определенное число, на 25 октября, назначено не на тайном заседании, а открыто, всенародно, – и произошло это победоносное восстание в день 25 октября 1917 года, как было намечено.
Мировая история знает немало революционных переворотов и восстаний. Но тщетно память пытается найти в истории другое восстание угнетенного класса, которое было бы заранее во всеуслышание назначено на определенное число и было бы в положенный день совершено и притом победоносно. В этом смысле, как и во многих других, октябрьский переворот является единственным и несравненным.
Захват власти в Петрограде был приурочен ко 2-му Съезду Советов. Это «совпадение» не было делом заговорщицкого расчета, а вытекало из всего предшествующего хода революции и в частности – изо всей агитационной и организационной работы нашей партии. Мы требовали перехода власти к Советам. Вокруг этого требования мы сплотили под знаменем нашей партии большинство членов во всех важнейших Советах. Далее, стало быть, мы не могли уже «требовать» перехода власти к Советам; как руководящая партия Советов, мы должны были эту власть взять. Мы не сомневались, что 2 Съезд Советов даст нам большинство... Мы, со своей стороны, настаивая на скорейшем созыве Съезда, нисколько не скрывали при этом, что, по нашей мысли, Съезд нужен именно для того, чтобы вырвать власть из рук правительства Керенского. В конце концов, при голосовании в советской секции Демократического Совещания, удалось перенести созыв 2 Съезда с 15 на 25 октября. Таким образом «реальный» политик меньшевизма (Ф. Дан. – Ред.) выторговал у истории отсрочку ровным счетом в 10 дней.
На всех петроградских собраниях, как рабочих, так и солдатских, мы ставили вопрос так: 25 октября соберется 2 Всероссийский Съезд Советов; петроградский пролетариат и гарнизон потребуют от Съезда, чтобы он в первую голову поставил вопрос о власти и разрешил его в том смысле, что с настоящего часа власть принадлежит Всероссийскому Съезду Советов; в случае, если правительство Керенского попытается разогнать Съезд – так гласили бесчисленные резолюции, – петроградский гарнизон скажет свое решающее слово. <...>
Итак, Съезд был назначен на 25 октября. Партией, которой было обеспечено большинство, поставлена была Съезду задача – овладеть властью. Гарнизон, отказавшийся выходить из Петрограда, был мобилизован на защиту будущего Съезда. Военно-Революционный Комитет, противопоставленный штабу округа, был превращен в революционный штаб Петроградского Совета. Все это делалось совершенно открыто, на глазах всего Петрограда, правительства Керенского, всего мира. Факт – единственный в своем роде.
В то же время в партийных кругах и в печати открыто обсуждался вопрос о вооруженном восстании. Дискуссия в значительной мере отвлеклась от хода событий, не связывая восстания ни со Съездом, ни с выводом гарнизона, а рассматривая переворот как конспиративно подготовленный заговор. На деле вооруженное восстание не только было нами «признано», но и подготовлялось к заранее определенному моменту, причем самый характер восстания был предопределен – по крайней мере, для Петрограда – состоянием гарнизона и его отношением к Съезду Советов.
Некоторые товарищи скептически относились к мысли, что революция назначена «по календарю». Более надежным казалось провести ее строго конспиративным образом, использовав столь важное преимущество внезапности. В самом деле, ожидая восстания на 25 октября, Керенский мог, казалось тогда, подтянуть к этому числу свежие силы, произвести чистку гарнизона и пр.
Но в том-то и дело, что вопрос об изменении состава петроградского гарнизона стал главным узлом подготовлявшегося на 25 октября переворота. Попытка Керенского изменить состав петроградских полков заранее оценивалась – и вполне основательно – как продолжение корниловского покушения. «Легализованное» восстание к тому же как бы гипнотизировало врага. Не доводя своего приказа об отправке гарнизона на фронт до конца, Керенский в большей степени повысил самоуверенность солдат и тем самым еще более обеспечил успех переворота. <...>
Можно не сомневаться, что попытка военного заговора, независимого от 2 Съезда Советов и Военно-Революционного Комитета, могла бы в тот период только внести расстройство в ход событий, даже временно сорвать переворот. Гарнизон, в составе которого были политически неоформленные полки, воспринял бы захват власти партией путем заговора как нечто ему чуждое, для некоторых полков прямо враждебное, тогда как отказ выступить из Петрограда и решение взять на себя защиту Съезда Советов, которому надлежит стать властью в стране, был для тех же полков делом вполне естественным, понятным и обязательным. Те товарищи, которые считали утопией «назначение» восстания на 25 октября, в сущности, недооценивали нашей силы и могущества нашего политического влияния в Петрограде сравнительно с правительством Керенского.<...>
Последний удар врагу был нанесен в самом сердце Петрограда, в Петропавловской крепости. Видя настроение крепостного гарнизона, который весь перебывал на нашем митинге во дворе крепости, помощник командующего округом в самой любезной форме предложил нам «сговориться и устранить недоразумения». Мы, со своей стороны, обещали принять необходимые меры к полному устранению недоразумений. И, действительно, через два-три дня после того было устранено правительство Керенского, это крупнейшее недоразумение русской революции.
История перевернула страницу и открыла советскую главу.
В опубликованной в 1918 году брошюре «Октябрьская революция» Л. Д. Троцкий более подробно описал события накануне 25 октября и сам захват власти большевиками.
Правительство Керенского металось из стороны в сторону. Вызвали с фронта два новых батальона самокатчиков, зенитную батарею, пытались вызвать кавалерийские части... Самокатчики прислали Петроградскому Совету телеграмму с пути: «Нас ведут в Петроград, не знаем зачем, просим разъяснений». Мы предписали им остановиться и выслать делегацию в Петроград. Представители прибыли и заявили на заседании Совета, что батальон целиком на нашей стороне. Это вызвало бурю восторга. Батальону предписано было немедленно вступить в город.
Число делегатов с фронта возрастало каждый день. <...>
Военно-Революционный Комитет назначил комиссаров на все вокзалы. Они тщательно следили за прибывающими и уходящими поездами и особенно за передвижением солдат. Установлена была непрерывная телефонная и автомобильная связь со смежными городами и их гарнизонами. На все примыкающие к Петрограду Советы была возложена обязанность тщательно следить за тем, чтобы в столицу не приходили контрреволюционные или, вернее, обманутые правительством войска. Низшие вокзальные служащие и рабочие признавали наших комиссаров немедленно. На телефонной станции 24-го возникли затруднения: нас перестали соединять. На станции укрепились юнкера, и под их прикрытием телефонистки стали в оппозицию к Совету. Это – первое проявление будущего саботажа. Военно-Революционный Комитет послал на телефонную станцию отряд и установил у входа две небольшие пушки. Так началось завладение всеми органами управления. Матросы и красногвардейцы небольшими отрядами располагались на телеграфе, на почте и в других учреждениях. Были приняты меры к тому, чтобы завладеть Государственным банком. Правительственный центр, Смольный, был превращен в крепость. На чердаке его имелось, еще как наследство от старого Центрального Комитета, десятка два пулеметов, но за ними не было ухода, прислуга при пулеметах опустилась. Нами вызван был в Смольный дополнительный пулеметный отряд. Рано утром по каменным полам длинных и полутемных коридоров Смольного солдаты с грохотом катили свои пулеметы. Из дверей высовывались недоумевающие или испуганные лица остававшихся еще в Смольном немногочисленных с.-р. и меньшевиков.
Совет собирался в Смольном ежедневно, точно так же и гарнизонное совещание.
На третьем этаже Смольного, в небольшой угловой комнате, непрерывно заседал Военно-Революционный Комитет. Там сосредоточивались все сведения о передвижении войск, о настроении солдат и рабочих, об агитации в казармах, о выступлении погромщиков, о совещании буржуазных политиков, о жизни Зимнего дворца, о замыслах прежних советских партий. Осведомители являлись со всех сторон. Приходили рабочие, офицеры, дворники, социалистические юнкера, прислуга, дамы. Многие приносили чистейший вздор, другие давали серьезные и ценные указания. Надвигалась решительная минута. Было ясно, что назад возврата нет.
24 октября вечером Керенский явился в Предпарламент и потребовал одобрения репрессивным мерам против большевиков. Но Предпарламент находился в состоянии жалкой растерянности и полного распада. Кадеты склоняли правых с.-р. принять резолюцию доверия, правые с.-р. давили на центр, центр колебался, «левое» крыло вело политику парламентской оппозиции. После совещаний, споров, колебаний прошла резолюция левого крыла, в которой осуждалось мятежное движение Совета, но ответственность за движение возлагалась на антидемократическую политику правительства. Почта ежедневно приносила десятки писем, в которых мы извещались о смертных приговорах, вынесенных против нас, об адских машинах, о предстоящем взрыве Смольного и пр., и пр. Буржуазная печать дико выла от ненависти и страха. Горький, основательно забывший свою песню о соколе, продолжал пророчествовать в «Новой Жизни» о близком светопреставлении.
Члены Военно-Революционного Комитета уже не покидали в течение последней недели Смольного, ночевали на диванах, спали урывками, пробуждаемые курьерами, разведчиками, самокатчиками, телеграфистами и телефонными звонками. Самой тревожной была ночь с 24-го на 25-е. По телефону нам сообщили из Павловска, что правительство вызывает оттуда артиллеристов, из Петергофа – школу прапорщиков. В Зимний дворец Керенским были стянуты юнкера, офицеры и ударницы. Мы отдали по телефону распоряжение выставить на всех путях к Петрограду надежные военные заслоны и послать агитаторов навстречу вызванным правительством частям. Если не удержать словами – пустить в ход оружие. Все переговоры велись по телефону совершенно открыто и были, следовательно, доступны агентам правительства.
Комиссары сообщали нам по телефону, что на всех подступах к Петрограду бодрствовали наши друзья. Часть ораниенбаумских юнкеров пробралась все же ночью через заслон, и мы следили по телефону за их дальнейшим движением. Наружный караул Смольного усилили, вызвав новую роту. Связь со всеми частями гарнизона оставалась непрерывной. Дежурные роты бодрствовали во всех полках. Делегаты от каждой части находились днем и ночью в распоряжении Военно-Революционного Комитета. Был отдан приказ решительно подавлять черносотенную агитацию и при первой попытке уличных погромов пустить в ход оружие и действовать беспощадно.
В течение этой решающей ночи все важнейшие пункты города перешли в наши руки – почти без сопротивления, без боя, без жертв. Государственный банк охранялся правительственным караулом и броневиком. Здание было окружено со всех сторон нашим отрядом, броневик был захвачен врасплох, и банк перешел в руки Военно-Революционного Комитета без единого выстрела. На Неве, под Франко-Русским заводом, стоял крейсер «Аврора», находившийся в ремонте. Его экипаж весь состоял из беззаветно преданных революции матросов. Когда Корнилов угрожал в конце августа Петрограду, матросы «Авроры» были призваны правительством охранять Зимний дворец. И хотя они уже тогда относились с глубочайшей враждой к правительству Керенского, они поняли свой долг – дать отпор натиску контрреволюции – и без возражений заняли посты. Когда опасность прошла, их устранили. Теперь, в дни октябрьского восстания, они были слишком опасны. «Авроре» отдан был из морского министерства приказ сняться и выйти из вод Петрограда. Экипаж немедленно сообщил нам об этом. Мы отменили приказ, и крейсер остался на месте, готовый в любой момент привести в движение все свои боевые силы во имя Советской власти.
На рассвете 25 октября в Смольный явились из партийной типографии рабочий и работница и сообщили, что правительство закрыло центральный орган нашей партии и новую газету Петроградского Совета. Типография была опечатана какими-то агентами власти. Военно-Революционный Комитет немедленно отменил приказ, взял под свою защиту оба издания и возложил «высокую честь охранять свободное социалистическое слово от контрреволюционных покушений на доблестный Волынский полк». Типография работала после этого без перерыва, и обе газеты вышли в положенный час.
Правительство по-прежнему заседало в Зимнем дворце, но оно уже стало только тенью самого себя. Политически оно уже не существовало. Зимний дворец в течение 25 октября постепенно оцеплялся нашими войсками со всех сторон. В час дня я заявил на заседании Петроградского Совета от имени Военно-Революционного Комитета, что правительство Керенского больше не существует и что, впредь до решения Всероссийского Съезда Советов, – власть переходит в руки Военно-Революционного Комитета.
Ленин уже несколько дней перед тем покинул Финляндию и скрывался на окраинах города в рабочих квартирах. 25-го вечером он конспиративно прибыл в Смольный. По газетным сведениям положение рисовалось ему так, как будто между нами и правительством Керенского дело идет к временному компромиссу. Буржуазная пресса так много кричала о близком восстании, о выступлении вооруженных солдат на улице, о разгромах, о неизбежных реках крови, что теперь она не заметила того восстания, которое происходило на деле, и принимала переговоры штаба с нами за чистую монету. Тем временем без хаоса, без уличных столкновений, без стрельбы и кровопролития одно учреждение за другим захватывалось стройными и дисциплинированными отрядами солдат и матросов и красногвардейцев по точным телефонным приказам, исходившим из маленькой комнаты в третьем этаже Смольного института.
Вечером происходило предварительное заседание второго Всероссийского Съезда Советов... Зимний дворец был к этому моменту окружен, но еще не взят. Время от времени из окон его стреляли по осаждавшим, которые сужали свое кольцо медленно и осторожно. Из Петропавловской крепости было дано по дворцу два-три орудийных выстрела. Отдаленный гул их доносился до стен Смольного... Выступили два матроса, которые явились для сообщений с места борьбы. Они напомнили обличителям о наступлении 18 июня, обо всей предательской политике старой власти, о восстановлении смертной казни для солдат, об арестах, разгромах революционных организаций и клялись победить или умереть. Они же принесли весть о первых жертвах с нашей стороны на Дворцовой площади. Все поднялись, точно по невидимому сигналу, и с единодушием, которое создается только высоким нравственным напряжением, пропели похоронный марш. Кто пережил эту минуту, тот не забудет ее.
Заседание нарушилось. Невозможно было теоретически обсуждать вопрос о способах построения власти под долетавшие до нас отзвуки борьбы и стрельбы у стен Зимнего дворца, где практически решалась судьба этой самой власти. Взятие дворца, однако, затягивалось, и это вызвало колебание среди менее решительных элементов Съезда. Правое крыло через своих ораторов пророчествовало нам близкую гибель. Все с напряжением ждали вестей с Дворцовой площади. Через некоторое время явился руководивший операциями Антонов. В зале воцарилась полная тишина. Зимний дворец взят, Керенский бежал, остальные министры арестованы и препровождены в Петропавловскую крепость. Первая глава Октябрьской Революции закончилась.
Идеологией новой власти был марксизм – социально-экономическое учение, сформулированное немецкими философами К. Марксом и Ф. Энгельсом и перенесенное на русскую почву Г. В. Плехановым, В. И. Ульяновым, А. А. Богдановым и другими. В России марксизм приобрел экстремистскую окраску (тезис о необходимости вооруженного захвата власти) и превратился из теории в учение, которое партия большевиков попыталась реализовать на практике. Эта попытка признана величайшим социальным экспериментом XX столетия; возможно, так и есть, однако нельзя забывать, что «лабораторией» для этого эксперимента стала целая страна со всем ее населением. Мало того, лидеры большевиков мечтали о мировой революции и распространении марксизма по всей планете. Эти мечты не осуществились, зато на одной шестой части земной суши возникла и просуществовала чуть более восьмидесяти лет идеологическая империя – Союз Советских Социалистических Республик.
Первые шаги новой власти и Брестский мир, 1917–1918 годы
Владимир Ульянов (Ленин)
Большевики столкнулись с ожесточенным, но разрозненным сопротивлением – мятеж генерала П. Н. Краснова, забастовки государственных служащих в министерствах и банках и т. п. Когда это сопротивление было в целом подавлено, начался демонтаж прежней системы управления («весь мир насилья мы разроем до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим» – как пелось в «Интернационале», гимне социалистов и до 1944 года гимне СССР).
Руководитель большевиков и председатель Совета народных комиссаров В. И. Ленин так описывал первые месяцы правления большевиков:
Нас осыпают градом обвинений, что мы действуем террором и насилием, но мы спокойно относимся к этим выпадам. Мы говорим: мы не анархисты, мы – сторонники государства. Да, но государство капиталистическое должно быть разрушено, власть капиталистическая должна быть уничтожена. Наша задача – строить новое государство, – государство социалистическое. В этом направлении мы будем неустанно работать, и никакие препятствия нас не устрашат и не остановят. Уже первые шаги нового правительства дали доказательство этому. Но переход к новому строю – процесс чрезвычайно сложный, и для облегчения этого перехода необходима твердая государственная власть. До сих пор власть находилась в руках монархов и ставленников буржуазии. Все их усилия, вся их политика направлялись на то, чтобы принуждать народные массы.
Мы же говорим: нужна твердая власть, нужно насилие и принуждение, но мы его направим против кучки капиталистов, против класса буржуазии. С нашей стороны всегда последуют меры принуждения в ответ на попытки – безумные, безнадежные попытки – сопротивляться Советской власти. И во всех этих случаях ответственность за это падет на сопротивляющихся. <...>
Буржуазия и интеллигентские буржуазные круги населения всемерно саботируют народную власть. Трудящимся массам надеяться, кроме как на самих себя, ни на кого не приходится. Без сомнения, задачи, стоящие перед народом, неизмеримо трудны и велики. Но нужно верить в свои собственные силы, нужно, чтобы все, что проснулось в народе и способно к творчеству, вливалось в организации, которые имеются и будут строиться в дальнейшем трудящимися массами. Массы беспомощны, если они разрознены; они сильны, если сплочены. Массы поверили в свои силы и, не смущаясь травлей со стороны буржуазии, начали приступать к самостоятельной работе по управлению государством. На первых шагах могут встретиться трудности, может сказаться недостаточная подготовленность. Но нужно практически учиться управлять страной, учиться тому, что составляло раньше монополию буржуазии. <...>
Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов принял декрет о земле, в котором большевики целиком воспроизводят принципы, указанные в крестьянских наказах... Как бы ни разрешился земельный вопрос, какая бы программа ни легла в основу осуществления перехода земли к крестьянам, – это не составит помехи для прочного союза крестьян и рабочих. Важно лишь то, что если крестьяне веками упорно добиваются отмены собственности на землю, то она должна быть отменена.
Первыми общенациональными декретами Советской власти были декрет о мире и декрет о земле (о них и упоминает Ленин в своем выступлении). Первый декрет предлагал «всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире. Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавляющее большинство истощенных, измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех воюющих стран, – миром, которого самым определенным и настойчивым образом требовали русские рабочие и крестьяне после свержения царской монархии, – таким миром Правительство считает немедленный мир без аннексий (т. е. без захвата чужих земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и без контрибуций. Такой мир предлагает Правительство России заключить всем воюющим народам немедленно, выражая готовность сделать без малейшей оттяжки тотчас же все решительные шаги впредь до окончательного утверждения всех условий такого мира полномочными собраниями народных представителей всех стран и всех наций». Второй декрет гласил, что «1) Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа. 2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов, впредь до Учредительного собрания. 3) Какая бы то ни было порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне всему народу, объявляется тяжким преступлением, караемым революционным судом. Уездные Советы крестьянских депутатов принимают все необходимые меры для соблюдения строжайшего порядка при конфискации помещичьих имений, для определения того, до какого размера участки и какие именно подлежат конфискации, для составления точной описи всего конфискуемого имущества и для строжайшей революционной охраны всего переходящего к народу хозяйства на земле со всеми постройками, орудиями, скотом, запасами продуктов и проч.».
Результатом первого декрета стало подписание 3 марта 1918 года в Брест-Литовске мирного договора между Советской Россией и Центральными державами (Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария). По этому договору Россия лишилась значительной части территорий – Украины, Прибалтики, Финляндии, районов Кавказа – и соглашалась уплатить репарации, однако это позволило стране выйти из войны и заняться укреплением власти.
В. И. Ленин в докладе на заседании Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) так охарактеризовал «похабный мир», как было названо Брестское соглашение:
Товарищи, условия, которые предложили нам представители германского империализма, неслыханно тяжелы, безмерно угнетательские, условия хищнические. Германские империалисты, пользуясь слабостью России, наступают нам коленом на грудь. И при таком положении мне приходится, чтобы не скрывать от вас горькой правды, которая является моим глубоким убеждением, сказать вам, что иного выхода, как подписать эти условия, у нас нет. И что всякое иное предложение является накликанием либо вольным, либо невольным еще худших зол и полного дальнейшего (если тут можно говорить о степенях) подчинения Советской республики, порабощения ее германскому империализму, либо это является печальной попыткой отговориться словами от грозной, безмерно тяжелой, но несомненной действительности. Товарищи, вы прекрасно знаете все, а многие из вас и по личному опыту, что на Россию свалилась тяжесть империалистической войны, по причинам всем понятным, неоспоримым, более грозная и тяжелая, чем на другие страны; вы знаете поэтому, что наша армия так истерзана, измучена была войной, как никакая другая; что все те клеветы, которые бросали на нас буржуазная печать и партии, им помогавшие или враждебные Советской власти, будто бы большевики разлагали войска, – являются вздором... Все, что можно было сделать для того, чтобы удержать эту неслыханно, неизмеримо уставшую армию, все, что возможно было сделать для того, чтобы сделать ее сильнее, было сделано... Действительность показала нам, что воевать после трех лет войны наша армия ни в коем случае не может и не хочет. Вот основная причина, простая, очевидная, в высшей степени горькая и тяжелая, но совершенно ясная, что, живя рядом с хищником-империалистом, мы вынуждены подписать условия мира, когда он ставит нам колено на грудь. Вот почему я говорю в полном сознании, какую ответственность я беру на себя, и повторяю, что от этой ответственности ни один представитель Советской власти не имеет права уклониться. Конечно, приятно и легко бывает говорить рабочим, крестьянам и солдатам, приятно и легко бывало наблюдать, как после Октябрьского переворота революция шла вперед, а когда приходится признавать горькую, тяжелую, несомненную истину – невозможности революционной войны, – теперь от этой ответственности уклоняться непозволительно и надо взять это на себя прямо. Я считаю себя обязанным, считаю необходимым выполнить свой долг и прямо сказать то, что есть, и поэтому я убежден, что трудящийся класс России, который знает, что такое война, чего она трудящимся стоила, до какой степени изнурения и истощения она их довела, в этом я не сомневаюсь ни секунды, они с нами вместе сознают всю неслыханную тяжесть, грубость, гнусность этих условий мира и тем не менее оправдают наше поведение. Они скажут: вы должны были, вы взялись предложить условия мира немедленного и справедливого, вы должны были использовать все, что возможно было, для отсрочки мира, чтобы посмотреть, не примкнут ли другие страны, не придет ли на помощь к нам европейский пролетариат, без помощи которого нам прочной социалистической победы добиться нельзя. Мы сделали все, что возможно, для того, чтобы затянуть переговоры, мы сделали даже больше, чем возможно, мы сделали то, что после брестских переговоров объявили состояние войны прекращенным, уверенные, как были уверены многие из нас, что состояние Германии не позволит ей зверского и дикого наступления на Россию. На этот раз нам пришлось пережить тяжелое поражение, и поражению надо уметь смотреть прямо в лицо. Да, революция шла до сих пор по линии, восходящей от победы к победе; она теперь понесла тяжелое поражение... Вот почему сложилось то отчаянное, трагическое положение, которое заставляет нас сейчас принять мир и заставит трудящиеся массы сказать: да, они поступили правильно, они сделали все, что могли, чтобы предложить мир справедливый, они должны были подчиниться миру, самому угнетательскому и несчастному, потому что иного выхода у страны нет. Их положение таково, что они вынуждены давать бой не на живот, а на смерть Советской республике; если теперь не продолжают своих замыслов идти на Петроград и Москву, то потому только, что они связаны кровопролитной и грабительской войной с Англией, что есть еще внутренний кризис. Когда мне указывают на то, что немецкие империалисты могут завтра, послезавтра представить еще худшие условия, то я говорю, что надо быть к этому готовыми; естественно, что, живя рядом со зверскими хищниками, Советская республика должна ждать нападения. Если теперь мы не можем ответить войной, то потому, что нет сил, потому, что и воевать можно только с народом. Если успехи революции заставляют многих из товарищей говорить противное, то это не есть массовое явление, это не есть выражение воли и мнения настоящих масс; если вы пойдете к настоящему трудящемуся классу, к рабочим и крестьянам, то вы услышите один ответ, что мы не можем вести войну ни в коем случае, нет физических сил, мы захлебнулись в крови, как говорил один из солдат. Эти массы поймут нас и оправдают, когда мы подпишем этот вынужденный и неслыханно тягостный мир. Может быть, отдых для подъема масс займет немало времени, но те, которым приходилось переживать долгие годы революционных битв в эпоху подъема революции и эпоху, когда революция падала в пропасть, когда революционные призывы к массам не находили у них отклика, знают, что все же революция всегда поднималась вновь; поэтому мы говорим: да, сейчас массы не в состоянии вести войну, сейчас каждый представитель Советской власти обязан сказать всю горькую правду в лицо народу, пройдет время неслыханной тяготы и трехлетней войны и отчаянной разрухи царизма, и народ увидит в себе силу и возможность дать отпор. Перед нами стоит сейчас угнетатель; на угнетение лучше всего, конечно, ответить революционной войной, восстанием, но, к сожалению, история показала, что на угнетение не всегда можно отвечать восстанием; но отказ от восстания не означает еще отказа от революции. Не поддавайтесь провокации, которая исходит из буржуазных газет, противников Советской власти; да, у них нет иного слова, как «похабный мир» и криков «Позор!» по поводу этого мира, а на самом деле эта буржуазия встречает с восторгом немецких завоевателей. Они говорят: «Вот немцы, наконец, придут и дадут нам порядок», вот чего они хотят и травят криками «похабный мир, позорный мир». Они хотят, чтобы Советская власть дала бой, неслыханный бой, зная, что у нас сил нет, и тащат в полное порабощение к немецким империалистам, чтобы устроить сделку с немецкими полицейскими, но они выражают только свои классовые интересы, потому что знают, что крепнет Советская власть. Эти голоса, эти крики против мира – лучшее доказательство в моих глазах того, что отрекающиеся от этого мира не только тешили себя непоправимыми иллюзиями, поддавались на провокацию. Нет, надо смотреть губительной истине прямо в лицо: перед нами угнетатель, поставивший колено на грудь, и мы будем бороться всеми средствами революционной борьбы. Но сейчас мы находимся в отчаянно трудном положении, наш союзник не может поспешить на помощь, международный пролетариат не может прийти сейчас, но он придет.
Политические противники большевиков – эсеры и меньшевики – критиковали Брестский мир, кое-где на местах они захватили власть (Поволжье, Сибирь), в июле 1918 года произошел эсеровский мятеж в Москве, а на Урале во многом по инициативе местных эсеров, сторонников продолжения войны, была расстреляна царская семья. Поражение Германии и заключение в ноябре 1918 года Компьенского перемирия, которое объявило недействительными все договоры, заключенные с Германией прежде, позволили аннулировать Брестский мир и вернуть большую часть территорий.
Россия распятая, 1917–1918 годы
Максимилиан Волошин, Александр Блок
Чувства образованного человека, попавшего в водоворот революционных событий, прекрасно выразил поэт и критик М. А. Волошин в очерке «Россия распятая».
Февраль 1917 года застал меня в Москве. Москва переживала петербургские события радостно и с энтузиазмом. Здесь с еще большим увлечением и с большим правом торжествовали «бескровную революцию», как было принято выражаться в те дни. Первого марта Москва прочла манифест об отречении от престола Николая II. Обычная общественная жизнь, прерванная тремя днями тревоги, продолжалась по инерции. На этот день было назначено открытие посмертной выставки Борисова-Мусатова. И выставка открылась.
На вернисаже было много народу. Собрались, скорее, чтобы встретиться и обменяться новостями, чем смотреть картины. И едва ли многие подозревали тогда, что эта выставка – последний смотр уходящим помещичьим идиллиям русской жизни. Ко мне подошел известный московский адвокат и попросил составить воззвание о памятниках искусства, отдающихся под охрану народа. Когда воззвание было написано и скреплено многими подписями, он отвел меня в сторону:
– Хотите, покажу вам нечто весьма занимательное... В другое время не увидите. Только, чур, никому не говорить. Прихватим только Грабаря... Это тут рядом, через дорогу...
Мы перешли через улицу – это было в Салтыковском переулке – и вошли во двор серого, мрачного, запущенного двухэтажного купеческого особняка, отделенного от тротуара забором и палисадником. Поднялись по черной лестнице, прикрытой деревянной галереей, и позвонили у двери, крытой драной клеенкой, из-под которой торчала мочала.
Нам отворил хозяин в сапогах бутылками, в жилете, с рубахой навыпуск. Это был высокий старик с густыми седыми бровями, с длинной зеленой бородой, с бледно-голубыми, светлыми, детскими, но в то же время жуткими – «распутинскими» глазами.
– Грабарь... это цто историю искусства написал. Цитал... Волошин? Не цитал, не знаю... – говорил он, сильно цокая, вводя нас в комнаты. Квартира, в которую мы вошли, сбивала с толку своими странностями. Первая комната носила характер купеческой старозаветной гостиной... Мебель в чехлах, пыльный кокон обтянутой коленкором люстры, портреты, затянутые марлей от мух, непромытые стекла – все носило характер странного запустения. Только один угол комнаты, где стоял круглый стол, покрытый красной клетчатой скатертью, с неугасимым самоваром, был жилым. Дальше вел лабиринт комнат, коридоров, перегородок, где во всех углах можно было усмотреть логова – неприкрытые тюфяки с красными подушками и со смятыми лоскутчатыми одеялами. И посреди всей этой странной, почти нищенской обстановки были собраны такие сокровища, что Грабарь так и ахнул:
– Да здесь их на миллионы собрано... Куда вы нас завели?
– Тсс... Я вам хотел сюрприз сделать. Это один из моих клиентов. Это беспоповская молельня. Он сам удивительный знаток иконописи. Тут и он, и его отец, и дед из рода в род собирали. Вы с ним поговорите-ка об иконах, – прошептал адвокат.
По всем стенам и перегородкам, разделявшим комнаты, сверху донизу, во много рядов были развешаны иконы. Все это были древние драгоценные иконы цвета слоновой кости, киновари и золота, новгородского, московского и строгановского письма: чины, Спасы, Успенья...
– Да мне всю мою «Историю живописи» заново переделывать придется! – восклицал Грабарь, когда мы с тоненькими восковыми свечками, взбираясь по приставным лестницам, рассматривали их по темным углам. Хозяин действительно оказался знатоком, и у них с Грабарем тотчас же разгорелся горячий разговор, и тот, воодушевляясь, вел нас по более укромным закоулкам, хвастаясь потаенными сокровищами. Только мимо некоторых он проходил, роняя с небрежностью:
– Ну, эти смотреть не стоит – это совсем новенькие: времен Алексея Михайловича...
При этом в тоне его слышалось и конфузливое извинение, как у владельца галереи старых мастеров, который торопится поскорее провести знатока-посетителя мимо случайно затесавшегося портрета кисти современного плохонького живописца. Это глубокое пренебрежение к искусству времен первых Романовых, как к непростительной новизне, наивно высказанное в тот самый день, которым заключалась история династии, было поразительно. Я не преувеличу, если скажу, что изо всех впечатлений, полученных в дни февральской революции, оно было самым глубоким и плодородным. Оно сразу создавало историческую перспективу, отодвигая целое трехсотлетие русской истории в глубину и позволяя осознать всю историю дома Романовых и петербургский период как отжитый исторический эпизод. Следующее, еще более глубокое впечатление пришло через несколько дней. На Красной площади был назначен революционный парад в честь торжества революции. Таяло. Москву развезло. По мокрому снегу под кремлевскими стенами проходили войска и группы демонстрантов. На красных плакатах впервые в этот день появились слова: «Без аннексий и контрибуций».
Благодаря отсутствию полиции в Москву из окрестных деревень собралось множество слепцов, которые, расположившись по папертям и по ступеням Лобного места, заунывными голосами пели древнерусские стихи о Голубиной книге и об Алексее – человеке Божием.
Торжествующая толпа с красными кокардами проходила мимо, не обращая на них никакого внимания. Но для меня, быть может подготовленного уже предыдущим, эти запевки, от которых веяло всей русской стариной, звучали заклятиями. От них разверзалось время, проваливалась современность и революция, и оставались только кремлевские стены, черная московская толпа да красные кумачовые пятна, которые казались кровью, проступившей из-под этих вещих камней Красной площади, обагренных кровью Всея Руси. И тут внезапно и до ужаса отчетливо стало понятно, что это только начало, что русская революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой Великой Разрухи Русской земли, нового Смутного времени.
Когда я возвращался домой, потрясенный понятым и провиденным, в уме слагались строфы первого стихотворения, внушенного мне революцией. <...>
Эпоха Временного правительства психологически была самым тяжелым временем революции. Февральский переворот фактически был не революцией, а солдатским бунтом, за которым последовало быстрое разложение государства. Между тем обреченная на гибель русская интеллигенция торжествовала революцию как свершение всех своих исторических чаяний. Происходило трагическое недоразумение: вестника гибели встречали цветами и плясками, принимая его за избавителя. Русское общество, уже много десятилетий жившее ожиданием революции, приняло внешние признаки (падение династии, отречение, провозглашение республики) за сущность события и радовалось симптомам гангрены, считая их предвестниками исцеления. Эти месяцы были вопиющим и трагическим противоречием между всеобщим ликованием и реальной действительностью. Все дифирамбы в честь свободы и демократии, все митинговые речи и газетные статьи того времени были нестерпимою ложью. Правда – страшная, но зато подлинная – обнаружилась только во время октябрьского переворота. Русская революция выявила свой настоящий лик, тайно назревавший с первого дня ее, но для всех неожиданный. Как это случилось?
Недоразумение началось значительно раньше. Если нам удастся отрешиться от круга интеллигентских предрассудков, в котором выросли все мы – родившиеся во вторую половину XIX века, то мы должны признать, что главной чертой русского самодержавия была его революционность: в России монархическая власть во все времена была радикальнее управляемого ею общества и всегда имела склонность производить революцию сверху, старалась административным путем перекинуть Россию на несколько столетий вперед согласно идеалам прогресса своего времени, прибегая для этого к самым сильным насильственным мерам в духе застенков Александровской слободы и Преображенского приказа. Так было во времена Грозного, так было во времена Петра.
Но революционное самодержавие нуждалось в кадрах помощников и всегда стремилось создать для своих нужд служилое сословие: то опричнину, то дворянство. Петр, наскоро сколотив дворянство для своих личных текущих нужд, в то же время озаботился созданием другого, более устойчивого класса, который мог бы впоследствии обслуживать революционное самодержавие. Для этого им был заброшен в русское общество невод Табели о рангах, и его улов создал разночинцев. Из них-то, смешавшись с более живыми элементами дворянства, через столетие после смерти Преобразователя и выкристаллизовалась русская интеллигенция. Но XIX век принес с собою вырождение династии Романовых – фамилии, которая в сущности изжила свое цветение до вступления на престол и в борьбе за него, а к XIX веку окончательно деформировалась под разлагающим влиянием немецкой крови Гольштинского, Вюртембергского и Датского домов. При этом любопытно то, что консервативные царствования Николая I и Александра III все же более примыкали к революционным традициям русского самодержавия, чем либеральные правления Александра I и Александра II. В результате первого самодержавие поссорилось с дворянством, при втором отвергло интеллигенцию, которая как раз созрела к тому времени.
Таким образом, тот именно класс народа, который был вызван к жизни самой монархией для государственной работы, был ею же отвергнут, признан опасным, подозрительным и нежелательным. В государстве, всегда испытывавшем нужду в людях, образовался тип «лишних людей». В их ряды вошло, естественно, все наиболее ценное и живое, что могла дать русская культура того времени. Таким образом, правительство, перестав следовать исконным традициям русского самодержавия, само выделило из себя революционные элементы и вынудило их идти против себя... Когда наступила разруха 17-го года, революционная интеллигенция принуждена была убедиться в том, что она плоть от плоти, кость от костей русской монархии и что, свергнув ее, она подписала этим самым свой собственный приговор. Так как бороться с нею она могла только в ограде крепких стен, построенных русским самодержавием. Но раз сами стены рушились – она становилась такой же ненужной, как сама монархия. Строить стены и восстанавливать их она не умела: она готовилась только к тому, чтобы их расписывать и украшать. Строить новые стены пришли другие, незваные, а она осталась в стороне.
В сложном клубке русских событий 17-го года средоточием драматического действия был Петербург, бывший основной точкой приложения революционного самодержавия Петра. Престол петербургской империи был сколочен Петром на фигуру и на весь рост медного исполина. Его занимали карлики. Вы знаете, конечно, что спиритические явления основаны на том, что медиум, опоражнивая свою волю и гася сознание своей личности, создает внутри себя духовную пустоту и тогда те духи, те сущности, которые всегда теснятся и кишат вокруг человека, устремляются в распахнутые двери и начинают творить бессмысленные и бесполезные чудеса спиритических сеансов. Духи эти, разумеется, духи не высокого полета: духи-звери, духи-идиоты, духи-самозванцы, обманщики, шарлатаны. Это же происходило в последние годы старого режима, когда в пустоту державного средоточия ринулись распутины, илиодоры и их присные. Импровизированный спиритический сеанс завершился в стенах Зимнего дворца всенародным бесовским шабашем 17-го года, после которого Петербург сразу опустел и вымер согласно древнему заклятию последней московской царицы: «Питербурху быть пусту!» <...>
Но в то время, когда в Петербурге шли эти бесьи пляски, Россия как государство еще не имела права заниматься исключительно своими внутренними делами: вплетенная в напряженную борьбу Великой Европейской войны, которую она сама же отчасти и вызвала, она не была предоставлена самой себе. Тут-то и обнаружилась вся государственная беспочвенность русской интеллигенции. Она не смогла убедить народ в том, что он принимает из рук царского правительства государственное наследство со всеми долгами и историческими обязательствами, на нем лежащими, – не смогла только потому, что в ней самой это сознание было недостаточно глубоко. Мне памятно, как в марте на собрании московских литераторов Валерий Брюсов, предлагая резолюцию, говорил: «Мы должны сказать Франции, Бельгии и Англии: Франция! Бельгия! Англия! Не рассчитывайте больше на нашу помощь – боритесь сами за свою свободу, потому что мы теперь должны оберегать нашу драгоценную революцию».
Поэтому я далек от мысли возлагать всю ответственность за Брестский мир на одних большевиков. Для них он был только ловким политическим ходом, и история показала, что они были правы. Но это нисколько не снимает тяжелой моральной ответственности со всего русского общества, которое несет теперь на себе все заслуженные последствия его. <...>
В эти дни Россия являла зрелище беспримерного бескорыстия: не сознавая своей ответственности перед союзниками, ею отчасти вовлеченными в войну, она в то же время глубоко сознавала исторические вины царской политики по отношению к племенам, входившим в ее имперский состав – к Польше, Украине, Грузии, Финляндии, и спешила в неразумном, но прекрасном порыве раздать собиравшиеся в течение веков неправедным, как ей казалось, путем земли, права, сокровища. С этой точки зрения она казалась уже не одержимой, а юродивой, и деяния ее рождали не негодование, а скорбное умиление и благоговение. <...>
Когда в октябре 17-го года с русской революции спала интеллигентская идеологическая шелуха и обнаружился ее подлинный лик, то сразу начало выявляться ее сродство с народными движениями давно отжитых эпох русской истории. Из могил стали вставать похороненные мертвецы; казалось, навсегда отошедшие страшные исторические лики по-новому осветились современностью. Прежде всего проступили черты Разиновщины и Пугачевщины, и вспомнилось старое волжское предание, по которому Разин не умер, но, подобно Фридриху Барбароссе, заключен внутри горы и ждет знака, когда ему вновь «судить Русскую землю». Иногда его встречают на берегу Каспийского моря, и тогда он расспрашивает: продолжают ли его предавать анафеме, не начали ли уже в церквах зажигать сальные свечки вместо восковых, не появились ли уже на Волге и на Дону «самолетки и самоплавки»?..
Наравне с Разиновщиной еще более жуткой загадкой ближайшего, может быть завтрашнего, дня вставала Самозванщина на фоне Смутного времени... Волна всеобщего развала достигла Крыма и сразу приняла кровавые формы. Началось разложение Черноморского флота. Когда я в первый раз при большевиках подъезжал из Коктебеля к Феодосии, под самым городом меня встретил мальчишка, посмотрел на меня, свистнул и радостно сообщил: «А сегодня буржуев резать будут!» Это меня настолько заинтересовало, что, приехав на два дня, я остался в городе полтора месяца. Феодосия представляла в эти дни единственное зрелище: сюда опоражнивалась Трапезундская армия, сюда со всех берегов Черноморья стремились транспорты с войсками и беженцами как в единственный открытый порт.
Положение было у нас настолько парадоксальное, что советская власть в городе была крайне правой партией порядка. Во главе Совета стоял портовый рабочий – зверь зверем, но, когда пьяные матросы с «Фидониси» потребовали устройства немедленной резни буржуев, он нашел для них слово, исполненное неожиданной государственной мудрости: «Здесь буржуи мои, и никому чужим их резать не позволю», установив на этот вопрос совершенно правильную хозяйственно-экономическую точку зрения. И едва ли не благодаря этой удачной формуле Феодосия избегла своей Варфоломеевской ночи.
В те дни в Феодосию прибыло турецкое посольство и привезло с собою тяжелораненых военнопленных. Совет устроил банкет – не военнопленным, умиравшим от голоду, а турецкому посольству. Произносились политические речи, один за другим вставали ораторы и говорили: «Передайте турецкому пролетариату и вашей молодежи... Социальная республика... Да здравствует Третий Интернационал!» После каждой речи вставал почтенный турок в мундире, увешанном орденами, и вежливо отвечал одними и теми же словами: «Мы видим, слышим, понимаем... и обо всем, что видели и слышали, с отменным чувством передадим Его Величеству – Султану».
Между тем борьба с анархистами шла довольно успешно, и однажды феодосийцы могли прочесть на стенах трогательное воззвание: «Товарищи! Анархия в опасности: спасайте анархию!» Но на следующий же день на тех же местах висело уже мирное объявление: «Революционные танцклассы для пролетариата. Со спиртными напитками». <...>
Среди тех, чью руку хотелось удержать тогда, выделялись два типа, которые оба уже отошли теперь в историческое прошлое: это тип красногвардейца и тип матроса. Личины их я зарисовал позже, уже в 19-м году, при втором нашествии большевиков, но наблюдены и задуманы они были тою весной.
И вот, несмотря на все отчаяние и ужас, которыми были проникнуты те месяцы, в душе продолжала жить вера в будущее России, в ее предназначенность.
Память невольно искала аналогий судьбам России в истории падений и разрушений других империй. <...>
В Русской революции прежде всего поражает ее нелепость. Социальная революция, претендующая на всемирное значение, разражается прежде всего и с наибольшей силой в той стране, где нет никаких причин для ее возникновения: в стране, где нет ни капитализма, ни рабочего класса. Потому что нельзя же считать капиталистической страну, занимающую одну шестую всей суши земного шара, торговый оборот которой мог бы свободно уместиться, даже в годы расцвета ее промышленности, в кармане любого американского мильярдера.
Рабочий же класс, если он у нас и существовал в зачатом состоянии, то с началом революции он перестал существовать совершенно, так как всякая фабричная промышленность у нас прекратилась.
Точно так же и земельного вопроса не может существовать в стране, которая обладает самым редким населением на земном шаре и самой обширной земельной территорией. Совершенно ясно, что тут дело идет вовсе не о переделе земель, а о нормальной колонизации Великой русской и Великой сибирской низменности, колонизации, которая идет уже в течение тысячелетий, которой исчерпывается вся русская история и которую нельзя разрешить одним росчерком пера и указом о конфискации помещичьих земель. С другой же стороны, дело идет о переведении сельского хозяйства на более высокую и интенсивную ступень культуры, что тоже неразрешимо революционным путем.
В России нет ни аграрного вопроса, ни буржуазии, ни пролетариата в точном смысле этих понятий. Между тем именно у нас борьба между этими несуществующими величинами достигает высшей степени напряженности и ожесточения. На наших глазах совершается великий исторический абсурд. Но... Credo quia absurdum! В этом абсурде мы находим указание на провиденциальные пути России. <...>
С Россией произошло то же, что происходило с католическими святыми, которые переживали крестные муки Христа с такою полнотой веры, что сами удостаивались получить знаки распятия на руках и на ногах. Россия в лице своей революционной интеллигенции с такой полнотой религиозного чувства созерцала социальные язвы и будущую революцию Европы, что сама, не будучи распята, приняла своею плотью стигмы социальной революции. Русская революция – это исключительно нервно-религиозное заболевание.
Мы вправе рассматривать совершающуюся революцию как одно из глубочайших указаний о судьбе России и об ее всемирном служении. <...>
Россия с изумительной приспособляемостью вынашивает в себе смертельные эссенции ядов, бактерий и молний. Союзники поступают благоразумно, когда остерегаются вмешиваться во внутренние дела России и не хотят принимать активного участия в нашей гражданской войне. Англичане тысячу раз правы, когда, боясь прикоснуться к нам, протягивают нам пищу и припасы на конце шеста, как прокаженным. Я был в прошлом году в Одессе, когда французы, неосторожно прикоснувшись к больному органу, немедленно почувствовали признаки заразы в своем теле и принуждены были позорно бежать, нарушая все свои обещания, кидая снаряды, танки, амуницию, припасы, и потом долго лечились, выжигая и вырезая зараженные места. <...>
Русская жизнь и государственность сплавлены из непримиримых противоречий: с одной стороны, безграничная, анархическая свобода личности и духа, выражающаяся во всем строе ее совести, мысли и жизни; с другой же – необходимость в крепком железном обруче, который мог бы сдержать весь сложный конгломерат земель, племен, царств, захваченных географическим распространением империи. С одной стороны – Толстой, Кропоткин, Бакунин, с другой – Грозный, Петр, Аракчеев.
Ни от того, ни от другого Россия не должна и не может отказаться. Анархическая свобода совести ей необходима для разрешения тех социально-моральных задач, без ответа на которые погибнет вся европейская культура; империя же ей необходима и как щит, прикрывающий Европу от азиатской угрозы, и как крепкие огнеупорные стены тигля, в котором происходят взрывчатые реакции ее совести, обладающие страшной разрушительной силой. <...>
Внутреннее сродство теперешнего большевизма с революционным русским самодержавием разительно. Так же как Петр, они мечтают перебросить Россию через несколько веков вперед, так же как Петр, они хотят создать ей новую душу хирургическим путем, так же как Петр, цивилизуют ее казнями и пытками: между Преображенским приказом и Тайной канцелярией и Чрезвычайной комиссией нет никакой существенной разницы. Отбросив революционную терминологию и официальные лозунги, уже ставшие такими же стертыми и пустыми, как «самодержавие, православие и народность» недавнего прошлого, по одним фактам и мероприятиям мы не сможем дать себе отчета, в каком веке и при каком режиме мы живем. Это сходство говорит не только о государственной гибкости советской власти, но и о неизбежности государственных путей России, о том ужасе, который представляет собою русская история во все века. Сквозь дыбу и застенки, сквозь молодецкую работу заплечных мастеров, сквозь хирургические опыты гениальных операторов выносили мы свою веру в конечное преображение земного царства в церковь, во взыскуемый Град Божий, в наш сказочный Китеж – в Град Невидимый, скрытый от татар, выявленный в озерных отражениях.
Воистину вся Русь – это Неопалимая купина, горящая и несгорающая сквозь все века своей мученической истории.
Пламя, в котором мы горим сейчас, – это пламя гражданской войны. Кто они – эти беспощадно борющиеся враги? Пролетарии и буржуи? Но мы знаем, что это только маскарадные псевдонимы, под которыми ничего не скрывается. Каковы же их подлинные имена? Что разделило их?.. Молитва поэта во время гражданской войны может быть только за тех и за других: когда дети единой матери убивают друг друга, надо быть с матерью, а не с одним из братьев. <...>
Несмотря на мои заявления об аполитичности моих стихотворений и моего подхода к современности, я не сомневаюсь, что у моих слушателей возникнет любопытствующий вопрос: «А все-таки... А все-таки чего же хочется самому поэту: социализма, монархии, республики?» И я уверен, что люди добровольческой ориентации уже решили в душе, что я скрытый большевик, так как говорю о государственном строительстве в советской России и предполагаю ее завоевательные успехи, а люди, социалистически настроенные, – что я монархист, так как предсказываю возвращение России к самодержавию. Но я действительно ни то, ни другое. Даже не социал-монархист. Мой единственный идеал – это Град Божий. Но он находится не только за гранью политики и социологии, но даже за гранью времен. Путь к нему – вся крестная, страстная история человечества.
Я не могу иметь политических идеалов потому, что они всегда стремятся к наивозможному земному благополучию и комфорту. Я же могу желать своему народу только пути правильного и прямого, точно соответствующего его исторической, всечеловеческой миссии. И заранее знаю, что этот путь – путь страдания и мученичества. Что мне до того, будет ли он вести через монархию, социалистический строй или через капитализм, – все это только различные виды пламени, проходя через которые перегорает и очищается человеческий дух. Я равно приветствую и революцию, и реакцию, и коммунизм, и самодержавие, так же как епископ Труасский святой Лу приветствовал Атиллу: «Да будет благословен твой приход, Бич Бога, которому я служу, и не мне останавливать тебя!» Поэтому я могу быть только глубоко благодарен судьбе, которая удостоила меня жить, мыслить и писать в эти страшные времена, нами переживаемые. А над моей размыканной и окровавленной родиной я могу произнести только одну молитву: это «Заклятье о Русской земле».
«Мыслил и писал в эти страшные времена» и другой гений русской поэзии – Александр Блок, произнося свое «заклятье о Русской земле» в поэме «Двенадцать», написанной в январе 1918 года (по мнению С. Н. Булгакова, «вещь пронзительная, кажется, единственно значительная из того, что появилось в области поэзии за революцию»). Что хотел он сказать финалом своей поэмы – остается до сих пор загадкой:
- ...Вдаль идут державным шагом...
- – Кто еще там? Выходи!
- Это – ветер с красным флагом
- Разыгрался впереди...
- Впереди – сугроб холодный,
- – Кто в сугробе? выходи!..
- Только нищий пес голодный
- Ковыляет позади...
- – Отвяжись ты, шелудивый,
- Я штыком пощекочу!
- Старый мир, как пес паршивый,
- Провались – поколочу!
- ...Скалит зубы – волк голодный —
- Хвост поджал – не отстает —
- Пес холодный – пес безродный...
- – Эй, откликнись, кто идет?
- ...Так идут державным шагом,
- Позади – голодный пес,
- Впереди – с кровавым флагом,
- И за вьюгой невидим,
- И от пули невредим,
- Нежной поступью надвьюжной,
- Снежной россыпью жемчужной,
- В белом венчике из роз —
- Впереди – Исус Христос.
«В коммуне остановка»: комсомол и пионерия, 1918–1922 годы
Алексей Ахманов, Иван Коцюруба, Владимир Зорин
Молодежные организации политического толка стали возникать в России после Февральской революции, а после октября 1917 года это движение приобрело немалый размах. Чтобы объединить разрозненные организации в малых и крупных городах и на селе, в 1918 году был создан Российский коммунистический союз молодежи – РКСМ, впоследствии – Всесоюзный ленинский, коротко ВЛКСМ, иначе комсомол.
«Молодой коммунист», если воспользоваться пропагандистским штампом тех лет, из Петрограда А. Ахманов вспоминал:
Организационное бюро находилось в помещении Московского комитета союза молодежи. Это было какое-то огромное школьное здание, с длинными коридорами. <...>
В разговорах окружающих товарищей часто упоминались две фамилии: Цетлин и Шацкин. С этими двумя товарищами нам вскоре прошлось встретиться тут же, в организационном бюро. Тов. Цетлин или Шацкин, как нам сказали, переговорит с нами о съезде и о нашей местной работе.
Смуглый, с черной копной волос на голове, невысокого роста, в косоворотке, Ефим Цетлин производил впечатление простецкого парня. Глядя прямо в лицо собеседнику светлыми, лучистыми, одобряющими глазами, он слушал внимательно. Ефим сразу стал нам близок, как старый и надежный друг. Лазарь Шацкин во время нашей беседы с Ефимом был занят другими товарищами. В блестящей кожаной куртке нараспашку, широкоплечий и довольно высокий, с открытым большим лбом и блестящими глазами, Лазарь напоминал собою капитана, отдающего команды резким и звонким голосом. Он казался властным юношей, верящим в свои молодые силы и непоколебимым в своих решениях. Никогда нельзя было даже предположить, что этому стройному юноше всего лишь 16 лет. <...>
29 октября 1918 года, при сером осеннем свете, тщетно соперничавшем с электрическими снопами большой люстры залы «дома съездов», Ефим Цетлин от имени организационного бюро объявил 1 Всероссийский съезд организаций рабочей и крестьянской молодежи открытым.
Этот час был поистине незабываемым. В те дни вся страна особенно переживала революционный подъем. Через юнкерские кордоны и колючие проволочные заграждения проникали в Советскую Россию предвестья близкой революции в Германии. Это было началом того периода, когда считали потерянным каждый день, не приносящий вести о революции в каком-либо капиталистическом государстве. Все наши чувства были остро настроены на интернациональный лад. Высказанная во вступительной речи Цетлина уверенность в том, что за нашим съездом последует международный съезд молодежи, вызвала бурю восторженных аплодисментов. <...>
Съезд начал свою деловую часть смотром сил местных союзов. Доклады с мест выявили самую пеструю картину разнообразной деятельности организаций молодежи. Характер союзной работы оказался всеобъемлющим: от героической борьбы на фронте и в подполье у белых – до устройства танцевальных курсов. Питер, Москва, Урал, Украина, промышленные и прифронтовые города отдавали свои лучшие силы фронту. Если Воронежский союз мог похвастаться созданием лучшей в городе спортивной организации, то представители Глухова, Московской губ., порадовали нас организацией бесплатной столовой для детей бедных семей. Если одни делегаты настаивали на культурно-просветительной работе, то другие признавали главным образом политико-воспитательную деятельность. <...>
На съезде группа товарищей высказывалась против предложения назвать союз коммунистическим. Наиболее ярким идеологом этой группы «справа» был воронежский делегат Петкевич. Высокопарными фразами, в роде того, что «знамя коммунизма каждый из нас должен носить в сердце», он возражал против названия «коммунистический союз», которое отпугнет-де от союза малосознательные, в особенности крестьянские массы молодежи. Он говорил:
– Если мы примем название «коммунистический союз», то наша танцевальная секция, при помощи которой мы пытаемся привлечь новых членов, потеряет свой агитационный смысл.
– Коммунисты сражаются, а не танцуют! – ответил ему с достоинством питерский делегат В. Петропавловский, впоследствии геройски погибший на фронте. <...>
При голосовании вопроса о названии союза подавляющим большинством съезд постановил назвать союз Российским коммунистическим союзом молодежи. Таким образом был основан комсомол. <...>
Президиуму оставалось выполнить поручение съезда – посетить тов. Ленина и рассказать ему об организации и задачах комсомола, о том, что родился младший брат славной большевистской коммунистической партии. <...>
В Кремле нас долго водили по длинным коридорам, пока мы не добрались до комнаты, у дверей которой стоял караульный. Это была приемная комната перед кабинетом Ленина. Нас впустили, попросив обождать несколько минут.
Ильич поднялся нам навстречу, выйдя из-за своего письменного стола, непринужденно протягивая каждому из нас руку. С каким-то особенным чувством пожал я руку Ильича, опасаясь в то же время причинить ему хоть малейшую боль, думая о недавно перенесенной им тяжелой ране.
Пока в волнении переминались наши «вожаки», которые должны были начать разговор с Ильичом о цели нашего посещения, Ленин стал сам задавать нам вопросы. Не помню кто – Цетлин или Шацкин – сказал ему о том, что съезд постановил назвать наш союз коммунистическим. Ленин со своей хитрой и обаятельной улыбкой в ответ на это заметил: «Не в названии дело». <...>
К концу беседы с нами, длившейся около 10–15 минут, Ленин предложил нам пользоваться в любое время его помощью и его библиотекой, в которой мы сможем найти, как он сказал, книги и, главное, журналы юношеского революционного движения на Западе, в особенности издания швейцарского и германского союза молодежи.
Затем Ильич присел за свой письменный стол и на отрывном листочке из блокнота черкнул несколько слов тов. Свердлову с просьбой оказать нам «наивозможное» материальное содействие из средств партии. Эта записочка Ленина принесла нашему Центральному комитету десять тысяч рублей, которые были на первых порах достаточной суммой для союза.
Мы простились с Ильичом так же просто, задушевно, ободренные им, чувствуя, что комсомол встретил в нем чуткого друга и надежного опытного советчика.
Принимали в комсомол далеко не каждого, как свидетельствует очерк корреспондента журнала «Смена» И. Коцюрубы.
Жмеринка... В клубе им. Томского собрание коммунистической молодежи. Секретарь райкома оглашает список товарищей, желающих вступить в комсомол.
В зале шум и движение. Наспех пишутся новые коллективные заявления. Сцена быстро заполняется кандидатами.
Засаленные куртки, закопченные полушубки, серые свитки... А среди них – выделяется синее манто с серьгами, черная шляпка и бобровый воротничок... Начинается персональный опрос.
– Тов. Гуляева, – вызывает председатель.
Выступает 15-тилетняя девушка. Была в «Спартаке» (пионерская организация – Ред.); это видно из ее спокойных и уверенных движений и ясного взгляда, в которых написана вера в силы, в молодой, могучий коллектив. <...>
– «Дочь рабочего-слесаря депо – коммуниста, посещает собрания ячейки клуба...
Поручили работу – исполняет».
– Есть возражения? Кто за?
Лес рук.
Приняли кандидатом.
– Стасевич.
Худенькое бледное лицо. Взгляд – игла острая, пронизывающая. Голос твердый и уверенный, как сталь. <...>
– «Портной... работает у хозяев, член профсоюза, отец – рабочий...»
– Сколько лет?
– Шестнадцать.
– Ваш производственный стаж?
– Три года.
В зале шум одобрения.
– А что, если за комсомол вас выгонят с работы?
– Перейду на свое иждивение, – твердо заявляет игольный взгляд.
Сзади неуверенно выглядывают шляпки, завитые прически...
Ведь принимается-то «рабочая молодежь от станка».
Вот подвигается к столу полушубок и большая папаха.
– Рабочий?
– Не-е-ет... Учащийся...
Опять шум.
– Больше организованности, – призывает председатель.
Да тут она и есть, организованность эта. Небось, не легко проходят...
А у стола продолжают следовать полушубки, свитки, куртки и т. д. и т. д.
– Курузяк.
– Четыре года работаю в пекарне, член профсоюза...
– А отец?
– Крестьянин.
– Земли сколько?
– Меньше полдесятины на 7 душ.
Прием подходит к концу.
Перебрали основательно: из 43 приняли всего 13. Зато все как на подбор...
Вот они стоят все спокойные, уверенные в себе, как у станка.
Взгляд – резец, твердый, режущий, уверенный. И у каждого в глазах загорается новый день комсомолиады.
Если комсомол считался ближайшим резервом партии, то ближайшим резервом комсомола была пионерская организация, созданная в мае 1922 года. Первоначально она носила имя Спартака, а в 1924 году ей было присвоено имя В. И. Ленина.
В «Песне пионеров Советского Союза» (автор Сергей Михалков) пелось:
- Мы юные ленинцы! Нас миллионы
- Веселых и дружных ребят!
- Слова золотые на наших знаменах
- Заветным призывом звучат.
- Готовься в дорогу на долгие годы,
- Бери с коммунистов пример,
- Работай, учись и живи для народа,
- Советской страны пионер!
Публицист В. Зорин писал о занятиях пионеров:
Сейчас мы не имеем ни одной губернии в СССР, где бы не было ребят в красных галстуках, где бы не раздавалась дробь пионерских барабанов, не звенела бы бодрая пионерская песнь. Даже на далекой Камчатке за несколько сотен верст от железной дороги мы имеем отряды юных пионеров, которые работают, готовят смену комсомолу. Однако все еще мы имеем в городе на каждые 100 детей только 15 пионеров, а в деревне только 2 пионеров.
Организация юных пионеров для детей это то же, что комсомол для молодежи. Это не учреждение, как школа, детдом – для детей, это боевая политическая организация самих детей под руководством комсомола и партии.
Вот почему отряды юных пионеров организуются по фабрикам и заводам – в городе, по избам-читальням при ячейках комсомола в деревне, то есть там, где бьет ключом политическая жизнь, где ребята могут приложить свои детские силы в великой строительной работе трудящихся.
Отсюда вытекает вся сущность работы юных пионеров.
Эта работа делится на 2 большие области: внутреннюю работу в клубе пионеров и внешнюю работу вокруг своего предприятия, в семье, на улице и в школе. <...>
«Все наши звенья поставлены на общественную работу, – пишут пионеры одного из отрядов. – Одно наше звено “Красный Текстильщик” изучает свое производство и вместе с этим ведет работу в красном уголке на фабрике. Ребята выпускают ежедневно газету с важнейшими известиями, помогают рабочему клубу в технической работе в уголке, в обеденный перерыв иногда устраивают живую газету. Другое звено поставлено на работу в нашем доме-коммуне. Ребята два раза в неделю собирают всех неорганизованных ребят, играют с ними, проводят беседы, поют песни. Недавно наши ребята наладили паяльную мастерскую и стали починять посуду всем хозяйкам в доме-коммуне». <...>
Пионеры в семье часто терпят всякие гонения, но мало-помалу, исподволь, своей незаметной работой ведут медленный подкоп под самую консервативную твердыню всех гнусностей старого режима. Так, например, один пионер вынужден был залезть под кровать, чтобы избежать окропления «святой водой» под Пасху. Несмотря ни на какие угрозы родителей, он не вылез до тех пор, пока поп не ушел из квартиры. Однако во многих семьях уже в квартире пионера заметны проблески нового революционного духа. Так, рядом или вместо Николая Угодника в углу устроен пионерский уголок с революционными лозунгами, портретом Ильича, пионерскими законами и обычаями.
Сплошь и рядом увидишь пионера, который учит грамоте свою неграмотную мать, играет с младшими ребятами, втягивает родных в рабочий клуб, на лекцию, вечер, на демонстрацию. <...>
Не оставляют без своего внимания пионеры и детей на улице, и здесь они организуют этих безнадзорных и беспризорных ребят, втягивают их на детские пионерские площадки, работают с ними во дворах, втягивают путем индивидуальной обработки в пионерорганизацию. <...>
Всей работой в отряде заправляет вожатый. От того, какого парня или девушку выделит ячейка на работу в отряде, будет зависеть и то, как этот отряд будет работать. Между тем с этим делом не все благополучно... Вот почему сейчас комсомол основное внимание уделяет подготовке новых работников, помощи старым. Вот почему вся рабочая молодежь должна подойти ближе к своим младшим братьям в красных галстуках, помочь им встать на ноги, поставить их в ряды борцов за коммунизм, к чему они сами так страстно стремятся.
В 1923–1924 годах в стране стали возникать «низовые», младшие дружины – октябрята. Термин возник в связи с тем, что поначалу в эти группы принимали детей – ровесников октябрьской революции.
Гражданская война: начало, 1918–1919 годы
Антон Деникин, Семен Буденный
Подписанием Брестского мира война для России не закончилась. Бывшие союзники (страны Антанты) расценили Брестское соглашение как предательство общих интересов и высадили на севере и востоке Советского государства свои экспедиционные корпуса, которые поддержала значительная часть населения. Покончив с войной «империалистической», страна оказалась втянута в войну гражданскую.
Второго сентября 1918 года был опубликован указ ВЦИК «О превращении Советской республики в военный лагерь»: «Советская республика превращается в военный лагерь. Во главе всех фронтов и всех военных учреждений Республики ставится Революционный военный совет с одним главнокомандующим. Все силы и средства Социалистической республики ставятся в распоряжение священного дела вооруженной борьбы против насильников. Все граждане, независимо от занятий и возраста, должны беспрекословно выполнять те обязанности по обороне страны, какие будут на них возложены Советской властью». Населению «вменялось в обязанность оказывать всемерное содействие» образованной в январе того же года Рабочей и Крестьянской Красной Армии – РККА.
Издание декрета было вызвано сложившейся обстановкой – в Архангельске и Мурманске высадился английский десант, который поддерживали местные противники большевиков; на Транссибирской магистрали восстал Чехословацкий корпус (пленные чехи и словаки, которых еще царское правительство собиралось отправить на Западный фронт – воевать с немцами); в Сибири Народная армия под командованием В. О. Каппеля овладела обширной территорией и захватила в Казани часть золотого запаса Российской империи; во Владивостоке высаживались американцы и японцы, а сибирские казаки заняли Читу, Благовещенск и Хабаровск. В итоге к началу сентября 1918 года Советскую власть ликвидировали на территории от Урала до побережья Охотского моря.
На юге казацкое восстание привело к освобождению от большевиков Донской области, где начали формироваться Донская армия и Добровольческая армия. Одним из командиров Добрармии был генерал-лейтенант А. И. Деникин, оставивший воспоминания о том, как начиналось белое движение.
Донская политика лишила зарождающуюся армию... весьма существенного организационного фактора... Кто знает офицерскую психологию, тому понятно значение приказа. Генералы Алексеев и Корнилов при других условиях могли бы отдать приказ о сборе на Дону всех офицеров русской армии. Такой приказ был бы юридически оспорим, но морально обязателен для огромного большинства офицерства, послужив побуждающим началом для многих слабых духом. Вместо этого распространялись анонимные воззвания и «проспекты» Добровольческой армии. Правда, во второй половине декабря в печати, выходившей на территории советской России, появились довольно точные сведения об армии и ее вождях. Но не было властного приказа, и ослабевшее нравственно офицерство шло уже на сделки с собственной совестью. Пробирались в армию сотни, а десятки тысяч, в силу многообразных обстоятельств, в том числе главным образом тяжелого семейного положения и слабости характера, выжидали, переходили к мирным занятиям, преображались в штатских людей или шли покорно на перепись к большевистским комиссарам, на пытку в чрезвычайке, позднее на службу в Красную армию. Часть офицерства оставалась еще на фронте, где офицерское звание было упразднено и где Крыленко доканчивал «демократизацию», проходившую, по словам его доклада Совету народных комиссаров, «безболезненно, если не считать того, что в целом ряде частей стрелялись офицеры, которых назначали на должность кашеваров»... Другая часть распылялась. Важнейшие центры – Петроград, Москва, Киев, Одесса, Минеральные воды, Владикавказ, Тифлис – были забиты офицерами. Пути на Дон были, конечно, очень затруднены, но твердую волю настоящего русского офицера не остановили бы никакие кордоны. Невозможность производства мобилизации даже на Дону привела к таким поразительным результатам: напор большевиков сдерживали несколько сот офицеров и детей – юнкеров, гимназистов, кадет, а панели и кафе Ростова и Новочеркасска были полны молодыми здоровыми офицерами, не поступавшими в армию. После взятия Ростова большевиками советский комендант Калюжный жаловался в совете рабочих депутатов на страшное обременение работой: тысячи офицеров являлись к нему в управление с заявлениями, «что они не были в Добровольческой армии»... Также было и в Новочеркасске. Донское офицерство, насчитывающее несколько тысяч, до самого падения Новочеркасска уклонилось вовсе от борьбы: в донские партизанские отряды поступали десятки, в Добровольческую армию единицы, а все остальные, связанные кровно, имущественно, земельно с войском, не решались пойти против ясно выраженного настроения и желаний казачества. <...>
Цели, преследуемые Добровольческой армией, впервые были обнародованы в воззвании, исходившем из штаба, 27 декабря.<...>
В силу создавшихся условий комплектования, армия в самом зародыше своем таила глубокий органический недостаток, приобретая характер классовый. Нет нужды, что руководители ее вышли из народа, что офицерство в массе своей было демократично, что все движение было чуждо социальных элементов борьбы, что официальный символ веры армии носил все признаки государственности, демократичности и доброжелательства к местным областным образованиям... Печать классового отбора легла на армию прочно и давала повод недоброжелателям возбуждать против нее в народной массе недоверие и опасения и противополагать ее цели народным интересам.
Было ясно, что при таких условиях Добровольческая армия выполнить своей задачи в общероссийском масштабе не может. Но оставалась надежда, что она в состоянии будет сдержать напор неорганизованного пока еще большевизма и тем даст время окрепнуть здоровой общественности и народному самосознанию, что ее крепкое ядро со временем соединит вокруг себя пока еще инертные или даже враждебные народные силы.
Лично для меня было и осталось непререкаемым одно весьма важное положение, вытекавшее из психологии октябрьского переворота: если бы в этот трагический момент нашей истории не нашлось среди русского народа людей, готовых восстать против безумия и преступления большевистской власти и принести свою кровь и жизнь за разрушаемую родину, – это был бы не народ, а навоз для удобрения беспредельных полей старого континента, обреченных на колонизацию пришельцев с Запада и Востока.
К счастью, мы принадлежим к замученному, но великому русскому народу.
Формирование армии вначале носило поневоле случайный характер, определяясь зачастую индивидуальными особенностями тех лиц, которые брались за это дело... Все эти полки, батальоны, дивизионы были по существу только кадрами, и общая боевая численность всей армии вряд ли превосходила 3–4 тысячи человек, временами, в период тяжелых ростовских боев, падая до совершенно ничтожных размеров. Армия обеспеченной базы не получила. Приходилось одновременно и формироваться, и драться, неся большие потери и иногда разрушая только что сколоченную с большими усилиями часть.






