СССР. Автобиография Королев Кирилл
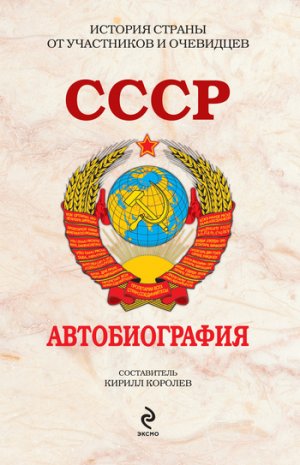
Около штаба кружились авантюристы, предлагавшие формировать партизанские отряды. Генерал Корнилов слишком доверчиво относился к подобным людям и зачастую, получив деньги и оружие, они или исчезали, или отвлекали из рядов армии в тыл элементы послабее нравственно, или составляли шайки мародеров. Особенную известность получил отряд сотника Грекова – «Белого дьявола» – как он сам себя именовал, который в течение двух, трех недель разбойничал в окрестностях Ростова, пока, наконец, отряд не расформировали. Сам Греков где-то скрывался и только осенью 1918 года был обнаружен в Херсоне или Николаеве, где вновь по поручению городского самоуправления собрал отряд, прикрываясь добровольческим именем. Позднее был пойман в Крыму и послан на Дон в руки правосудия. Какой-то туземец вербовал персов, набирая их, как оказалось, среди подонков ростовских ночлежных домов... Все эти импровизации вносили расстройство в организацию армии и придавали несвойственный ей скверный налет. К счастью, вскоре этому был положен предел. Назревала мистификация и в более широком масштабе: из Екатеринодара приехал некто – Девлет хан Гирей, с предложением «поднять черкесский народ», для чего потребовался аванс в 750 тысяч рублей и до 9 тысяч ружей. Только пустая армейская казна остановила этот странный опыт, так неудачно повторенный впоследствии.
Армия пополнялась на добровольческих началах, причем каждый доброволец давал подписку прослужить четыре месяца и обещал беспрекословное повиновение командованию. Состояние казны давало возможность оплачивать добровольцев до крайности нищенскими окладами... В офицерских батальонах, отчасти и батареях, офицеры несли службу рядовых, в условиях крайней материальной необеспеченности. В донских войсковых складах хранились огромные запасы, но мы не могли получить оттуда ничего иначе, как путем кражи или подкупа. И войска испытывали острую нужду решительно во всем: не хватало вооружения и боевых припасов, не было обоза, кухонь, теплых вещей, сапог... И не было достаточно денег, чтобы удовлетворить казачьи комитеты, распродававшие на сторону все, до совести включительно. <...>
Сколько мужества, терпения и веры в свое дело должны были иметь те «безумцы», которые шли в армию, невзирая на все тяжкие условия ее зарождения и существования!
Отличительным знаком новой армии был нашиваемый на рукав угол из лент национальных цветов.
Я был назначен начальником «Добровольческой дивизии», в состав которой входили все наши формирования, так что в сущности возникало двоевластие, устраненное впоследствии, в начале февраля. Хозяйственных функций у меня не было никаких...
Добровольческая армия чтит память многих первых своих командиров: Неженцев – влюбленный в Корнилова и в его идею до самопожертвования, пронесший ее нерушимо сквозь тысячи преград, бесстрашный, живший полком и для полка и сраженный пулей в минуту вдохновенного порыва, увлекая поколебавшиеся ряды корниловцев в атаку... Миончинский – этот виртуоз артиллерийского боя, живший, горевший и священнодействовавший в музыке смертоносного огня... Тимановский – весь израненный – в Кубанских походах ходивший в атаку также спокойно, с величайшим презрением к смерти, как и в дни Луцкого прорыва в рядах «железной дивизии»... «Наш» Марков... И много других, уже павших или уцелевших, которые с первых дней армии добросовестно и бескорыстно отдали ей свои силы и жизнь. <...>
Много уже написано, еще больше напишут о духовном облике Добровольческой армии. Те, кто видел в ней осиянный страданием и мученичеством подвиг – правы. И те, кто видел грязь, пятнавшую чистое знамя, во многих случаях искренни. Весь вопрос в правильном синтезе ряда сложных явлений в жизни армии – явлений, рожденных войной и революцией. Так, каждый в отдельности офицер, выведенный в купринском «Поединке», – живой человек, но такого собрания офицеров такого полка в русской армии не было.
В нашу своеобразную Запорожскую сечь шли все, кто действительно сочувствовал идее борьбы и был в состоянии вынести ее тяготы. Шли и хорошие, и плохие. Но четыре года войны и кошмар революции не прошли бесследно. Они обнажили людей от внешних культурных покровов и довели до высокого напряжения все их сильные и все их низменные стороны. Было бы лицемерием со стороны общества, испытавшего небывалое моральное падение, требовать от добровольцев аскетизма и высших добродетелей. Был подвиг, была и грязь. Героизм и жестокость. Сострадание и ненависть. Социальная терпимость и инстинкт классовой розни. Первые явления возносили, со вторыми боролись. Но вторые не были отнюдь преобладающими: история отметит тот важный для познания русской народной души факт, как на почве кровавых извращений революции, обывательской тины и интеллигентского маразма могло вырасти такое положительное явление, как добровольчество, при всех его теневых сторонах сохранившее героический образ и национальную идею.
Добровольцы были чужды политики, верны идее спасения страны, храбры в боях и преданы Корнилову. Впереди их ждало увечье, скитание, многих – смерть; победа представлялась тогда в далеком будущем. Они дрались на подступах к Ростову, зная, что сотни тысяч казаков и ростовской буржуазии за их спиною живут легко и привольно. Они были оборванцы, мерзли и голодали, видя, как беснуется и веселится богатейший Ростов, финансовая знать которого с большим трудом «пожертвовала» на армию два миллиона рублей, растворившихся быстро в бездонной ее нужде. Они встречали в обществе равнодушие, в народе вражду, в резолюциях революционных учреждений и социалистической печати злобу, клевету и поношение. Одиночные добровольцы, случайно попадавшие в Темерник – рабочие кварталы Ростова, – часто не возвращались... Гражданская война довершила тот психологический процесс, который только наметила война на фронте.
Вскоре стало известным, что большевики убивают всех добровольцев, захваченных ими, предавая перед этим бесчеловечным мучениям. Сомнений в этом не было. Не раз на местах, переходивших из рук в руки, добровольцы находили изуродованные трупы своих соратников, слышали леденящую душу повесть свидетелей этих убийств, спасшихся чудом из рук большевиков. Помню, какою жутью повеяло на меня, когда первый раз привезли восемь замученных добровольцев из Батайска – изрубленных, исколотых, с обезображенными лицами, в которых подавленные горем близкие едва могли различить родные черты... Поздно вечером где-то далеко на заднем дворе товарной станции, среди массы составов я нашел вагон с трупами, загнанный туда по распоряжению ростовских властей, «чтобы не вызвать эксцессов». И когда при тусклом мерцании восковых свечек священник, робко озираясь, возглашал «вечную память убиенным», сердце сжималось от боли, и не было прощения мучителям. <...>
Среди кровавого тумана калечились души молодых жизнерадостных и чистых сердцем юношей. Однажды в Ростове, в Парамоновском доме, до слуха моего долетел веселый разговор. Рассказывал о чем-то молодой подпоручик, почти мальчик, 17 лет. Я поинтересовался, в чем дело. Оказывается, шел он по улице, как обычно, с винтовкой через плечо. Наткнулся на облаву, устроенную милиционерами на бандитов, принял участие и одного бандита убил выстрелом.
– Вскинул ружье, бац – прямо в глаз, так и свалился, не пикнув!
И он сопровождал рассказ веселым смехом. Я обрушился на него:
– Стыдитесь вы! Неужели вы не понимаете всего цинизма вашего смеха? Если судьба привела убить человека, так разве можно этому радоваться?
По мере того как я говорил, лицо у подпоручика сводило сильной судорогой, глаза наполнились слезами, и он опустился беспомощно на стул. Мне рассказали потом его историю. Большевики убили его отца, дряхлого отставного генерала, мать, сестру и мужа сестры – полного инвалида последней войны. Сам подпоручик, будучи юнкером, принимал участие в октябрьские дни в боях на улицах Петрограда, был схвачен, жестоко избит, получил сильные повреждения черепа и с трудом спасся.
И много было таких людей, исковерканных, изломанных жизнью, потерявших близких или оставивших семью без куска хлеба там, где-то далеко – на произвол будущего красного безумия. Не они создавали основной облик армии, но их психология должна быть учтена теми, в особенности, кто на крестном пути добровольцев склонен видеть только мрачные тени.
Большевики с самого начала определили характер гражданской войны:
Истребление.
Советская опричнина убивала и мучила всех не столько в силу звериного ожесточения, непосредственно появлявшегося во время боя, сколько под влиянием направляющей сверху руки, возводившей террор в систему и видевшей в нем единственное средство сохранить свое существование и власть над страной. Террор у них не прятался стыдливо за «стихию», «народный гнев» и прочие безответственные элементы психологии масс – он шествовал нагло и беззастенчиво. Представитель красных войск Сиверса, наступавших на Ростов, Волынский, явившись на третий день после взятия города в совет рабочих депутатов, не оправдывался, когда из меньшевистского лагеря послышалось слово – «убийцы». Он сказал:
– Каких бы жертв это ни стоило нам, мы совершим свое дело, и каждый, с оружием в руках восставший против советской власти, не будет оставлен в живых. Нас обвиняют в жестокости, и эти обвинения справедливы. Но обвиняющие забывают, что гражданская война – война особая. В битвах народов сражаются люди – братья, одураченные господствующими классами; в гражданской же войне идет бой между подлинными врагами. Вот почему эта война не знает пощады, и мы беспощадны.
Выбора в средствах противодействия при такой системе ведения войны не было. В той обстановке, в которой действовала Добровольческая армия, находившаяся почти всегда в тактическом окружении – без своей территории, без тыла, без баз, представлялись только два выхода: отпускать на волю захваченных большевиков или «не брать пленных». Я читал где-то, что приказ в последнем духе отдал Корнилов. Это не верно: без всяких приказов жизнь приводила во многих случаях к тому ужасному способу войны «на истребление», который до известной степени напомнил мрачные страницы русской пугачевщины и французской Вандеи. <...> Когда во время боев у Ростова от поезда оторвалось несколько вагонов с ранеными добровольцами и сестрами милосердия и покатилось под откос в сторону большевистской позиции, многие из них, в припадке безумного отчаяния, кончали самоубийством. Они знали, что ждет их. Корнилов же приказывал ставить караулы к захваченным большевистским лазаретам. Милосердие к раненым – вот все, что мог внушать он в ту грозную пору. Только много времени спустя, когда советское правительство, кроме своей прежней опричнины, привлекло к борьбе путем насильственной мобилизации подлинный народ, организовав Красную армию, когда Добровольческая армия стала приобретать формы государственного учреждения с известной территорией и гражданской властью, удалось помалу установить более гуманные и человечные обычаи, поскольку это, вообще, возможно в развращенной атмосфере гражданской войны.
Она калечила жестоко не только тело, но и душу.
Добрармии сопутствовал известный успех, и был даже отдан приказ о наступлении на Москву. Удалось взять Воронеж и Орел, правительственные учреждения в Москве готовились к эвакуации в Вологду. Однако в середине октября 1919 года Красная Армия перешла в контрнаступление, в котором заметную роль сыграл Конный корпус под командованием С. М. Буденного. «Первый красный командир», как пелось в советской песне, вспоминал о походе корпуса:
Уже бои в районе Хомутовской и Камышевахи и под Великокняжеской показали нам, что Добровольческая армия Деникина закончила свое формирование и перешла в наступление.
Деникин особенно форсировал наступление своей армии против 8-й и 9-й Красных армий, в тылах которых действовали мятежники. Он бросил против них конные корпуса генералов Шкуро и Науменко, пехотные корпуса генералов Май-Маевского, Кутепова и Слащева, а также ряд отдельных пехотных дивизий.
Положение 8-й и 9-й Красных армий стало чрезвычайно тяжелым. С фронта наступали хорошо вооруженные части деникинцев, а в тылу действовали донские мятежники. <...>
15 мая Конный корпус возвращался в станицу Орловскую. Весна была в разгаре. Вокруг простиралась необозримая степь, усыпанная цветущими тюльпанами. Бойцы восхищались густой, сочной травой – сколько корма для лошадей, сколько сена можно было бы накосить! И тяжело вздыхали, осматривая своих сильно похудевших коней. Я очень хорошо понимал их, знал, как они близко к сердцу принимают заботу о лошади. Уже около месяца в корпусе не было ни сена, ни соломы. Непрерывные бои и большие форсированные переходы не позволяли выгонять лошадей на выпасы. Правда, зернофуража было достаточно, но для лошади без сена или свежей травы все равно, что для человека без горячей пищи. Кони сдали в телах, и это тревожило бойцов... Наш боец так заботился о своем коне не только потому, что он любил его, но и потому, что он хотел во всем превосходить противника, и прежде всего в таком оружии кавалерии, как конь. Благодаря отличному состоянию лошадей мы могли совершать стремительные броски, форсированные переходы на большие расстояния и появляться там, где белые нас не ожидали, внезапно нападать, стремительно преследовать противника и быстро отрываться от него в случае неудачного для нас исхода боя. <...>
Это был первый день, когда наши дивизии собрались в одном месте. Позади были дни и ночи упорных боев и напряженных переходов. Люди и лошади утомились. Чтобы дать корпусу хотя бы небольшой отдых, мною было приказано сделать привал и выставить сторожевое охранение. В один миг бойцы расседлали лошадей, спутали их и пустили пастись. Не прошло и десяти минут, как весь корпус погрузился в крепкий сон. Широко по степи до видневшихся вдали высот раскинулись спящие полки. Высокая трава укрывала отдыхающих бойцов. Гулко разносился их храп, заглушающий монотонное стрекотание кузнечиков. Казалось, ничто не сможет нарушить этот сон людей.
Зрелище было необыкновенное. Я стоял и любовался им. Вот они, богатыри, защитники Советской власти. Корпус представлялся мне многоликим Антеем, набиравшим силы от родной матери-земли.
Однако и меня усталость клонила ко сну. Разостлав шинель под бричкой, на которой мирно спали ординарцы и трубач, я моментально уснул. Но спать пришлось очень немного. Сквозь сон я почувствовал, как кто-то толкнул меня в ногу. Открыв глаза, я увидел командующего армией Егорова.
– Прошу прощения, – шутливо сказал он, – что нарушил твой светлый сон. Ничего не сделаешь, уж такая у меня обязанность: не давать покоя даже тем, кто его законно заслуживает... Сколько, Семен Михайлович, нужно времени, чтобы собрать и построить корпус? – И, не дожидаясь ответа, он продолжал: – Противник сегодня форсировал реку Сал в районе хутора Плетнева, пытается переправиться на правый берег крупными силами. Надо во что бы то ни стало сорвать переправу белых и уничтожить их переправившиеся части.
Я доложил командующему, что корпус будет построен в течение двадцати минут, и приказал трубачу трубить тревогу.
По сигналу трубача корпус пришел в движение, как растревоженный муравейник. Мы с командующим стояли и наблюдали, как одиночные всадники быстро группировались в отделения, отделения во взводы, взводы в эскадроны, эскадроны в полки. Не прошло и двадцати минут, как начальник штаба корпуса доложил, что корпус построен.
– Вот это дисциплина! – сказал Егоров и попросил меня распорядиться приготовить для него хорошую верховую лошадь. <...>
К А. И. Егорову я относился с большим уважением. Я видел в нем крупного военного специалиста, преданного революционному народу, честно отдающего ему свои знания и опыт. Мне нравилось, что он держится скромно, не щеголяя своей образованностью, как это нередко делали бывшие офицеры. Особенно меня подкупала его смелость в бою, то, что он, командующий армией, когда это необходимо, ходил в атаку вместе с красноармейцами. <...>
С каждым днем атаки белогвардейцев становились упорнее. Противник все подтягивал и подтягивал новые силы. А я не мог перебросить на этот участок значительных подкреплений, не рискуя оставить без надежного прикрытия железную дорогу.
Назревала угроза прорыва обороны корпуса на этом участке. Во избежание прорыва белых в тыл наших частей было принято решение в ночь на 3 июня вывести корпус из боя и занять оборону на более выгодном рубеже – по правому берегу реки Аксай-Курмоярский, от станицы Верхне-Курмоярская до хутора Дарганов.
На этом рубеже обороны корпус в течение пяти суток вел упорные бои с противником. Несмотря на большие потери, белогвардейцы настойчиво атаковали, вводя в бой на правом фланге нашей обороны конные корпуса генералов Покровского, Шатилова и Улагая. Сюда же спешно подтягивались и пластунские (пехотные) соединения, находившиеся в оперативном подчинении генерала Врангеля.
7 июня белые повели особо энергичное наступление, рассчитывая превосходящими силами пехоты и кавалерии сломить сопротивление корпуса. На участке 6-й дивизии весь день не смолкала ружейно-пулеметная стрельба и артиллерийская канонада. Жаркие схватки в конном и пешем строю следовали одна за другой. 6-я дивизия и часть 4-й дивизии ни на минуту не прекращали боя. Мужественно сражались в обороне красные кавалеристы. Содействовали успеху нашей обороны и исключительно удачное расположение позиций, а также мощность огневых средств корпуса. Артиллеристы и пулеметчики умело использовали для ведения огня занимаемые ими позиции.
К концу дня, не добившись успеха на участке 6-й дивизии, противник прекратил атаки. <...>
К вечеру 8 июня корпус вышел за оборонительные позиции 10-й армии и сосредоточился в районе Громославка, Ивановка, Абганерово. В течение двух дней части корпуса отдыхали и приводили себя в порядок, пополнялись боеприпасами, сдавали пленных и лишнее трофейное имущество.
Стрелковые части 10-й армии под прикрытием нашего корпуса хорошо подготовили в инженерном отношении первую линию обороны, проходившую по правым берегам рек Аксай-Есауловский и Гнилой Аксай от станицы Потемкинской до Мал. Дербенты. Готовилась и вторая линия обороны по реке Мышковка и далее на восток – Капкинский, станция Абганерово, Плодовитое, Райгород. На обоих рубежах местность позволяла выгодно расположить огневые позиции пулеметов, артиллерии и обеспечивала широкий обстрел перед фронтом обороны и на ее флангах. Кроме того, оборона 10-й армии на этих рубежах лишала противника возможности широкого маневра конницей на флангах, так как правый фланг нашей армии упирался в Дон, а левый фланг далеко уходил в почти безжизненные солончаковые степи, где не было населенных пунктов и важнейшего для конницы – хорошей питьевой воды.
Лишенный широкого маневра на флангах, противник вынужден был бы прорывать оборону 10-й армии с фронта. Но для прорыва обороны необходима пехота, которой у белых было недостаточно. Следовательно, противнику пришлось бы спешивать кавалерию, а казачьи конные части, как известно, шли на это неохотно и в пешем строю дрались плохо.
Таким образом, у 10-й армии были все условия для того, чтобы остановить наступление противника. Наличие в резерве армии Конного корпуса еще более укрепляло оборону. Корпус всегда мог быть использован на самых угрожаемых участках для контратаки и удара по флангам и тылам противника. Следовало полагать, что стрелковые соединения 10-й Красной армии прекратят наконец отход без выстрела, встретят противника упорной обороной и создадут условия для перехода армии в наступление. <...>
Мы начали поиски новых форм и тактических приемов борьбы с врагом. Дивизии заняли оборону на основных направлениях движения противника с таким расчетом, чтобы обеспечивалось постоянное взаимодействие между ними в интересах выполнения задачи корпуса. С таким же расчетом располагались и полки в полосе дивизии. Это взаимодействие уже в первые дни полностью оправдало себя и явилось началом рождения так называемой «тактики идти на выстрел», сущность которой заключалась в том, что все командиры, начиная от командира взвода, взяли себе за правило идти на помощь соседу по первому выстрелу, не дожидаясь указаний свыше. Благодаря этому мы всегда могли быстро сосредоточивать необходимые силы на угрожаемых участках и наносить эффективные внезапные удары по противнику с флангов и тыла.
Другой формой борьбы являлось ночное, заранее подготовленное нападение на отдельные части и подразделения противника, расположенные в населенных пунктах. Разведывательные органы устанавливали место расположения белых, а также систему их сторожевого охранения, и в намеченную ночь полк или бригада внезапно налетали на противника, громили его части, штабы и тылы, а к рассвету возвращались на занимаемые позиции.
Новым и неожиданным для противника явились и действия частей и соединений корпуса непосредственно за своими разведывательными подразделениями или действия полков и даже бригад в качестве разведывательных органов. Разведка белых действовала обычно мелкими подразделениями и на большом удалении от главных сил. Это позволяло нам, действуя крупными силами, уничтожать разведку противника или же на ее плечах неожиданно врываться в расположение белогвардейцев. <...>
Уже первые бои с белыми показали, что противник, концентрируя артиллерию в одном месте, зачастую оставляет ее без надежного прикрытия. Мы учли это и стали наносить удары по артиллерии противника, рассчитанные на ее захват, и одновременно усилили охрану своей артиллерии пулеметами. В результате почти во всех боях противник терял свою артиллерию.
В то время как белые вели наступление днем, а ночью отдыхали, мы, добиваясь внезапности и стремительности нападения с флангов и тыла, часто использовали для этой цели ночь. Белым это, конечно, не нравилось, они вели боевые действия на основе положений, выработанных еще в девятнадцатом веке, и возмущались, что мы нарушаем законы войны, действуем по-партизански. <...>
Когда наши ночные налеты вынудили противника не спать ночью, мы начали производить налеты не только ночью, но и днем. Это привело к тому, что белогвардейцы оказались окончательно сбитыми с толку.
Придерживаясь устава, «яко слепой стенки», белогвардейское командование во всех случаях, когда мы действовали не по уставу, теряло самообладание и способность принять ответные меры. Иной раз самые простые, подсказанные обстановкой и здравым смыслом действия ставили его в тупик. В этом, пожалуй, не было ничего удивительного: сказывалась выучка у иностранцев, засилие которых в старой русской армии общеизвестно. Конечно, огромное значение имело и то, что офицерскому составу белогвардейских войск, находившемуся в плену окостеневших представлений о войне, чуждому солдатской массе, у нас противостояли командиры из народа, рожденные революцией, воспитанные большевистской партией, учившиеся искусству войны на поле боя у самой жизни, видевшие перед собой благородные цели борьбы, люди поразительной отваги и смелой инициативы. Своей выдумкой, дерзкой военной хитростью они сбивали противника с толку, сеяли в его рядах растерянность и панику. Таковы были Городовиков, Морозов, Литунов, Тимошенко, Апанасенко, Мирошниченко, Пивнев, Баранников, Кузнецов, Мироненко, Усенко, Вербин, Алаухов, Стрепухов, Гончаров и десятки других славных героев красной кавалерии и творцов ее тактики.
Пленные офицеры показывали, что Деникин огорчен неспособностью своих генералов – Врангеля, Покровского, Шатилова, Улагая организовать решительное наступление против 10-й армии и тем, что они пасуют перед дерзостью красных кавалеристов. Пленные говорили, что их генералы бросают каждый раз жребий, кому первому наступать на наш Конный корпус.
Не знаю, действительно ли они бросали жребий, но одно несомненно – белые наступали нерешительно, и если бы 10-я армия осталась на занимаемом рубеже обороны, противник, по моему убеждению, никогда бы не сумел взять Царицын. <...>
С удовлетворением могу сказать, что Конный корпус не поддавался влияниям белогвардейской агитации и не терял веру в победу. И в этом огромную роль сыграла та неоценимая работа, которую проводил наш дружный коллектив политработников, возглавляемый сначала Кузнецовым, а после его ранения бывшим паровозным машинистом, потомственным пролетарием А. А. Кивгелой, очень чутко разбиравшимся в людях и умевшим организовать политическую работу. Конечно, и в части Конного корпуса проникали распускаемые врагами слухи, но они сейчас же разбивались веским большевистским словом наших политработников. Высоко поставили достоинство наших комиссаров такие люди, как Бахтуров, Детистов, Берлов и многие другие политработники, крепившие революционное сознание, организованность, дисциплину и порядок в Конном корпусе, а впоследствии и в Первой Конной армии.
Весной 1920 года белый фронт развалился, и части РККА под командованием М. Н. Тухачевского и П. И. Уборевича вынудили остатки Добрармии отступить в Крым. В апреле А. И. Деникин на английском линкоре «Император Индии» отбыл в Англию, передав командование частями барону П. Н. Врангелю.
«Красные, зеленые, золотопогонные»: революционный террор, 1918–1922 годы
Владимир Бонч-Бруевич, Алексей Чумаков, Галина Кузьменко, сводки ОГПУ
Новой власти приходилось вести боевые действия не только на фронте, но и в тылу: «гидра контрреволюции», излюбленный образ коммунистической пропаганды, существовала в действительности и по мере сил старалась досадить большевикам – в ход шли любые средства, от тихого саботажа до диверсий и убийств. А новая власть при малейших подозрениях бралась за «карающий меч»; после же покушения на В. И. Ленина в Москве и убийства в Петрограде председателя Петроградской ЧК М. С. Урицкого в августе 1918 года был официально объявлен «красный террор». Большевистская «Красная газета» писала: «Сотнями будем мы убивать врагов. Пусть будут это тысячи, пусть они захлебнутся в собственной крови. За кровь Ленина и Урицкого пусть прольются потоки крови – больше крови, столько, сколько возможно»; газета «Известия» утверждала: «Пролетариат ответит на поранение Ленина так, что вся буржуазия содрогнется от ужаса».
Руководитель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), главный, наряду с самим В. И. Лениным и Л. Д. Троцким, идеолог «красного террора» Ф. Э. Дзержинский говорил: «В предположении, что вековая старая ненависть революционного пролетариата против поработителей поневоле выльется в целый ряд бессистемных кровавых эпизодов, причем возбужденные элементы народного гнeва сметут не только врагов, но и друзей, не только враждебные и вредные элементы, но и сильные и полезные, я стремился провести систематизацию карательного аппарата революционной власти. За все время Чрезвычайная комиссия была не что иное, как разумное направление карающей руки революционного пролетариата...»
О первых годах работы ВЧК вспоминал В. Д. Бонч-Бруевич, управляющий делами СНК, впоследствии – директор Музея истории религии и атеизма.
Октябрьская революция, свергнувшая дряблое Временное правительство, победила. В красной столице был установлен строгий революционный порядок. Кадеты, остатки «октябристов», монархисты, партии, считавшие себя социалистическими: трудовики, правые эсеры, меньшевики и множество других мелких разновидностей, были воистину подавлены. Прошло некоторое время. Канули в вечность назначенные сроки «падения большевиков». Новая власть и не собиралась уходить, а постепенно крепко забирала бразды правления. Мы основательно устраивались в Смольном.
– Что это вы так хлопочете? – неоднократно язвительно спрашивали меня посещавшие нас различные оппозиционеры. – Разве вы думаете, ваша власть пришла надолго?
– На двести лет! – отвечал я убежденно.
И они – эти вчерашние «революционеры», «либералы», «радикалы», «социалисты», «народники» – со злостью отскакивали от меня, бросая взоры ненависти и негодования.
– Что, не нравится? – смеясь, спрашивали рабочие, постоянно присутствовавшие здесь.
– Им не нравится... – отвечали другие, пересмеиваясь и шутя над теми, кто еще недавно любил распинаться за интересы народа.
Но вот пришли первые сведения о саботаже чиновников, служащих. К нам поступили документы, из которых было ясно видно, что действует какая-то организация, которая, желая помешать творчеству новой власти, не щадит на это ни времени, ни средств из казенного и общественного сундука. В наших руках были распоряжения о выдаче вперед жалованья за два, за три месяца служащим банков, министерств, городской управы и других учреждений. Было ясно, что хотят всеми мерами помешать организации новой власти, что всюду проводится саботаж. Масса сведений, стекавшихся в управление делами Совнаркома и в 75-ю комнату Смольного, где действовала первая Чрезвычайная комиссия по охране порядка и по борьбе с погромами в столице, говорила за то, что дело принимает серьезный оборот, что все совершается по плану, что все это направляет какая-то ловкая рука. <...>
В это же время все более и более стали выявляться агрессивные действия так называемых «союзников»: был совершенно ясен этот внутренний и внешний фронт врагов рабочего класса. Сама действительность, сами факты жизни заставляли действовать. Борясь с пьяными погромами, сопровождаемыми контрреволюционной антисемитской агитацией, мы наталкивались совершенно неожиданно для себя самих на все большие доказательства объединения антибольшевистских течений для намечаемых непосредственных и прямых действий. <...>
В это время Ф. Э. Дзержинский взял в свои руки бывшее петроградское градоначальство, организовал там комиссию по расследованию контрреволюционных выступлений; и к нему, как из рога изобилия, тоже посыпались всевозможные материалы, проливавшие новый свет на сосредоточивающуюся в Петрограде деятельность контрреволюционных организаций. Рабочие массы, узнававшие о различных выступлениях контрреволюционеров, сильнейшим образом волновались. Разгул реакции, контрреволюционная агитация в войсках – все это создавало горячую почву и выдвигало на авансцену борьбы новые способы действия...
Весь пламенея от гнева, с пылающими, чуть прищуренными глазами, прямыми и ясными словами (Дзержинский) доложил в Совнаркоме об истинном положении вещей, ярко и четко обрисовывая наступление контрреволюции.
– Тут не должно быть долгих разговоров. Наша революция в явной опасности. Мы слишком благодушно смотрим на то, что творится вокруг нас. Силы противников организуются. Контрреволюционеры действуют в стране, в разных местах вербуя свои отряды. Теперь враг здесь, в Петрограде, в самом сердце нашем. Мы имеем об этом неопровержимые данные, и мы должны послать на этот фронт – самый опасный и самый жестокий – решительных, твердых, преданных, на все готовых для защиты завоеваний революции товарищей. Мы должны действовать не завтра, а сегодня, сейчас. <...>
Кто помнит то время, кто имел счастье стоять тогда на передовых позициях борьбы за свободу народов, населявших наше обширнейшее государство, тот отлично знает, что провозглашение «революционной расправы» – красного террора Октябрьской революции – не явилось чем-то преждевременным, а, наоборот, явно запоздавшим. Множество контрреволюционных банд уже успело организоваться и рассеяться по всей стране. На Дону в тот момент – в этой русской Вандее – уже собирались полчища донского казачества и других недовольных. Все эти обстоятельства, хорошо известные центральному правительству, не потребовали особо длительных рассуждений при утверждении положения о Всероссийской чрезвычайной комиссии при Совнаркоме.
Эта комиссия была организована в начале декабря 1917 года. <...>
(Дзержинский) ведя образ жизни аскета, будучи крайне молчалив, даже угрюм, он был всегда прекрасным товарищем. Он знал, что придет желанное время решительной классовой схватки, когда и его огромные духовные силы, сохранившиеся в хотя уже и изможденном теле, нужны будут тому классу, жизнью которого он жил, счастьем которого он трепетал и радовался. Твердые, как гранит, революционные ряды пролетариата – вот та среда, вот та стихия, для которой он был рожден. Вся горечь, вся ненависть рабочего класса к классам эксплуатирующих была впитана им. Совершенно не зная страха и боязни смерти, Ф. Э. Дзержинский никогда не охранял себя, ездил в открытых машинах, не имел никакой стражи у своей квартиры, совершенно свободно разъезжал по окрестностям Москвы и по всему Союзу и вел чрезвычайно простую, почти аскетическую жизнь.
Когда мне приходилось говорить ему, что следовало бы быть поосторожнее, то он как-то наивно задавал вопрос:
– Зачем? Убьют? Беда какая!.. Революция всегда сопровождается смертями... Это дело самое обыкновенное. Да и зачем так ценить себя?.. Это смешно... Мы делаем дело нашей партии, и больше ничего. <...>
И он делал все дела, возлагаемые на него партией, как честнейший, преданнейший революционер-боевик, коммунист. <...>
Редко кому известно, что Ф. Э. Дзержинский трижды вносил предложение в Совнарком об отмене смертной казни, или, как принято теперь выражаться, применения «высшей меры наказания». Всегда Совнарком радостно шел навстречу возможности заменить этот крайний метод борьбы более мягкими формами. Контрреволюционные, уголовные и белогвардейские организации понимали эти «отмены» или «смягчения» методов борьбы как проявление слабости Советского правительства, как чем-то «вынужденные», вместо того чтобы понять раз и навсегда, что обречены на поражение все попытки к выступлениям против самой народной, не на словах, а на деле самой популярной, широчайшим образом признанной народными массами власти.
О том, каким «красный террор» был в действительности, вспоминал один из арестованных, позднее покинувший страну А. В. Чумаков.
Нас не пугает уже таинственная и некогда непостижимая Смерть, ибо она стала нашей второй жизнью. Нас не волнует терпкий запах человеческой крови, ибо ее тяжелыми испарениями насыщен воздух, которым мы дышим. Нас не приводят уже в трепет бесконечные вереницы идущих на казнь, ибо мы видели последние судороги расстреливаемых на улице детей, видели горы изуродованных и окоченевших жертв террористического безумия, и сами, может быть, стояли не раз у последней черты. Террор не ушел из жизни. Но с городских площадей и окровавленных тротуаров он укрылся в мрачные подземелья чрезвычаек, чтобы там, за непроницаемыми стенами, вдали от человеческой совести, беспрепятственно творить свое черное дело. <...>
Террор не ушел из жизни. Но бесформенный и хаотический вначале, он принял мало-помалу очертания сложного карающего аппарата, с бесконечным числом инстанций и звеньев, с формальным «делопроизводством» и всеми аксессуарами «революционной юстиции», но всегда с одним и неизбежным концом – неумолимою смертью в застенке от руки профессионального палача. <...>
Этот обезличенный аппарат, пускаемый в ход привычной и не дрожащей большевистской рукой, изо дня в день бесшумно и методично расстреливает почти уже бесчувственную Россию. И чем больше число ее жертв, тем глубже зарывается он в свои подземелья. <...>
Газеты почти не печатают сообщений об ежедневных расстрелах, и самое слово «расстрел» казенные публицисты предпочитают заменять туманным и загадочным – «высшая мера наказания». И только время от времени, когда раскрыт очередной контрреволюционный заговор и коммунистическому отечеству грозит опасность, на столбцах «Известий» и «Правд» появляются длинные списки людей, раздавленных машиной террора. И тогда вздрогнувшая страна узнает имена безмолвных жертв «революционного правосудия». <...>
В течение нескольких месяцев мне приходилось видеть этих несчастных людей с остановившимися глазами, бессвязно шепчущих свое роковое:
– Высшая мера наказания.
Их привозили прямо из трибуналов, еще не успевших пережить и осмыслить страшное значение этих трех слов, и рассаживали в «строгие» одиночки вместе с такими же, как они, обреченными и ждущими своего последнего часа, смертниками.
Они механически, под диктовку других, писали бессвязные прошения о помиловании, и льготные «48 часов» тянулись для них мучительной вечностью.
Вскарабкавшись на окно или прислонившись ухом к дверному «волчку», они вслушивались в тюремную тишину, и твердые шаги надзирателей или шум въезжавшего во двор автомобиля заставлял их трепетать смертной дрожью. <...>
Одних к концу вторых суток забирали на расстрел, и они уходили из одиночек судорожно торопливые и почти невменяемые. Другим улыбалось «счастье» и в форточку двери просовывалась, наконец, спасительная бумажка о приостановке приговора. Впрочем, иногда сообщалось об этом устно каким-нибудь надзирателем, и осужденный оставался до конца неуверенным в том, что дни его хотя бы временно продлены.
Начинались мучительные и напряженные месяцы ожидания, судорожной внутренней борьбы между жизнью и смертью, без перспектив и реальных надежд, без мгновений спокойствия и отдыха.
Но ВЦИК обычно не торопился, поскольку вопрос шел о сохранении человеческой жизни. И его окончательные постановления приходили иногда через 4–6–8 месяцев. А люди за это время старели, таяли и души их медленно угасали... А потом, в какой-нибудь злополучный вечер, оказывалось, что смертный приговор ВЦИК’ом утвержден, и обреченный уходил навсегда «с вещами по городу», не умея объяснить, зачем эти пережитые «48 часов» растянулись для него в такую нестерпимо тягучую пытку. <...>
Он шел условленным путем трибунальной юстиции, и путь кончался для него в том же подвале, где завершилась кровавая работа чекистских «троек». И кто знает, который из этих путей человечней и легче. <...>
На большой Лубянке под № 14, в доме Московского Страхового общества, помещаются главные учреждения МЧК. Здесь работает денно и нощно бездушная машина Смерти, и здесь совершается полный круг последовательных превращений человека из обвиняемого в осужденного и из осужденного в обезображенное мертвое тело. <...>
В главном здании находятся «кабинеты» следователей, по докладам которых «коллегия» выносит свои трафаретно-жестокие приговоры. Позади него, в небольшом подземелье одноэтажного флигеля, присужденные к смерти ждут своего последнего часа. И здесь же, во дворе, прилегая вплотную к Малой Лубянке, находится подвал, приспособленный под застенок чекистского палача. Там, в самом центре города, за стенами когда-то безобидного Страхового общества притаилось одно из грязных, слепых орудий террора, в тишине и безмолвии уничтожающее сотни и тысячи человеческих жизней. <...>
Позади главного здания с вереницей следовательских кабинетов находится, как уже было сказано, одноэтажный флигель, в котором в прежние времена помещался архив Страхового общества. Налево от входа имеются две комнаты, приспособленные под общие камеры для заключенных, и три маленькие «строгие» одиночки. Сюда обычно приводят только что арестованных или вызываемых на допрос и редко кто застревает здесь на продолжительные сроки.
Направо от входа находится большая, своеобразного устройства комната, где вдоль всех четырех стен тянется узкая галерейка с перилами, а вместо пола открытое пространство в подвальное помещение, которое соединено с верхом винтовой железной лестницей. Это тот самый таинственный и страшный «Корабль», в «трюме» которого обреченные неумолимо уносятся к роковому берегу Смерти. <...>
В одной из каменных стен «трюма» имеются две маленькие кладовые, превращенные в одиночки. Здесь обезумевшие от ужаса люди доживают свои последние земные часы. <...>
С каждой минутой, приближавшей осужденного к Смерти, стальное кольцо Неизбежного сжимало его в своих объятиях все страшнее и страшнее.
Быстро, одна за другой, уходили в прошлое все человеческие условности, все маленькие «права» и «гарантии», которыми даже в чекистском подвале пользовался еще четверть часа назад самый последний бандит.
И палач, утром еще приходивший от нечего делать «побеседовать» с осужденными, и следователь, угощавший их белыми булками, и безымянные надзиратели, мирно стоявшие на посту и еще час назад кормившие их обедом и выводившие на «оправку», – все они, словно по команде, превращались в разъяренных зверей, с одной общей мыслью, с одним устремлением: изловчиться и растерзать брошенную им на съедение жертву.
Еще живых и сознающих людей они раздевали и спорили потом об одеждах. Еще живых и инстинктивно сопротивляющихся Смерти они связывали по рукам и ногам, как связывают на бойнях животных, и взваливши на плечи, уносили в подвал к палачу.
Среди всей этой массы безличных участников казни были и... безразличные службисты, которые участвовали в палаческом деле по «долгу службы» и для которых расстрелы людей были такой же неприятной, но неизбежной повинностью, как война. Но были и другие – отдельные единицы, по темноте и случайности попавшие в чекистский застенок, но сохранившие человеческую совесть и потому не выдержавшие этого потрясающего зрелища предсмертных страданий. <...>
Если входить со стороны Малой Лубянки, то это будет от ворот первая дверь направо.
В подвале несколько помещений и одно из них приспособлено под застенок. Асфальтовый пол с желобом и стоком для воды. Изрешеченные пулями стены. Тяжелый запах запекшейся крови. И в углу небольшая скамья, где возбужденный палач поджидал свою очередную жертву. Обычно палач «работал» один. Но бывали случаи, когда его ограниченных сил не хватало, и тогда приходил на помощь какой-нибудь доброволец из надзирателей или красноармейцев Особого батальона. <...>
По выполнении канцелярских формальностей расстрелянных увозят в Лефортовский морг для вскрытия и погребения. Там завершается круг скитаний уже мертвого тела и бездушная машина Смерти выключает его из своих стальных объятий. «Революционное правосудие» свершилось.
Но его карающий меч преследует не только прямых врагов большевистского государства. Леденящее дыхание террора настигает и тех, чьи отцы и мужья лежат уже в братских могилах. Потрясенные нависшим несчастьем и ждущие томительными месяцами катастрофы, матери, жены и дети узнают о ней лишь много спустя, по случайным косвенными признаками, и начинают метаться по чекистским застенкам, обезумевшие от горя и неуверенные в том, что все уже кончено. <...>
Мне известен целый ряд случаев, когда МЧК – для того, чтобы отделаться, – выдавала родным ордера на свидание с теми, кто заведомо для нее находился уже в Лефортовском морге.
Жены и дети приходили с «передачами» в тюрьмы, но, вместо свиданий, им давался стереотипный ответ:
– В нашей тюрьме не значится.
Или загадочное и туманное:
– Уехал с вещами по городу...
Ни официального уведомления о смерти, ни прощального свидания, ни хотя бы мертвого уже тела для бережного семейного погребения. <...>
Террор большевизма безжалостен. Он не знает пощады ни к врагам, ни к детям, оплакивающим своих отцов.
Впрочем, и враги новой власти, сколько бы ни пытались они впоследствии обелить свои действия, отнюдь не брезговали террором, к радикальным методам устрашения прибегали и интервенты (немцы, румыны и особенно японцы на Дальнем Востоке), и формирования Белого движения – достаточно вспомнить печально известные карательные отряды атамана В. Г. Семенова, творившие безжалостный произвол в Сибири. Вдобавок свою лепту в «буйство террора» вносила третья сила – «вольные анархисты», прежде всего формирования С. В. Петлюры и Н. И. Махно, одинаково жестоко расправлявшиеся как с белыми, так и с красными. О действиях махновцев в 1920 году вспоминала Г. А. Кузьменко, вторая жена «батьки Махно».
20–21 февраля. Переночевали в Федоровке на старой квартире. Утром послали разведку в Гуляй-Поле. После обеда выехали из Федоровки. По дороге встретили своего посланца, который известил, что в Гуляй-Поле стоит человек 200–300 красноармейцев. Наши решили ночью сделать налет и обезоружить красных. Вечером мы прибыли в с. Шагарово, где и остановились на несколько часов. Отсюда снова была послана разведка, которая должна была выяснить расположение как начальников, так и войск (красных). Часов в 12 ночи выехали из Шагарово на Гуляй-Поле. По дороге нас известили о расположении вражеского войска. Быстро мы въехали в с. Гуляй-Поле и разместились на околице, а все пригодные к бою хлопцы пошли сразу к центру, а потом и дальше обезоруживать непрошенных гостей. Красноармейцы не очень протестовали и быстро сдавали оружие, командиры же защищались до последнего, пока их не убивали на месте. До утра почти две трети 6-го полка было обезоружено. Часть, которые еще оставались не обезоруженными и до которых дошла наконец очередь утром, сразу начали храбро отстреливаться, но быстро узнав, что их товарищи уже обезоружены, и сами сдали оружие. Очень замерзли и устали наши хлопцы, пока покончили с этим делом, но наградою за этот труд и мучения у каждого повстанца было сознание того, что и маленькой кучке людей слабых физически, но сильных духом, вдохновленной одной великой идеей, можно делать большие дела. Таким образом, 70–75 наших хлопцев за несколько часов одолели 450–500 врагов, убили почти всех командиров, забрали много винтовок, патронов, пулеметов, двуколок, коней и прочего. <...>
16 марта. Утром выехали в Комарь. Только выехали за село, как получили известие, что в Мариентале есть отряд кадетов, который убил одного нашего хлопца и обстреляли остальных, которые приехали туда обменять лошадей. Наши решили сразу же пойти на этот хутор и побить кадетов. Конные сразу же отделились и пошли в обход. По правому флангу ехала и я с хлопцами. Подъезжая к хутору, увидели, как с хутора выскочили несколько конных и пеших, которые бросились бежать. Быстро вошли в хутор и начали обстреливать хаты. Убегавших догоняли и убивали на месте. Кто-то с краю поджег солому. В несколько хат бросили бомбы. Быстро со всем было покончено. Выяснилось, что тут отряда никакого не было, а была местная вооруженная организация, которая и убила нашего казака. За это необдуманное убийство дорого заплатил Мариенталь – почти все мужчины, за исключением очень старых и очень молодых, были убиты, говорят, что есть погибшие женщины; примерно час наши хлопцы ощущали себя в хуторе хозяевами, забрали много лошадей и прочего. Выезжая с хутора, в степи в бурьяне нашли двоих, которые спрятались тут с винтовками. Их порубали. Приехали в Комарь. Тут греки выдали нам одного немца, который, скрываясь, пересек речку и спрятался у них. Его тоже добили. <...>
17 марта. Утром выехали на Богатырь и дальше на Андреевку. В Андреевке действительно была 3-я рота 22-го карательного полка. Когда, выехав из Богатыря, переезжая речку Волчью, на той стороне возле мельницы на холме заметили двух кавалеристов, которые, заметив нас, очень быстро подались на Андреевку.
Наша кавалерия с батькой во главе рванулась вперед. Когда мы подъехали к селу, то сразу поднялась стрельба. Застрочил и пулемет. Кавалерия бросилась в село, пехота осталась далеко сзади. Вскоре нам сказали, что наши захватили в плен человек 40. Мы въехали в село и на дороге увидели кучку людей, которые сидели, а некоторые и стояли, и раздевались. Вокруг них крутились на лошадях и пешие наши хлопцы.
Это были пленные. Их раздевали до расстрела. Когда они разделись, им приказали завязывать друг другу руки. Все они были великороссы, молодые здоровые парни. Отъехав немного, мы остановились. По дороге под забором лежал труп. Тут на углу стоял селянин с бричкою, запряженной четверкою, на которой был взятый у красных пулемет. Тут же стояла еще одна подвода с винтовками. Вокруг крутились наши хлопцы и собралось много селян. Селяне смотрели, как сначала пленных раздевали, а потом стали выводить по одному и расстреливать. Расстрелявши таким образом нескольких, остальных выставили в ряд и резанули из пулемета. Один бросился бежать. Его догнали и зарубили.
Селяне стояли и смотрели. Смотрели и радовались. Они рассказывали, как эти дни отряд хозяйничал в их селе. Пьяные разъезжают по селам, требуют, чтобы им готовили лучшие блюда, бьют нагайками селян, бьют и говорить не дают.
По современным оценкам, общее количество жертв революционного террора составило около 2 000 000 человек.
Но страдали не только люди; ни радетели прежних порядков, ни, тем более, новая власть не щадили достояния страны – во имя победы уничтожались заводы, сжигались усадьбы, грабились церкви. Последнее поначалу происходило на стихийной основе, а в 1922 году был издан правительственный декрет об изъятии церковных ценностей. Этот декрет обернулся массовым разграблением церквей – и восстаниями «против безбожников», в частности, в Шуе. В сводках ОГПУ, преемницы ВЧК, за 1922 год сообщалось:
Агитационная кампания проводилась слабо за отсутствием времени. Изъятие ценностей началось 9–10 марта в церквях, расположенных в рабочих кварталах с целью прозондировать отношение рабочих. Так как никаких эксцессов не произошло, то комиссия по изъятию ценностей решила перейти к собору, в котором между прочим имеется копия иконы Смоленской Божьей матери. 12 марта (в воскресенье) состоялось общее собрание прихожан собора с целью выбора представителей от верующих. На собрании некоторые граждане выступали с призывом ценностей не сдавать, а внести добровольные пожертвования... Все-таки комиссия из пяти верующих была собранием избрана и 13 марта должна была совместно с правительственной комиссией приступить к изъятию. 13 марта после богослужения молящиеся не разошлись и стали ожидать прибытия в храм комиссии. В 12 часов таковая явилась и подверглась со стороны толпы разным оскорблениям как словами, так и действиями.
Видя невозможность работать, комиссия удалилась, а толпа принялась петь благодарственные молитвы по случаю «спасения» ценностей. В этот же день толпа не расходилась до самого вечера, хотя была немногочисленна и по временам разражалась угрозами по адресу коммунистов и евреев. Конная милиция неоднократно рассеивала толпу, но она собиралась снова. <...>
15 марта были вызваны представители от верующих, чтобы начать изъятие, но ввиду скопления большой толпы, не разошедшейся после обычной службы и усиливаемой все новыми и новыми пришельцами, были сделаны попытки рассеять таковую при помощи милиции. Однако милиционеры подвергались оскорблениям, побоям и т. д. и рассеять толпу были не в силах. В то же самое время кто-то (как впоследствии оказалось, мальчишки в возрасте 12–14 лет) перелез через запертую решетку колокольни и ударил в набат. На звон сбежалось до 5000–6000 человек, а также прекратили работу две расположенные в Шуе текстильные фабрики. Продолжала работу фабрика тонких сукон.
Рабочие, хотя и прекратили работу, как было указано, но активного участия в беспорядках не приняли, ограничиваясь ролью зрителей. По распоряжению начальника гарнизона на соборную площадь была двинута рота красноармейцев. Пользуясь тем обстоятельством, что красноармейцы на площади были рассыпаны в цепь, толпа пыталась их сагитировать, но, не добившись успеха, бросилась на солдат и стала отнимать у них винтовки. Произошло несколько выстрелов, причем какой-то гражданин был убит. Толпа стала избивать красноармейцев кольями и поленьями, причем один красноармеец избит смертельно, а 26 человек получили легкие ранения. Тогда на толпу были двинуты два грузовика с пулеметами. Пулеметами была сначала обстреляна колокольня с целью прекращения набата, затем дано несколько очередей поверх толпы. В результате толпа разбежалась, и порядок был восстановлен. Немедленно начались аресты наиболее ярых агитаторов и подстрекателей.
В сводной ведомости ВЦИК за ноябрь 1922 года приводятся такие сведения о количестве изъятых ценностей:
«По телеграфным сведениям местных комиссий по изъятию церковных ценностей изъято:
Золота 33 пуда 32 фунта
Серебра 23 997 пудов 23 фунта
Бриллиантов 35 670 штук
Прочие драгоценные камни 71 762 штук
Жемчуга 14 пуда 32 фунтов
Золотой монеты 3115 руб.
Серебряной монеты 19 155 руб.
Различных драгоценных вещей 52 пуда 30 фунтов».
Гражданская война: от Колчака до Врангеля, 1919–1920 годы
Алексей Будберг, Николай Устрялов, Петр Врангель, Михаил Фрунзе
После свержения в Омске Директории – временного антибольшевистского правительства (1918) – адмирал А. В. Колчак, известный полярный исследователь и бывший командующий Черноморским флотом, был назначен единоличным правителем России и принял титул Верховного правителя Российского государства; эту должность он принял с такими словами: «Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, объявляю, что не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности». Армия Колчака, развивая наступление, вышла к Волге, а с северо-запада ей навстречу двинулась армия генерала Н. В. Юденича, угрожавшая Петрограду. Впрочем, оба эти наступления не привели к успеху: армию Юденича удалось вытеснить в Прибалтику, а силы Колчака постепенно отходили к востоку, оставляя уральские и сибирские города.
Об обстановке в штабе Сибирской армии оставил воспоминания А. П. Будберг, военный министр в правительстве «Верховного», как за глаза называли Колчака.
Вернулся с фронта начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Лебедев... Что побудило адмирала взять себе в помощники этого случайного юнца без всякого стажа и опыта? Одни говорят, что таково было желание устроителей переворота; другие объясняют желанием адмирала подчеркнуть связь с Деникиным, который прислал сюда Лебедева для связи.
Впечатление от первой встречи с ним неважное: чересчур он надут и категоричен и по этой части очень напоминает всех революционных вундеркиндов, знающих, как пишется, но не знающих, как выговаривается. На очередном оперативном докладе он поразил меня своим апломбом и быстротой решений; я это уже не раз видел во время Великой войны в штабах армий, где стратегические мальчики, сидя за сотни верст от фронта, во все мешались и все цукали. Здесь то же самое: такая же надменная властность, скоропалительность чисто эмоциональных решений, отмены отдаваемых армиями распоряжений, дерзкие окрики и обидные замечания по адресу фронтовых начальников, и все это на пустом соусе военной безграмотности, отсутствия настоящего военного опыта, непонимания психологии армии, незнания условий жизни войск и их состояния. Все это неминуемые последствия отсутствия должного служебного стажа, непрохождения строевой службы и войсковой боевой страды, полного незнания, как на самом деле осуществляются отдаваемые распоряжения и как все это отзывается на войсках. От этого мы стонали и скрежетали зубами на большой войне, и опять все это вылезло, обло и стозевно, и грозит теми же скверными последствиями.
Большинство ставочных стратегов командовали только ротами; умеют «командовать», но управлять не умеют и являются настоящими стратегическими младенцами. На общее горе они очень решительны, считают себя гениями, очень обидчивы и быстро научились злоупотреблять находящейся в их руках властью для того, чтобы гнуть и ломать все, что не по-ихнему и им не нравится.
Понятно, почему так ненавидят на фронте ставку; все ее распоряжения отдаются безграмотными в военном деле фантазерами и дилетантами, не знающими ни настоящей, неприкрашенной обстановки, ни действительного физического и морального состояния войск, т. е. тех решительных коэффициентов, которые в своей сумме определяют боевую эффективность армий, их способность выполнения операции. Все делается без плана, без расчетов, под влиянием минутных импульсов, навеваемых злой критикой, раздражением, личными неудачами и привычкой цукать.
Забыто все, чему учила военная наука и академия по части разработки плана операций; плывут по течению совершающихся событий, не способные ими управлять.
Из ознакомления с донесениями с фронта убедился, что дела там совсем не важны и что оптимизм ставки ни на чем не основан. Достаточно разобраться по карте и проследить последние события, чтобы убедиться, что наше наступление уже захлебнулось и подкрепить его уже нечем. Здесь этого не хотят понять и злятся, когда это говоришь: слишком все честолюбивы, жаждут успехов и ими избалованы.
В районе Бугуруслана нас прорвали в очень опасном месте; этот прорыв уже третьего дня намечался группировкой красных войск и их передвижениями, и мало-мальски грамотный штаб, конечно, в этом разобрался бы и принял бы необходимые меры. У нас же этого не расчухали или прозевали, или не сумели распорядиться. Сейчас зато злятся, ищут виновных и рассылают обидные цуки.
Я считаю положение очень тревожным; для меня ясно, что войска вымотались и растрепались за время непрерывного наступления-полета к Волге, потеряли устойчивость и способность упорного сопротивления (вообще очень слабую в импровизированных войсках).
При таких обстоятельствах обозначившийся уже на левом фланге переход красных к активным действиям очень неприятен, так как готовых и боеспособных резервов у ставки нет; имеются совершенно сырые части генерала Каппеля, но для них нужно еще 2–3 месяца, чтобы они стали годными для упорных операций.
Ставка упорно закрывает глаза на то, что сброшенные как бы с боевых счетов красные вновь обозначились и не только затормозили наше продвижение, но уже сами начали нас кое-где толкать.
Плана действий у ставки нет; летели к Волге, ждали занятия Казани, Самары и Царицына, а о том, что надо будет делать на случай иных перспектив, не думали. Не хотят думать и сейчас; и сейчас нет подробно разработанного, систематически проводимого, надежно гарантированного от случайностей плана текущей операции. Не было красных – гнались за ними; появились красные – начинаем отмахиваться от них, как от докучливой мухи, совсем так же, как отмахивались от немцев в 1914–1917 гг.
Такая стратегия всегда вела к неуспеху и катастрофе; теперь же она сугубо опасна, ибо фронт страшно, непомерно растянут, войска выдохлись, резервов нет, а войска и их начальники тактически очень плохо подготовлены, умеют только драться и преследовать, к маневрированию не способны и по этой части совсем безграмотны; кроме того, жестокие условия гражданской войны делают войска чувствительными к обходам и к окружению, ибо за этим стоят муки и позорная смерть.
Красные по военной части тоже безграмотны; их планы очень наивны и сразу видны; при мало-мальски грамотных начальниках и обученных маневрированию войсках всякую операцию красных можно обратить в их разгром. Но у них есть планы, а у нас таковых нет, и в этом их преимущество.
Был у военного министра генерала Степанова; знаю его по артиллерийскому училищу, порядочный человек, старательный, но бесцветный работник, знакомство с адмиралом в Японии выдвинуло его на тяжелый пост военного министра.
Сейчас под него подкапывается ставка, сваливая на него все недостатки по снабжению армии. Вообще отношения между ставкой и военным министерством самые враждебные; обе стороны зорко шпионят одна за другой и искренно торжествуют и радуются, если противник делает промахи и ошибки; оказывается, что в общем моральном разложении можно было докатиться и до такой гадости.
Вот к чему приводит борьба за власть, за первенство. Честолюбие, корыстолюбие, женолюбие слепят многих и заставляют забывать главное – спасение родины. В угаре этой борьбы в средствах не стесняются, а поэтому сплетня, провокация, ругань, возведение самых гнусных обвинений и распространение самых подлых слухов в полном ходу. <...>
По приказанию адмирала делал доклад Совету Министров о положении дел на Дальнем Востоке; предупредил членов совета, что докладываю разрозненные наблюдения обывателя; изложил свой взгляд на атаманщину и на ее гибельное значение для Омска и для всего дела восстановления разрушенной государственности. Указал на известные мне ошибки представителей дальневосточной власти, которые сделали слишком много для того, чтобы подорвать в корне нравственный престиж и реальный авторитет восстанавливаемой государственности, сделать ее одиозной в глазах местного населения и бросить его в объятия большевиков. Рассказал про порядки заготовки снабжения, про развал транспорта и пр.
Обвеянный старым чувством уважения к «Совету Министров», т. е. к ареопагу государственной мудрости и опыта, я вначале чувствовал себя очень смущенно, как будто бы на экзамене, и не успел даже рассмотреть как следует своих слушателей.
Полученные от армии сведения о состоянии снабжения дают самую отчаянную картину; самое скверное в том, что нет надежды на скорое улучшение, ибо все заказы с большими опозданиями размещены на востоке, срочность исполнения не обеспечена, а транзитный транспорт сократился почти вдвое, так как восстание в Енисейской губернии остановило ночное движение на всем Красноярском участке, и Иркутский узел все более и более забивается не пропускаемыми на запад поездами.
Считаю, что и ставка, и военное министерство виноваты в том, что допустили передачу вещевого снабжения в постороннее министерство, не связанное ничем с армией, не понимающее ее нужд, работающее вялым, бюрократическим темпом. Военные должны были соображать, что нельзя иметь голую армию, что и обязывало их не довольствоваться разговорами и обещаниями снабжательных штатских и принять такие меры, чтобы недостатка в вещевом снабжении не было; тут уж можно было ломить вовсю, не считаясь ни с расходами, ни с контролем, ни с никакими препятствиями. <...>
Разбирался во вчерашних впечатлениях и пришел в мрачное настроение: вражда между армиями, легкомысленность и легковесность основных распоряжений, втирание очков начальству показной стороной резервных частей, совершенно не готовых к бою, но на которых основываются серьезные планы очень рискованных операций; невероятный хаос в деле снабжения и почти никакой надежды на возможность улучшения и, наконец, несомненность атаманщины разных калибров и отсутствие настоящей дисциплины – вот печальный вывод впечатлений вчерашнего дня. Скверно и то, что верховный правитель едва ли в состоянии сломать все это и навести настоящий порядок: очень уж он доверчив, легковерен, несведущ в военном деле, податлив на приятные доклады и заворожен теми, кто говорит ему приятное и в оптимистическом тоне.
Между тем многие противники большевиков уже начали задумываться, насколько правы те, кто считает себя правыми в этой войне. Атмосферу гражданской войны и ощущения человека, оказавшегося между молотом и наковальней, между «красными, зелеными, золотопогонными», пребывающего в полной растерянности, не знающего, кто прав, кто виноват, но искренне болеющего душой за Россию, замечательно передают дневниковые записи видного отечественного философа, основоположника национал-большевизма, репрессированного в 1937 году Н. В. Устрялова.
Общее политическое положение смутно, тревожно, неустойчиво. «Радости нет» – это уже во всяком случае. На глазах ухудшаются отношения с союзниками, шевелится внутренний большевизм, с другой стороны, нарастает самая черная и бессмысленная военная реакция. Жизнь все время как на вулкане. Мало у кого есть надежда победить большевиков.
Сам по себе Омск занятен, особенно по населению. Сплошь типично столичные физиономии, столичное оживление. На каждом шагу – или бывшие люди царских времен, или падучие знаменитости революционной эпохи. И грустно становится, когда смотришь на них, заброшенных злою судьбой в это сибирское захолустье: нет, увы, это не новая Россия, это не будущее. Это – отживший старый мир, и ему не торжествовать победу. Грустно.
Это не авангард обновленной государственности, это арьергард уходящего в вечность прошлого. Нужно побывать в обеденные часы в зале ресторана «Россия», чтобы почувствовать это живо и осязательно. <...>
Большевики, видимо, держатся крепко. Молодцы! Говорят, Украина уже окончательно ими очищена и близится решительная схватка с Деникиным. Последний секретно сообщает, что положение серьезно. <...>
Плохие вести со всех сторон. На фронте идет наступление большевиков, пока очень успешное. Сданы им Бугуруслан, Сергиевск, Чистополь и уже, по-видимому, Бугульма. Неважно, грустно. <...>
Самые последние вести – ничего. Юденич непосредственно угрожает Петербургу, Деникин идет на Царицын, наши оправляются, мирная конференция будто бы решила признать Колчака. Большевики – как затравленные звери, умирают, но не сдаются. Честь им и слава! Возможно, что они попробуют и им удастся ближе сойтись с Германией и тем подбросить хвороста в угасающий очаг всемирной революции. Во всяком случае жить все интереснее и интереснее становится. И за Россию все спокойнее. Откровенно говоря, ее будущее обеспечено – вне зависимости от того, кто победит – Колчак или Ленин. <...>
У Деникина началось контрнаступление большевиков. Уже взяли обратно Балашев (значит, восстановили железнодорожную связь с Саратовом) и ведутся бои за Харьков и Екатеринослав. Ужели повторится история нашего наступления?.. Ну а у нас, разумеется, отвратительно, – судьба Екатеринбурга, вероятно, уже предрешена. В тылу – гнусная грызня генералов, обывательская паника, рост общественного недовольства – верный спутник неудач. Беда. На Западе – шатко. <...>
Снова дни решающие, роковые. Бой за Омск, за победу, за бытие Колчака, за перелом... Решается, кстати, и наша судьба – закинутых сюда порывом урагана людей. Что будет зимой – бегство, бедствия, гибель или успокоение и радость победы, в худшем случае зима в Омске со всеми удобствами теперешней жизни. Господи, пошли скорее мир России – по крайней мере, конец этой смертной междоусобной войне. <...>
Продолжаются бои, перелома еще нет, напряженно. Большевики, как говорят, дерутся отлично, наши – тоже. Большие сравнительно потери с обеих сторон. Мы взяли порядочно пленных. Офицеров и комиссаров расстреливают, вешают – c’est l’usage и ничего не поделаешь... С деникинского фронта, кажется лучше...
Внутри – усиливающееся злое чувство к союзникам за их политику расчленения России, за их равнодушие, за их невмешательство. В сущности, они, быть может, по-своему и правы – за чужой щекой зуб не болит, но, с другой стороны, когда болит зуб, нервы, как известно, сугубо расстроены. И естественно, ищешь врага... Наши неуспехи сильно затормозили дело. Опять же изумительная ловкость большевиков. <...>
Радио большевиков становится исступленно, взвинченно в своей кровожадности, истерично – нечто подобное было с советскими вождями осенью, вернее, поздним летом прошлого года, когда чехи взяли Симбирск, Казань и, казалось, угрожали Нижнему... Террор опять оживился до нелепости. В Москве расстреляли 67 человек... Призывают громы на ученых, литераторов – словом, интеллигенцию. «Бей, губи их, злодеев проклятых». <...> Захлебывающаяся злоба, хрипящая... В ответ брошены бомбы на собрании коммунистов, есть убитые, раненые – все второй и третий сорт. Деникин – на полдороге от Курска к Орлу, в опасности Воронеж, Мамонтов где-то в Тульской губернии, неуловимый, неуязвимый, словно Девет в бурскую войну – да, революция в опасности. У нас – тоже мало для них утешительного. Что будет? Опять спасутся? Ушли бы в Туркестан, к Индии... Стали бы восточным форпостом Великой России. Хорошо бы. <...>
Повсюду побеждают, разбит Юденич, отходит Деникин. Разбита контрреволюция...
Все длится восстание, углубляется, кровь, кровь... Пришла пора – ничего не поделаешь. Большевизм побеждает, победит – я, по крайней мере, в этом почти не сомневаюсь. Он объединит Россию – честь ему и слава! Боже, как глубоко все ошибались, ничего не поняли.
Тяжело на душе. Окончательно рушится привычная идеология, отвергнутая, разбитая жизнью. Уже давно сомнение закрадывалось в душу, но теперь уже ясно: большевизм побеждает, и вооруженная борьба против него не удалась. Скрывать от себя дальше эту истину просто бессмысленно, глупо.
В январе 1920 года А. В. Колчак, сознавая, что не справился с возложенными на него обязанностями, передал полномочия «Верховной российской власти» А. И. Деникину, а сам уехал в Иркутск, но был схвачен по дороге и передан большевикам. В феврале бывшего Верховного правителя расстреляли на берегу реки Ушаковка в Иркутской области.
Между тем англичане эвакуировались из Архангельска, и к марту 1920 года сопротивление большевикам на севере России прекратилось окончательно. На Дальнем Востоке при поддержке японцев возникла Дальневосточная республика, однако она просуществовала всего два года (бои в этом регионе с переменным успехом продолжались до октября 1922 года, когда части РККА и партизаны заняли Владивосток). На юге генерал Врангель начал наступление из Крыма навстречу полякам, которые двигались со стороны Белоруссии на Украину.
П. Н. Врангель в своих записках вспоминал, как не оправдались его надежды на скорую победу.
К концу августа разгром большевиков поляками выяснился в полной мере: около 250 тысяч людей и десятки тысяч коней попали в плен и частично были интернированы в Германии. Остатки большевистских армий поспешно бежали на восток, преследуемые польскими войсками.
На правом фланге поляков действовали украинские части, быстро продвигаясь на Украину. В правобережной Украине повсеместно вспыхивали восстания. Отряды Махно, Гришина, Омельяновича-Павленко и другие беспрерывно тревожили войска красных, нападая на транспорты, обозы и железнодорожные эшелоны.
Нам удалось установить с партизанами-украинцами связь, оказывая помощь оружием, патронами и деньгами. Среди населения правобережной Украины распространялись мои воззвания, призывающие украинцев к борьбе с большевиками. <...>
Общая стратегическая обстановка, казалось, складывалась так, как обрисовывал я ее французскому правительству. События на польском фронте придавали западному направлению первенствующее значение. Принятие Польшей мира, усиленно предлагаемого большевиками и на котором настаивало правительство Ллойд-Джорджа, было бы для нас роковым. Освободившиеся на западном фронте три с половиной большевистских армий получили бы возможность обрушиться на нас, и в этом случае исход борьбы был бы предрешен. Последние наши пополнения были влиты в армию; других пополнений, кроме отдельных офицеров из числа эвакуированных в 19-м году в разные страны, не было. Местные средства людьми и лошадьми были полностью исчерпаны. Единственным источником пополнения оставались пленные, боеспособность которых, конечно, была весьма относительна.
Я принимал все меры, чтобы убедить французское и польское правительства в необходимости продолжения поляками борьбы или хотя бы затягивания намечавшихся мирных переговоров с тем, чтобы, воспользовавшись оттяжкой части красных войск на польском фронте, пополнить и снабдить мои войска за счет огромной, захваченной поляками добычи, использовать как боеспособные части перешедших на сторону поляков и интернированных в Германии большевистских полков, так и захваченную победителями материальную часть. <...>
Вместе с тем я решил предпринять поездку по фронту совместно с представителями союзнических миссий, имеющую целью с одной стороны вселить в них уверенность в прочности нашего положения, с другой – наглядно показать недостатки нашего снабжения и необходимость срочной помощи в этом отношении для продолжения борьбы.
30 августа вечером я выехал из Севастополя в сопровождении А. В. Кривошеина и представителей военных миссий Франции, Польши, Америки, Англии, Японии и Сербии и нескольких корреспондентов русских и иностранных газет. Утром 31 августа поезд остановился на станции Таганаш и мы на автомобилях выехали для осмотра части укрепленной позиции. Работы на этом участке фронта были наиболее закончены. Густая сеть проволоки, блиндажи, сложный лабиринт окопов, искусно маскированные батареи. Недавно установленная тяжелая крепостная батарея производила пробную стрельбу. Наши аэропланы корректировали. Прибывшие могли воочию убедиться в огромной работе, сделанной за последние несколько месяцев, почти при отсутствии средств. Вернувшись в поезд, мы тронулись далее и на станции Акимовка смотрели расположенный там авиационный парк и оттянутую в резерв славную Кубанскую дивизию генерала Бабиева. Наша воздушная эскадрилья, под руководством выдающегося летчика генерала Ткачева, производила в воздухе ряд блестящих маневров, маневров тем более удивительных, что большинство аппаратов пришли в полную ветхость и лишь беззаветная доблесть русского офицера заменяла технику. Полеты были окончены и военные представители окружили отважных летчиков, высказывая свое восхищение. Генерал Ткачев доложил о том, что большинство аппаратов совершенно изношены и что в ближайшее время, если не будет получено новых, наша авиация окажется бессильной. Я использовал случай, чтобы указать на те усилия, которые делались мной для получения новых аппаратов и на те непреодолимые препятствия, которые оказывались мне не только со стороны наших врагов. Так недавно с большим трудом приобретенные нами в одном из государств (Болгарии) аэропланы были «по недоразумению» уничтожены одной из иностранных контрольных комиссий (англичанами). Представитель великобританской военной миссии, симпатичный полковник Уолш, густо покраснел. <...>
После ужина мы вернулись в поезд и выехали на станцию Федоровка, откуда 1 сентября утром проехали на автомобилях в колонию Кронсфельд, где смотрели оттянутую в резерв командующего армией Корниловскую дивизию.
От края до края огромной площади растянулись ряды войск. На середине площади поставлен аналой и в блестящих ризах духовенство служит молебствие. В тихом осеннем воздухе несутся звуки церковного пения, и где-то в небесной выси вторит им запоздалый жаворонок.
Загорелые, обветренные лица воинов, истоптанные порыжевшие сапоги, выцветшие истертые рубахи. У многих верхних рубах нет, их заменяют шерстяные фуфайки. Вот один, в ситцевой пестрой рубахе с нашитыми полотняными погонами, в старых выцветших защитных штанах, в желтых английских ботинках, рядом другой и вовсе без штанов, в вязаных кальсонах. Ужасная, вопиющая бедность. Но как тщательно, как любовно пригнана ветхая амуниция, вычищено оружие, выровнены ряды. После молебна я вручаю 1-му Корниловскому полку Корниловское знамя, знамя 1-го батальона имени генерала Корнилова.
Это знамя, сохраненное одним из офицеров полка, вырвавшимся от большевиков, является для полка дорогой реликвией.
Части проходят церемониальным маршем. Один за другим идут стройные ряды, бодрый твердый шаг, веселые радостные лица и кажется, что встали из могилы старые русские полки. <...>
Общая численность войск XIII советской армии достигала 30 000 штыков и 7000 шашек. Общая численность VI, XIII и II конной армий исчислялась в 45 000 штыков и 13 000 шашек.
Наши силы к 1-му сентября не превосходили 25 000 штыков и 8000 шашек (боевой состав). <...>
В течение сентября месяца 1-я Русская армия рассеяла противника на всем фронте от Азовского моря до Кичкасской переправы. Задача моя – развязать себе руки для заднепровской операции – была выполнена. <...>
Переговоры поляков с представителями советской России начались. Польская делегация прибыла в Ригу 5 (18) сентября. С первых же дней обнаружилось почти полное расхождение сторон. Казалось, каждая сторона предъявила условия для другой неприемлемые, однако переговоры не прерывались. За спинами договаривающихся ясно чувствовалась борьба интересов других держав.
Большевики, видимо, ясно отдавали себе отчет в обстановке. Учитывая, что так или иначе они достигнут с поляками соглашения, руководители советской власти решили покончить с другим врагом. Был выброшен ударный лозунг: «Все на Врангеля».
Несмотря на то что остатки красных армий безудержно откатывались перед польскими войсками на восток, красное командование все свободные резервы теперь бросало на юг.
В середине сентября стали поступать сведения о движении на юг с юго-западного участка польского фронта и красной кавалерии Буденного (1-й конной армии). <...>
Для того чтобы посадить на коней прибывшие с Кубани войска, я вынужден был произвести новую конскую мобилизацию в Бердянском и Александровском уездах.
Стремясь всемерно облегчить тяжелое положение крестьян, я неизменно требовал от войск помощи населению в полевых работах. <...>






