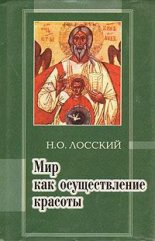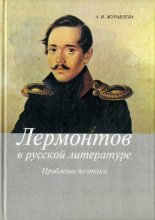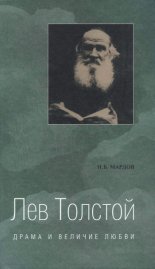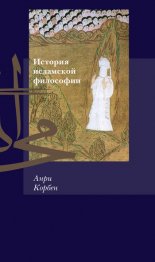Жак Лакан. Фигура философа Поддьяков Александр
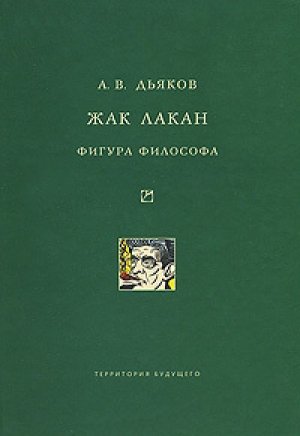
ВВЕДЕНИЕ
Существуют интерпретации настолько справедливые и правильные, что невозможно сказать, соответствуют ли они истине.
Ж. Лакан. Семинары. Т. 1
Речь у нас пойдет о Лакане. Фигура эта многогранна и противоречива. Вернее даже, существует множество фигур Лакана. О каждой из них можно написать отдельную книгу, причем без надежды отыскать самую главную фигуру, по отношению к которой все остальные окажутся лишь ее проекциями. И тем не менее нам представляется, что за этими множащимися фигурами стоит та, которая задает тон всем остальным, такая, которую, пользуясь выражением самого Лакана, можно было бы назвать Nom-du-Pre. Эта фигура даже не маячит за всеми другими, она может оказаться любой из них и ни одной из них – по преимуществу. Эта фигура – фигура Лакана-философа. О ней и написана эта книга.
Такая позиция вызовет (и мы хотим, чтобы вызвала) праведный гнев психоаналитиков: всем известно, что Лакан был психоаналитиком, и его приверженность психоанализу увела его даже от психиатрии. Да и сам он не раз подчеркивал, что никоим образом не считает себя философом. А раз так, то какое право имеет философия на Лакана? Она ведь ничего не может сказать о бессознательном, а если поиск бессознательного, как утверждал Лакан, имеет своим центром вопрос об истине, то и здесь философия не может предложить ничего, кроме более или менее произвольных конструкций, взгромоздившись на которые она заявляет о своих претензиях судить истину. Все это справедливо, как справедливо и замечание Фрейда: «Я умышленно говорю “в нашем бессознательном”, ибо то, что мы так называем, не совпадает с бессознательным у философов»[1]. И тем не менее мы беремся утверждать, что единственная возможность понять Лакана заключается в том, чтобы понять его как философа. Вернее, как фигуру-философа. Ведь то, что называет бессознательным Лакан, не совпадает с бессознательным у Фрейда, а гораздо ближе к тому, о чем говорят философы[2]. Аргументацией этого тезиса и должна послужить настоящая книга, хотя, конечно, это не единственная ее задача.
Д. Мулинье замечает, что существует три возможных прочтения Лакана: философское, психоаналитическое и, наконец, нефилософское и непсихоаналитическое[3]. В силу изложенных соображений мы будем тяготеть к философскому прочтению, поверяя его нефилософским, вернее, тем, что Ж. Делез назвал понимающей нефилософией, в которой нуждается философия. Конечно, нам не удастся избавиться от Лакана-психоаналитика. Однако мы наотрез отказываемся от такого психоаналитического прочтения, при котором действия героя и его теоретические построения выводятся из эдипального треугольника или оральной стадии и которым, увы, грешит даже такой несравненный знаток лакановского творчества, как Э. Рудинеско. При этом мы постараемся блюсти принцип, высказанный тем же Мулинье: «Чтобы изучать Лакана, необходимо не быть ни лаканистом, ни антилаканистом»[4].
Если мы признаем, что Лакан не был профессиональным философом, нужно заодно признать и то, что он не был профессиональным психоаналитиком, несмотря на то, что хорошо зарабатывал психоанализом. Как пишет Б. Ожильви, «Жак Лакан, французский врач-психиатр, получивший традиционное образование, начал с того, что поставил перед собой серию новых теоретических вопросов, исходя не из психоанализа, но из психиатрии, а равным образом из философии»[5]. Фрейдовская теория, к которой он пришел в своих поисках, была для него хотя и важнейшей, но все же одной среди многих. Его положение в психоанализе всегда было маргинальным, как мы намерены показать, именно в силу того, что занимавшая его проблематика и сам способ проблематизации были философскими, а не психоаналитическими.
«Полагать, что люди действительно думают то, что говорят, – одно из самых больших и постоянных заблуждений»[6], – говорил Лакан. К нему самому это применимо в высшей степени. Обращаясь к творчеству этого замечательного мыслителя, нечего и думать понять его исходя из его текстов, вернее, из того, что он некогда сказал и что теперь стало текстами. Но и свободная интерпретация его учения едва ли приемлема, поскольку несет в себе опасность приписать Лакану то, чего он не говорил. Единственно возможным, если мы хотим получить достоверную картину, оказывается третий путь: следовать за развитием мысли Лакана, предоставив ей самой складываться в причудливую мозаику. Конечно, стремиться к полному устранению авторской интенции – дело безнадежное. Но вот попытаться, перефразируя Фуко, «дать слово самому Лакану», т.е. написать генеалогию его учения, можно. Этим мы и займемся.
Лакан был практикующим психиатром и психоаналитиком. Поэтому, как справедливо замечает Б. Финк, «попытка разделить работу Лакана на теорию (лингвистика, риторика, топология, логика) и практику (клинический психоанализ, техника)… обречена на провал»[7]. «Его творчество декларативно, а не демонстративно»[8], Лакан непрестанно предлагает новые формулировки и концепты, «объясняя» старое новым. Однако всякая новая формулировка не составляет системы, Лакан вновь и вновь обещает нам, что мы поймем его, как только прочитаем еще один семинар. Однако очередной текст отсылает к другому, и систематичности мысли мы не находим. Сам Лакан признавался: «Я знаю – каждый раз, когда мы расстаемся, вы задаете себе один и тот же вопрос: Что же он в конце концов хочет сказать? И вы совершенно правы, потому что так, разумеется, об этих вещах не говорят, и это вам непривычно»[9]. Если кто-то сетовал на непонятность излагаемых им идей, он легко соглашался: все это говорится не затем, чтобы понимать, но затем, чтобы этим можно было воспользоваться.
Начиная с семинара 1955-1956 гг. у читателя возникает ощущение, что Лакан уподобился своим пациентам, выдумал свой собственный мир и бесконечно уточняет свои фантазматические объекты. Такое ощущение возникло, кстати, не только у нас, но и у Умберто Эко, который, явно метя в Лакана, писал: «Я привыкал к одержимцам, как психиатр к клинике, психиатр, привязывающийся к пациентам, к старинным деревьям больничного парка. Проходит время, он пишет десятки страниц по бреду, потом начинает писать десятки страниц бреда. Он не ощущает, что больные его переманили. Он думает, что это художественно»[10].
Поэтому нам приходиться обращаться не к какому-то конечному продукту, но к потоку лакановской речи. Лакан не считал свое учение философским, что, впрочем, не мешает философам искать систему лакановской мысли. Этим скользким путем volens nolens придется следовать и нам. У психоаналитиков такой подход неизменно вызывает протест[11]. Однако что же они могут предложить взамен? Практику лаканистского психоанализа? Но ведь прежде нужно выяснить, что такое лаканизм и что такое практика в лакановском понимании, – тогда, быть может, мы получим шанс понять, что, собственно, представляет собой психоанализ Лакана. В противном случае нам останется лишь повторять за ним маловразумительные заклинания. Таким образом, нам все-таки придется счесть Лакана философом (у философов никаких возражений на этот счет не возникает) и поверять его мысль философией.
Следуя за ходом эволюции лакановской мысли, мы обратимся к его биографии, которая, конечно же, будет интересовать нас не сама по себе (хотя и это весьма любопытно), но в том отношении, в каком она определяет те или иные линии развития его учения. Как все великие люди, Лакан стал объектом обширного мифотворчества. Как выразился М. Боуи, «Лакан – автор, о котором рассказывают истории, могущие стать объектом основательного социоогического исследования той силы, которой в “передовой” электронной культуре все еще обладают слухи и фольклор»[12]. Этот фольклор способен многое сообщить нам о своеобразной субкультуре психоанализа (что для понимания фигуры Лакана было бы чрезвычайно полезно), однако в настоящем исследовании мы, понятное дело, не станем приводить все анекдоты без разбора. Говоря о такой исследовательской установке, нельзя не сказать о той литературе, на которую мы опираемся.
Прежде всего мы обращаемся к первоисточникам, и здесь нас поджидает первая и самая значительная трудность. Лакан был мыслителем сократовского типа, излагавшим свое учение изустно («…Мною руководит… импульс, питающийся многочисленными заметками и передающийся вам, свидетелям моей одержимости»[13], – говорил он в 1970 г). За исключением своей диссертации по психиатрии, написание которой было вызвано академическими требованиями, он не написал ни одной книги. Его статьи появлялись по воле обстоятельств, а не в силу внутренней потребности. Но, несмотря на то, что Лакан на протяжении многих десятилетий всячески противился фиксации своих устных выступлений, сегодня нам приходится иметь дело с поистине необъятной литературой. Прежде всего, 27 его «семинаров», застенографированных и существующих во множестве вариантов. Частью они уже изданы в редакции Ж.-А. Миллера (только четыре тома вышли при жизни их автора). Поскольку редакция, по свидетельству многочисленных слушателей Лакана, была несколько вольной, существует потребность обратиться к стенограммам некоторых семинаров, особенно поздних, которые получили широкое хождение еще при жизни Мэтра, а сегодня, в эпоху цифрового копирования, выплеснулись на просторы Сети. Ж.-А. Миллер, зять Лакана, ставший его душеприказчиком, неоднократно предпринимал судебные преследования пиратских изданий семинаров, многие из которых тем не менее зарегистрированы во французской Национальной библиотеке. При работе с этими текстами приходится соблюдать большую осторожность, тщательно выясняя их происхождение (мы опирались лишь на ресурсы официальных лаканистских обществ).
Вышедший в 1966 г. сборник лакановских работ «crits» не охватил все написанные к тому времени статьи, поэтому приходится обращаться к огромному количеству текстов, разбросанных по старым журналам. Мы постарались составить наиболее полную библиографию текстов Лакана, однако вероятность того, что какие-то из них остались вне ее, теоретически существует (впрочем, существенно важными для понимания лакановского учения они заведомо не являются). Наконец, сохранились сотни выступлений Лакана на конференциях, симпозиумах и коллоквиумах, представляющих собой замечания по поводу выступлений других людей, порой пара фраз, а порой целые речи. Лакан, как известно, был мастером импровизации. И сегодня, по меткому выражению М. Марини, «мы колеблемся, спрашивая себя, кто написал то, что мы цитируем под именем Лакана»[14].
Работа со всем этим громадным корпусом текстов представляет собой тяжелый и зачастую неблагодарный труд: Лакан редко формулирует свое учение в концентрированной форме, и приходится перерабатывать огромное количество (зачастую пустой) породы ради нескольких крупиц золота. Проделав такую работу, мы вправе предположить, что именно в силу изложенных обстоятельств изучение лакановского учения требует больших усилий, а на выходе получается сравнительно небольшой исследовательский текст. Больших работ о Лакане не существует, за одним исключением, о котором сейчас пойдет речь, но это исключение представляет собой историко-биографический текст.
«История Жака Лакана – это история французской страсти в бальзаковском духе»[15], – пишет Э. Рудинеско. А история страсти неизменно обрастает обширной комментаторской литературой. Исследовательская литература, посвященная Лакану, чрезвычайно обширна, и к ней мы постоянно обращаемся, особенно во второй части настоящей книги. Однако в этом необъятном пространстве стоят особняком тексты Э. Рудинеско, представляющие для нас первостепенную важность. Речь идет о четырех томах, посвященных истории психоанализа во Франции. Первые два охватывают развитие французского психоаналитического движения начиная с 6 мая 1885 г. (даты встречи Фрейда и Шарко) и заканчивая 1985 годом[16]. Третий том посвящен непосредственно Лакану[17], а четвертый[18] рассказывает об истории появления первых трех. Кроме того, последняя книга тетралогии содержит исключительно интересный материал, касающийся хронологии, истории распространения и сравнительного изучения психоанализа в различных регионах мира[19].
«Мало кто из людей проявлял в той же мере, как и он, желание сохранить в тайне или же в неприкосновенности ту часть своего существования, что касается его детства или семейных корней», – пишет Э. Рудинеско[20]. Мы мало знаем о его детстве (едва ли несчастливом, несмотря на некоторые едкие замечания самого Лакана) и годах его учебы – к тому времени, когда появилась потребность в биографии Лакана, тех, кто был свидетелем его первых шагов, уже не стало. Еще меньше мы знаем о тех пяти годах молчания, за которые он не напечатал н и строчки, что не до конца можно списать на тяготы войны – для Лакана это время было отнюдь не таким тяжелым, как для многих других французских интеллектуалов. Сам он постарался стереть все следы своей довоенной деятельности, представ явившимся ниоткуда самобытным мыслителем. Однако некоторые следы все же сохранились, и мы вскоре двинемся по ним. Зато в послевоенные годы и до самой своей смерти Лакан был на виду, и этот самый продуктивный в творческом отношении период его биографии, эта осень его жизни, растянувшаяся чуть ли не на полвека, хорошо известна.
Обращаясь к биографии Лакана, мы не можем обойти вопрос о периодизации его творчества. Существующие периодизации используют два основания: одни опираются на эволюцию лакановской мысли, другие – на смену возглавляемых Лаканом коалиций. Так, М. Боуи выделяет пять фаз лакановской эволюции: 1) учение о стадии зеркала; 2) поворот к соссюровской лингвистике и Гегелю; 3) учение о трех регистрах; 4) учение о патернальном означающем; 5) создание универсальной теории. Однако такая периодизация мало что сообщает о хронологическом развитии мысли Лакана, представляя собой, скорее, тематическую рубрикацию его творчества. Д. Мулинье, рассматривая лакановскую мысль как по преимуществу учение о субъекте, предлагает более любопытную схему ее эволюции, фиксирующую ориентацию на те или иные философские концепции: 1) учение об интерсубъективности и субъекте желания (1930-1940-е гг.: Гегель, Кожев и Батай); 2) учение о субъекте речи и parltre (1950-е гг.: Хайдеггер); 3) учение о субъекте означающего и субъекте бессознательного (1960-е гг.: Декарт); 4) учение о субъекте симптома (1970-е гг.: Платон и Аристотель). Еще интереснее подход Ж.-П. Жильсона[21], который вместо периодизации лакановского творчества предлагает ее «топологию»: 1) прелиминарии; 2) структура желания; 3) учение о пользовании; 4) сублимация симптома. Опора на хронологию здесь, впрочем, сохраняется. Мы не следуем ни одной из указанных периодизаций, предпочитая не помещать творчество Лакана в строгие схемы.
От Лакана не приходится требовать строгой систематичности, ибо его мышление носит практический, можно даже сказать, прикладной характер. Как сам он говорил, «есть проблемы, которые нужно иметь решимость бросить нерешенными»[22]. Его язык весьма сложен и перенасыщен аллюзиями и скрытыми отсылками к всевозможным литературным источникам. Кроме того, от сюрреалистов (а может быть, и от своих пациентов) он унаследовал манеру играть созвучиями. Метонимия – не просто означающая ункция языка, но и орудие анализа. Так, в «Инстанции буквы» речь идет одновременно о «букве, бытии и другом» (la lettre, l’tre et l’autre). Со временем эта склонность к языковым играм растет и приводит к тому, что М. Боуи назвал «полу-теоретической магией» (semi-theoretical incantation)[23]. «Изобретать новые слова, – заметил Кант, – значит притязать на законодательство в языке, что редко увенчивается успехом»[24]. В случае Лакана затея увенчалась несомненным успехом.
Стиль Лакана складывался из множества разнородных элементов: почерпнутая у иезуитов казуистика, проповеднический стиль латинских христианских авторов, сюрреалистическая бредовость, тяжеловесный стиль немецкой философии и поэтическая легкость языка Малларме. Кроме того, в его языке присутствовало еще и то, что Р. Уэбб и М. Селлс называют «мистическим апофазисом»[25]. Лакан ищет истину субъекта, но высказывать эту истину – значит говорить от имени этого субъекта, т.е. истину ему навязывать. Поэтому саму истину он предпочитает умалчивать.
«Все знают, что я весел, даже шаловлив: я развлекаюсь, – говорил Лакан. – В своих текстах мне случается постоянно предаваться шуткам, которые не во вкусе преподавателей университета»[26]. Действительно, у Лакана был весьма своеобразный вкус, у университетских преподавателей вызывающий законное раздражение. Например, Д. Мэйси назвал тексты Лакана «сущей провокацией или обскурантизмом»[27], а В. Мейснер предупреждает, что «чересчур близкий контакт [с его идеями] чреват заражением смертельным вирусом»[28]. Деррида заметил, что «“стиль” Лакана как нельзя более подходил к тому, чтобы долгое время затруднять любой доступ к какому-либо очерчиваемому содержанию, к какому-либо однозначному смыслу, который бы можно было уловить по ту сторону написанного»[29]. Наконец, даже ученик Лакана С. Бенвенуто признает: «Нет ничего удивительного в том, что Лакан выводил из себя многих своих коллег, ведь под маской респектабельного психоаналитика он обнаружил эпистемологического канатоходца. Его шутовской стиль, эксцентричность, проводимые с дадаистским юмором смехотворные сеансы скандальны и по сей день, поскольку самым ярким образом обнаруживают невозможную позицию фрейдовского дискурса, навеки зависшую между подозрениями в жульничестве и харизмой туманных откровений»[30]. В самом деле, есть нечто комическое в том, что Лакан, всегда ратовавший за ясность и понимание, сам оказывается столь темным автором, да еще открыто заявляет, что практикуемый им психоанализ – это мошенничество.
Начитанность и колоссальная эрудиция Лакана неизменно поражали тех, кто сталкивался с ним. А сам он скромно замечал: «В чтении я себе не отказываю»[31]. Впрочем, считать самого Лакана литератором было бы преувеличением. Как справедливо замечает Э. Рудинеско, «Лакан не интересуется ни литературой как таковой, ни писателями, которых он хотел бы сделать своими сторонниками. Он мыслит как философ, логик и глава школы, и если его перо – перо писателя, он всегда пользуется литературными произведениями для того, чтобы показать обоснованность своего учения. Они нужны ему в качестве орнамента»[32]. Тем не менее Лакан признавал, что его «crits» – «это литература, поскольку это написано и продается»[33].
Еще одной важной особенностью этой «литературы» является обилие графических схем и рисунков, с которых Лакан начинал едва ли не каждое свое выступление. К этим графемам можно относиться по-разному. Многие слушатели семинаров утверждали, что это чуть ли не единственная возможность следовать за мыслью Лакана. Другие же считают их необязательными. Так, М. Марини пишет: «…Я не уверена, что топология сама по себе может считаться решающим вкладом в психоанализ. Так же и психоанализ ничего не решает для топологии. Думаю, скорее стоит вести речь об интеллектуальной потребности подкрепить одну дисциплину другой, заставить их коммуницировать, ввести их в более широкое поле знания»[34]. Сам Лакан тоже колебался в этом вопросе: то он признавал, что речь идет о простой аналогии, то утверждал, что только графемы придают строгость психоанализу. Нам представляется разумным занять некую среднюю позицию, обращаясь к лакановским «графам» там, где это необходимо, но не пытаясь рабски воспроизвести весь геометрический мир, который Лакан вычертил на десятках классных досок и салфеток из ресторанов.
Лакан всегда нес с собой опасность ереси и раскола[35]. Он стал ключевой фигурой в длительном процессе отделения французского психоанализа от Международной психоаналитической ассоциации. Он никого не изгонял; напротив, обычно изгоняли его. Однако эти изгнания неизменно кончались тем, что он уводил с собой наиболее творческую часть французских аналитиков. Те, кто его отлучал, могли сколько угодно утверждать, что очистили свои ряды, избавившись от паршивой овцы. Но у Лакана были все основания утверждать, что в его фигуре и заключен французский психоанализ, доказательством чему стал небывалый взлет популярности оного в конце 1960-х гг. и его быстрый закат после смерти Лакана. Каждый новый раскол, спровоцированный Лаканом, имел своим результатом формирование новой институции, представлявшей очередную версию лаканизма. Поражает то обстоятельство, что все эти лаканизмы существуют по сей день и имеют многочисленных приверженцев.
Мы должны предупредить читателя, что настоящая книга, хотя и освещая все эти расколы в той мере, в какой это соответствует ее задачам, не является историей лаканизма. Мы надеемся, что такой труд в России появится в обозримом будущем. В рамках одной работы невозможно обозреть все стороны столь многообразного феномена, как Лакан. В конце концов, на Западе давно уже стали нормой капитальные исследования, анализирующие творчество Лакана в свете картезианства, феноменологии или гегельянства. После нашего труда могут (и должны) появиться такие и у нас. Мы надеемся, что наша книга станет лишь первой в ряду исследований, посвященных этой теме, и подготовит почву для появления работ, освещающих другие стороны лакановского творчества[36]. Коль скоро он вызовет неудовлетворенность психоаналитиков (а иначе и быть не может), это должно стать стимулом для написания работы, подробно освещающей лакановский «фрейдизм». Не считая Лакана фрейдистом и не признавая определяющего влияния Фрейда на его творчество, мы признаем не только правомерность, но и необходимость такого труда. Кроме того, необходимо отдельное историко-психиатрическое исследование лакановского учения. И, конечно же, исследование историко-культурное. Мы лишь закладываем основание и надеемся на то, что эта работа будет продолжена.
Книга состоит из двух частей. В первой прослеживается в хронологическом порядке развитие лакановского учения в связи с фактами биографии его основателя и с историей психоанализа во Франции. Во второй предлагается ряд поперечных срезов лакановской мысли, позволяющих прояснить происхождение и смысл его основных концептов. И то, и другое в равной степени необходимо. Мысль Лакана эволюционирует, однако постоянство общих интуиций позволяет рассматривать ее как целое. Итак, повторим еще раз то, с чего мы начали: в настоящей книге мы будем двигаться от рассмотрения длительностей к их структурному анализу.
ЧАСТЬ I
ПРОЛОГ
ПСИХОАНАЛИЗ ВО ФРАНЦИИ
«Когда же придет время логиков и философов-сновидцев?»
А. Бретон. Манифест сюрреализма
Когда молодой Лакан начинал свою медицинскую карьеру, во Фрации господствовали три школы, так или иначе представлявшие французский вариант психоанализа. Первой была динамическая психиатрия, родившаяся из философии Просвещения и реформированная в начале XX в. Цюрихской школой. Второй – психология Пьера Жане, ученика Ж. Шарко и ближайшего конкурента Фрейда. Третьей – философия А. Бергсона, чей концептуальный аппарат представлял все необходимое для разработки галльской версии психоанализа. Все три течения опирались на идеал «галльского духа» со свойственными ему противопоставлением французской civilisation германской Kultur и германофобией, усилившейся в годы Первой мировой войны, когда понятия «пансексуализм» и «пангерманизм» стали представляться тождественными.
Психоанализ проникал во французскую интеллектуальную среду начиная с 1914 г., и главная его особенность на галльской почве заключалась в том, что медицина и литература сыграли в его адаптации одинаково важную роль. Исследователи склонны объяснять эту особенность той ролью, которую играла литература во французском обществе в период между двумя мировыми войнами. В ту эпоху, когда еще не произошли демократические реформы образовательной системы, культура оставалась достоянием элиты. Писатель в этих условиях был не просто художником, но теоретиком и проводником политических идей. Ситуация изменилась только после Второй мировой войны, когда писатели стали занимать куда более скромную нишу (представители «нового романа» уже не вели баталий в защиту фрейдизма, их задачей стала литературная критика). Пока же литература оставалась той единственной средой, через которую могли распространяться новые культурные веяния.
При этом, однако, какого-либо единого психоаналитического движения не возникло; скорее, можно сказать, что во Франции межвоенного периода появилось два различных и не слишком похожих друг на друга фрейдизма (юнгианство здесь никогда не было популярно). Первым был фрейдизм клиницистов: в 1926 г. они образовали Парижское психоаналитическое общество (Socit psychanalytique de Paris (SPP)), которое, впрочем, тоже не было монолитным. Здесь выделялись «шовинистская» группа (А. Эснар, Э. Пишон, А. Борель, А. Коде), ортодоксальная фракция, примыкавшая к Международной психоаналитической ассоциации (М. Бонапарт, Р. де Соссюр, Р. Левенштейн, Ш. Одье), группа, сохранявшая нейтралитет и тяготевшая к установлению связей с психиатрией (П. Шифф и Э. Минковски, основатель группы «Психиатрическая эволюция» (volution psychiatrique)), а также «раскольники» во главе с Р Лафоржем.
Второе направление представляли литераторы-«невежды», исповедовавшие так называемый Laienanalyse, не преследовавший цели терапевтического воздействия, – М. Лейрис, Ж. Батай, Р. Кревель, Р. Кено и др. В этом литературном движении особняком стояла группа сюрреалистов, особенно жестко противопоставившая себя клиницистам. При этом, однако, многие сюрреалисты были не чужды медицины и не были такими «невеждами», как их представляли их противники: например, студенты-медики А. Бретон (Бретон был учеником И. Бабинского, и тот предрекал ему большое будущее в области медицины) и Т. Френкель в годы войны работали младшими врачами, и Бретон, по его же словам, в военном психиатрическом отделении практиковал фрейдистские «методы». В 1919 г. он писал Тцара, что в философии разбирается слабо, тогда как психиатрия (особенно Крепелин и Фрейд) ему очень близка. «Если бы Бретон завершил медицинское образование, получив степень доктора медицины, и продолжал работать в области психиатрии, – пишет А. Элленбергер, – он вполне мог бы, используя эти новые методы, стать основателем нового направления в динамической психиатрии»[37]. Конечно, любовь к медицине разделяли не все сюрреалисты: например, сын известного гастроэнтеролога Ф. Супо категорически не желал иметь дело с врачебной практикой. Однако этот «клуб врачей», сложившийся в сюрреалистическом движении, был неплохо знаком с терапией, и неудивительно, что журнал «Сюрреалистическая революция» опубликовал фрагменты статьи Фрейда «Die Frage des Laienanalyse», позже полностью опубликованной в переводе М. Бонапарт. Сюрреалисты, в отличие от той же М. Бонапарт, не боролись за право людей без медицинского образования заниматься анализом. Напротив, они ратовали за радикальный отрыв психоанализа от медицины. Это привело к резкому размежеванию между психоанализом клиницистов и модернистским авангардом: никто из двенадцати основателей Парижской психоаналитической ассоциации не признавал той роли, которую сюрреализм сыграл в проникновении психоанализа во Францию.
Хотя Бретон и утверждал, что уже в военном госпитале Сен-Дизье он применял фрейдовский «метод», едва ли в годы Первой мировой войны он был хорошо знаком с психоанализом. По-немецки он не читал, и только в 1922 г. мог ознакомиться с французскими переводами «Введения в психоанализ» и «Психопатологией обыденной жизни». До этого Бретон с увлечением читал труды П. Жане, А. Мари, Э. де Сен-Дени и других представителей динамической психиатрии. В октябре 1921 г. он посетил Фрейда в Вене и обменялся с ним несколькими письмами, хотя сам Фрейд не понимал идей сюрреалистов и был удивлен тем, что эти люди проявляют к нему интерес[38]. Фрейд принял молодого литератора неприветливо, заставив его несколько часов дожидаться в приемной вместе с пациентами, и неудивительно, что, рассказывая об этом визите, Бретон отозвался об основателе психоанализа не слишком лестно[39]. Во всяком случае, несомненно, что представление о бессознательном у Бретона отличается от фрейдовского: у поэта речь идет не о топосе психики и не о структуре, но о центре автоматизма, описанном великими французскими гипнотизерами, спиритами и оккультистами.
Сюрреалисты пережили краткое увлечение спиритизмом и «автоматическим письмом», но вскоре отказались от этой практики, обнаружив, что она способна вызвать психические расстройства: сам Бретон начал галлюцинировать, несколько членов кружка пытались повеситься прямо во время спиритического сеанса, а Деснос в сомнамбулическом состоянии гонялся за Элюаром с ножом в руке. Однако идея автоматического записывания речи бессознательного оказалась весьма плодотворной. Бретоновский «автоматизм» отсылает не столько к бессознательному Фрейда, сколько к предсознательному, освобождая некую анонимную форму выражения. Но самым значительным его эффектом является ниспровержение картезианского представления о языке как о собственности субъекта. Субъект стараниями сюрреалистов перестал быть владельцем производимых им смыслов и речевых высказываний, а язык сделался автономной формой существования. «…Впервые во Франции, – замечает Э. Рудинеско, – сюрреалисты сделали возможной встречу между фрейдовским бессознательным, языком и децентрацией субъекта, которая произвела большое впечатление на молодого Лакана. Хотя позже он и подверг критике сюрреализм, в юности он почерпнул в нем то, что останется сущностно важным для всего его дальнейшего пути»[40].
Французские психоаналитики-клиницисты первого поколения не уделяли никакого внимания понятию «речевой формы» и, за исключением Пишона, не обращали никакого внимания на собственный язык. Если сам Фрейд стремился прояснить статус творческого акта, то французские пионеры психоанализа непосредственно обращали на литературные произведения терапевтические техники; в результате они сформировали парадоксальный жанр «психобиографии», в котором классические тексты и жизнь их авторов рассматривались как клинические случаи невроза или психоза. Динамическая психиатрия 1920-х гг. требовала признать психическое расстройство формой человеческого существования, не отказываясь в то же время от представления о гениальности как о форме умопомешательства, так что «психобиография» находила здесь поддержку. По сути, речь шла о составлении нозографии литературного произведения и постановке диагноза его автору.
Сюрреалисты, напротив, рассматривали истерию как поэтический акт: истерия, писали Арагон и Бретон, не является паологическим феноменом и может считаться высшим средством выражения[41]. Истерия представляет собой «подрывной» язык, способный разрушить устоявшиеся формы искусства. Таким образом, сюрреалисты на место патологии поставили выразительную форму.
Бретон сформулировал программу сюрреализма в Манифесте 1924 г. Здесь он потребовал освободить человеческий дух и заявил, что такое освобождение возможно лишь в области воображения. Сумасшедшие, признает Бретон, являются жертвами собственного воображения, потому что именно воображение побуждает их нарушать те правила поведения, за пределами которых человечество чувствует себя под угрозой. Однако безумие, несмотря на все жестокие наказания, есть наслаждение. В учении Фрейда Бретон видит возможность обратиться к важнейшей области душевного мира человека, не объявляя ее безумием. «Быть может, ныне воображение готово вернуть себе свои права. Если в глубинах нашего духа дремлют некие таинственные силы, способные либо увеличивать те силы, которые располагаются на поверхности сознания, либо победоносно с ними бороться, то это значит, что есть прямой смысл овладеть этими силами, овладеть, а затем, если потребуется, подчинить контролю нашего разума. Ведь и сами аналитики от этого только выиграют». Сновидения ничуть не менее важны для жизни человека, нежели реальность. Сон обладает непрерывностью и имеет внутреннюю упорядоченность, на его указания можно положиться в той же мере, что и на сознание. Бретон выдвигает очень важное положение, идущее вразрез с ортодоксальным фрейдизмом: «…Следует заметить, что не существует ни одного средства, заранее предназначенного для решения подобной задачи, что до поры подобное предприятие в равной мере может быть как делом поэтов, так и делом ученых…»[42]
Первым практическим шагом по «освобождению безумия» стал коллективный манифест, вдохновленный А. Арто и озаглавленный «Письмо к врачам, управляющим приютами для умалишенных». Этот текст представляет собой, пожалуй, первый антипсихиатрический документ, предвосхитивший декларации британских и итальянских антипсихиатров 1960-х гг. Сюрреалисты жестко выступили против права психиатрии оценивать человеческий разум и приравняли психиатрические заведения к казармам и тюрьмам. «Вовсе не настаивая на том, что манифестации некоторых сумасшедших (fous) (насколько мы способны их оценить) носят гениальный характер, мы утверждаем, что их концепция реальности и все, что из нее вытекает, абсолютно правомерна»[43]. У сюрреалистов не было того, что стало центральным элементом деклараций позднейших антипсихиатров: представления о том, что безумие является продуктом социального отчуждения. Если «Психиатрическая эволюция» стремилась вырвать безумие из рук судебной власти, сюрреалисты настаивали на признании творческой и интеллектуальной полноценности безумия.
Т. Тцара утверждал, что единственным общим моментом, который разделяли все сюрреалисты, был антипсихологизм[44]. И действительно, сюрреализм отвергал как психологизм романтиков, так и популярную во Франции психологию масс, противопоставляя им принцип «нового человека», свободно реализующего свои желания. Э. Рудинеско отмечает три вехи этой «свободы»: смерть, сексуальность, преступление. Сюрреалисты прочитали фрейдовскую книгу «По ту сторону принципа удовольствия» только в 1927 г., когда она была переведена на французский язык, поэтому есть все основания утверждать, что свое представление об импульсе смерти они разработали более или менее независимо от Фрейда и лишь затем сопоставили с фрейдистским. Впрочем, сюрреалистский культ самоубийства опирался на более давнюю французскую традицию. А вот в отношении дискурса о сексуальности группа Бретона намного опередила французских психоаналитиков-клиницистов, организовав в 1928 г. серию диспутов, в ходе которых сюрреалисты максимально откровенно говорили о собственной сексуальности[45]. О революционном характере женщины-преступницы группа заговорила в связи с делом Вьолет Нозье, восемнадцатилетней девушки, в августе 1933 г. отравившей своих родителей. Сюрреалисты объявили ее «новой Жанной д’Арк», увидев в этой несчастной не только героиню бунта против семейных ценностей, но и фигуру, символизирующую приход новой эры. В том же 1933 г. Францию потрясло и дело сестер Папен, о которых будет писать молодой Лакан.
Ни один из членов сюрреалистической группы никогда не публиковался в «Revue franaise de psychanalyse»; в свою очередь, участники Парижского психоаналитического общества не шли на контакты с сюрреалистами. Лишь один из представителей первого поколения французских аналитиков, Ж. Фруа-Витманн, публиковался в журналах сюрреалистов. А. Эснар отмечал, что сюрреализм, высокомерно отвергавший любые «догмы», «делал небольшое исключение для психоаналитической доктрины. Это последнее снискало его благосклонность потому, что, как казалось, имеет с сюрреалистической теорией – которая не нравилась никому из учеников Фрейда – глубинные сходства»[46]. Эснар добавил, что сюрреализм разделяет с фрейдизмом иррационалистическую концепцию бессознательного, которую французской психологии еще только предстоит усвоить. Однако подлинный интерес к сюрреализму стали проявлять лишь представители второго поколения «Психиатрической эволюции», видевшие в забавах группы Бретона подлинное «приключение бессознательного». А. Эй впоследствии говорил, что в значимости фрейдизма его убедила не медицинская литература, но именно сюрреализм.
По-видимому, одним из оснований обращения сюрреалистов к коммунистическим идеям была надежда на то, что марксизм, опирающийся на гегелевскую диалектику, позволит преодолеть антиномию между воображением и реальностью. При этом, однако, сюрреалисты не разорвали своей прежней связи с психоанализом, хотя и понимаемым весьма оригинально и в их версии далеким от фрейдизма. Французская коммунистическая партия в 1930-е гг. испытывала сильнейшее влияние со стороны русского большевизма, а потому, естественно, здесь во многом повторялись те процессы, которые происходили в ВКП(б).
В молодой Советской Республике главным пропагандистом психоанализа, как ни странно, оказался Л. Д. Троцкий. Еще в 1909 г., во время своего пребывания в Вене, он побывал на психоаналитических семинарах и прочитал несколько работ Фрейда. В 1923 г. Троцкий писал великому русскому физиологу И. П. Павлову, что фрейдовское учение можно соединить с материалистической психологией, поскольку оно представляет собой частный случай учения об условных рефлексах. Революционная Россия на первых порах встретила фрейдизм с распростертыми объятьями, однако в ходе идеологических дебатов конца 1920-х – начала 1930-х гг. обнаружились столь существенные противоречия психоанализа и павловской рефлексологии, что первый стали рассматривать как реакционное лжеучение. Многие исследователи считают, что их союз и не мог состояться, поскольку учение Павлова предполагает слияние в единой научной дисциплине психологии, неврологии и физиологии нервной системы, тогда как фрейдизм, напротив, тяготеет к обособлению от медицинских дисциплин. И, хотя советские сторонники слияния фрейдизма с марксизмом утверждали, что таковое возможно при условии изъятия из первого «слишком животной» сексуальной гипотезы, «слишком пессимистического» учения о Танатосе и «слишком идеалистического» философского монизма, психоанализ для Советской России оказался неприемлем. Особенно неудобной для советских идеологов была пансексуалистская гипотеза, ведь так понимаемая сексуальность выступала источником чувственного разгула и анархии, несовместимых с идеалами коммунизма. На наш взгляд, фрейдизм в Советской России был отвергнут именно по политическим причинам, ведь расхождение его с павловским учением не столь уж велико: как и Павлов, Фрейд положил в основание своей доктрины чисто биологическое представление о естественных и приобретенных рефлексах, да и сами инстинкты Эрос и Танатс прекрасно вписываются в рефлексологию. Фрейд был не меньшим «материалистом», чем Павлов, ибо его энергетическая модель психики сводит все психические процессы к совершенно материальным импульсам.
Во Франции, несмотря на усилия Арагона, подобные идеологические дебаты не происходили. Арагон утверждал, что сюрреализм использует психоанализ как революционное оружие и ведет к отказу от идеалистической позиции, однако Французская компартия не допускала, что революция на уровне речи, в которой для сюрреалистов и заключался основной смысл психоанализа, может быть столь же политически важной, как пролетарская революция. Если в СССР происходила борьба между фрейдизмом и павловизмом, то во Франции от первого отказались лишь в силу недоверия и без всяких споров. Впрочем, один из самых значительных партийных интеллектуалов Ж. Политцер все-таки высказался: психоанализ, заявил он, представляет собой реакционное учение, тесно связанное с расовыми теориями и обеспечивающее германский национал-социализм учением о бессознательном, поддерживающем расовую нетерпимость. Враждебность нацизма к психоанализу, по мнению Политцера, носит не теоретический, а всего лишь тактический характер и может смениться крепким союзом.
Говоря о психоанализе во Франции, нельзя обойти стороной вопрос об осмыслении фрейдовского учения в литературе, поскольку именно через литературу оно приобрело здесь популярность. Мы уже достаточно говорили о сюрреалистах, однако, хотя для нашего исследования они важнее прочих, они вовсе не были первыми литераторами, увлеченными фрейдизмом. Первая волна «моды на Фрейда» накрыла Париж в 1922 г., и, несмотря на порой поверхностное, а чаще всего снобистское обращение к теме, именно здесь надо искать начало французского психоанализа. Французская медицина 1920-х гг. продолжала исповедовать идеалы XIX в., в то время как литераторы оказались открытыми для новых веяний. Такое положение вещей и привело к формированию «двух фрейдизмов» – клинического и светского, – враждебных друг к другу.
Фрейд с недоверием отнесся к Бретону и с легкой иронией – к А. Ленорману, однако с Р. Ролланом у него сложились самые теплые отношения. Роллан писал основателю психоанализа, что был одним из первых французов, прочитавших его труды[47]. Впрочем, они встретились лишь однажды, в мае 1924 г., а Роллан в это время был увлечен Индией и увидел в учении Фрейда что-то вроде йогической практики. А. Жид заинтересовался психоанализом в связи с его возможностью объяснить и «легитимировать» сексуальные инверсии. В 1921 г. он рассчитывал на то, что Фрейд напишет предисловие к немецкому изданию его «Коридона», обеспечив книгу чем-то вроде научного алиби. Этот проект, впрочем, не имел успеха, и сочинения Жида получат клиническую интерпретацию только в 1956 г., в фундаментальном двухтомнике учителя Лакана Жана Делая. И наконец, стоит сказать несколько слов о фигуре, представляющей большой интерес для исследования источников лаканизма, – о Марселе Прусте. Пруст, по-видимому, никогда не читал работ Фрейда, как и Фрейд не читал его сочинений, однако знаменитый писатель самостоятельно выработал собственную концепцию бессознательного, во многом сходную с фрейдовской, но опирающуюся на медицинское знание конца XIX в. Отец писателя, доктор Адриен Пруст, был учеником Шарко, практиковал гипноз и интересовался учением гигиенистов. Брат Марселя, Робер, также сделал карьеру врача, занимаясь сексологией. Этот клинический пласт весьма заметен в эпопее «В поисках утраченного времени». Но самым важным для нас моментом является прустовская концепция личной истории, реконструируя которую, субъект выстраивает самого себя.
Франция долго сопротивлялась психоанализу. В годы, предшествовавшие Второй мировой войне, психоанализ рассматривали как специфически германскую идеологию, непригодную для французов. В 1940–1950-х гг. интересовались преимущественно статусом психоанализа как науки и его отношением к лингвистике, математике и литературе. Но когда в конце 1960-х гг. произошло его восторженное принятие, захватившее представителей едва ли не всех научных дисциплин (не исключая естественнонаучные), французские интеллектуалы получили лаканистский вариант психоанализа. Причин этому много, но, очевидно, ключевым моментом стала «психологизация» политического дискурса, произошедшая благодаря «майской революции» 1968 г. Учение Лакана идеально подходило для такой смычки психоанализа и политики.
ГЛАВА 1
ПОРТРЕТ ЛАКАНА В ЮНОСТИ
Однажды, давным-давно, в старое доброе время…
Дж. Джойс. Портрет художника в юности
Предки Лакана издавна занимались изготовлением винного уксуса и горчицы в окрестностях Орлеана, и отголоски этого промысла слышны в лакановских семинарах: не раз встречается здесь образ горчичницы, служащий для иллюстрации идеи пустоты. В 1824 г. мастер, работавший на дом Грефье-Азон, Карл-Проспер Дессо основал собственное дело. Став конкурентом своего патрона, он отдавал себе отчет в необходимости укрупнения производства, и два года спустя семьи породнились: юный Карл-Лоран Дессо сочетался браком с Марией-Терезой Эме Грефье-Ванде. Таким образом, семья Дессо стала крупным производителем белых луарских вин. Карл-Лоран был убежденным бонапартистом, тогда как его младший брат Жюль склонялся к республиканским идеям. Несмотря на все старания Карла-Проспера сохранить общее дело, предприятие в конце концов разделилось: в 1850 г. Жюль основал собственное предприятие, а Карл-Лоран стал единоличным правителем дома Дессо. Впрочем, всем делам этот последний предпочитал охоту и развлечения, и шестнадцать лет спустя, когда производство было близко к краху, он передал дела своему старшему сыну Полю, а после его смерти – младшему Людовику.
Людовик Дессо вступил во владение предприятием в тяжелые времена: на рынке появился спирт, получаемый методом перегонки, и производители винного спирта и уксуса не находили сбыта для своего товара. Тем не менее Людовик за тридцать лет непосильного труда превратил отцовское предприятие в современный завод, занимавший целый квартал в Орлеане на улице Тур-Нев, 17. К 1900 г. здесь трудилось сто восемьдесят рабочих, производивших винный спирт для консервирования корнишонов и столовые вина. Кроме того, у Людовика обнаружился талант к рекламе: на этикетке его вин было указано, что дом Дессо основан в 1789 г., и эту «революционную» марку знали во всех бакалеях Франции и Наварры; позже она стала известна и в колониях. Компания «Дессо» экспортировала корнишоны, горчицу, водку и уксус на Антильские острова и импортировала ром с Мартиники и кофе с Гваделупы. Предприятие было механизировано, и всего десять человек обслуживали оборудование, дававшее 400 гекталитров уксуса в сутки. Чувствуя новые веяния и опасаясь «революционного мессианизма», идущего из Парижа, Людовик предложил своеобразную организационную модель, основанную на патернализме, культе строгости и религиозном повиновении. В 1880 г. он издал «внутренний регламент», провозглашавший основные добродетели работников: набожность, чистота и точность. Рабочие трудились одиннадцать часов в день, вместе молились каждое утро и никогда не болтали на службе. Употребление вина и табака было строго запрещено, и даже фасон одежды строго регламентировался. В общем, дом Дессо был одним из тех учреждений казарменного типа, функционирование которых подробно опишет М. Фуко.
Старшая сестра Людовика, Мари Жюли Дессо, в 1865 г. познакомилась с Эмилем Лаканом из Шато-Тьерри, семья которого на протяжении многих поколений вела бакалейное дело и торговлю сукном. Этот молодой человек имел склонность к путешествиям и служил торговым представителем. Трудолюбивый и деспотичный, он быстро понял, что брак с девушкой из семьи Дессо обеспечит ему благополучие и известность. Людовик, которому помогали трое сыновей (Поль, Карл и Марсель), не препятствовал матримониальным намерениям своей сестры, и 15 января 1866 г. был заключен брак. Через девять месяцев родился мальчик, Рене, проживший двадцать восемь лет, а затем еще две девочки и один мальчик: Мари, Эжени и Альфред. Отец нашего героя Карл Мари Альфред Лакан родился 12 апреля 1873 г. Его имя было многосоставным: в память о рано умершем дядюшке отца, в честь деда по материнской линии и в честь Девы Марии, покровительствовавшей производителям уксуса в Орлеане.
Эмилю Лакану вскоре надоел Орлеан, и семья перебралась в Париж, поселившись в роскошном доме на бульваре Бомарше, 95. Цокольный этаж занимал магазин оптовой торговли вином. По соседству жил Поль де Кок, сочинитель легких романов и любимец гризеток. Он часто появлялся на балконе, одетый в голубой халат и бархатный берет, с непременным лорнетом в руке. Семья Лаканов была религиозной, и маленького Альфреда отправили в католический пансионат Нотр-Дам-де-Шамп, за что он обижался на родителей всю жизнь. Очень рано он начал работать в фирме «Дессо», служил ее торговым представителем и впитал все ее идеалы: бережливость и равнодушие к культуре. Даже внешне он стал типичным коммерсантом своей эпохи: невысокий, полноватый и с маленькими усиками. Он не был ревностным христианином и посещал мессу не в силу убеждений, а по привычке.
В 1898 г. Альфред Лакан познакомился с Эмиль Филиппин Мари Бодри, жившей по соседству, чей отец, прежде чем сделаться рантье, был золотых дел мастером. Она унаследовала от своих родителей пылкую религиозность и склонность к мистицизму. Всегда одетая в черное, стройная и темноглазая девушка казалась идеальной христианкой, что контрастировало с простоватой религиозностью семьи Дессо. Брак был заключен 23 июня 1900 г. 13 апреля 1901 г., в половине третьего пополудни, родился первенец – Жак-Мари Эмиль, – которого окрестили в церкви Сен-Дени. Через год Эмиль родила второго сына, умершего в младенчестве от гепатита, а затем, 25 декабря 1903 г., девочку Мадлен Мари Эммануэль. 25 декабря 1908 г. родился младший брат Жака-Мари, Марк-Франсуа. В дальнейшем по медицинским соображениям матери пришлось отказаться от новых беременностей.
Мать не только занималась воспитанием детей, но и помогала своему супругу в торговых делах. Поэтому после рождения первенца в семью была принята нянька Полин, которая особенно полюбила Марка. Жако, как называли в те годы нашего героя, испытывал по этому поводу ревность. С ранних лет он проявил свою капризность и тиранический характер; по праву старшего он всегда претендовал на особое внимание. По отношению к Марко он вел себя покровительственно. Семейная идиллия нарушалась тем, что Эмиль не уживалась со своей свекровью и недолюбливала своих невесток Марию и Эжени. Состарившийся Эмиль Лакан вышел на пенсию и уехал в Орлеан, а Альфред занял его место. Но вместо разъездов по всей стране он предпочитал жить в Париже и со временем стал главным представителем фирмы «Дессо» в столице. Приветливый и дипломатичный, он прекрасно ладил с клиентами и хорошо разбирался в столичной коммерции. Благодаря его деятельности финансовое положение семьи было весьма устойчивым и позволило арендовать в пригороде удобный дом, названный в честь младшего из сыновей «Вилла Марко». Летом сюда приезжали родственники матери – брат Жозеф, сестра Мари и ее супруг Марсель Ланглуа с четырьмя детьми – Роже, Анной-Мари, Жаном и Робером. Вся компания увлеченно играла в кегли. Кроме того, Альфред купил большой автомобиль и нанял шофера Гастона. Жак уже тогда питал слабость к машинам и всегда добивался права сидеть рядом с водителем.
Жаку претила удушливая обстановка строгой религиозности. Кроме того, он ненавидел своего деда, «отвратительного мелкого буржуа», как он скажет за год до своей смерти, в 1980 г. По-видимому, именно Эмилю Лакану обязаны мы возникновением в учении Жака устрашающей фигуры Отца. Против реального отца, Альфреда, Жак ничего не имел. Свои первые годы наш герой провел в квартире на бульваре Бомарше, а затем, после отъезда деда в Орлеан, семья перебралась на улицу Монпарнас, поселившись напротив коллежа св. Станислава, который посещали оба мальчика. В этом католическом коллеже учились дети из семей крупной и средней буржуазии, и в решении родителей отдать своих отпрысков именно сюда сказались воинствующий клерикализм и враждебность к республиканским идеалам светского образования.
Коллеж был основан в 1848 г., сразу после того, как разобрали баррикады на улицах Парижа. Создание этого учебного заведения свидетельствовало о повороте крупной буржуазии, еще столь недавно вольнодумной и антиклерикальной, к аристократическим ценностям. Монахи-марианисты, руководившие коллежем, позаботились выстроить лекционные амфитеатры, лаборатории и зал для фехтования. Каждый год, в День Карла Великого, устраивался банкет, на котором лучшие ученики произносили традиционную речь. После реформ 1901 г. коллеж стал «свободной школой», но на деле мало что изменилось. В годы учебы Лакана заведением руководил аббат Потонье, который продолжал заботиться о своих учениках и после того, как они покидали коллеж. В 1908–1909 гг. здесь учился Шарль де Голль. Литературу преподавал аббат Жан Кальве, большой знаток французского классицизма. Он отдавал предпочтение Паскалю, Расину, Малербу и Лафонтену. Сочинения XVIII в. он даже не упоминал, а из современных авторов признавал только С. Прюдома и Э. Ростана. Ни о Бодлере, ни о Рэмбо, ни о Малларме ученики от него не слыхали. На занятиях по философии царил Декарт.
В 1915 г. война нарушила устоявшийся порядок. Альфред Лакан был мобилизован и проходил службу в чине сержанта, занимаясь продовольственными поставками для армии. Делами фирмы «Дессо» занялась мадам Лакан. Коллеж св. Станислава был превращен в армейский госпиталь, и юный Жак мог наблюдать за операциями прямо во дворе заведения. Впрочем, его куда больше интересовала собственная персона. Он дистанцировался от своих соучеников, никогда не принимал участия в общих играх и стремился стать лучшим во всем. Это ему удавалось. Однажды его обошел в сочинении другой ученик, и взбешенный Лакан заявил ему: «Еще бы ты не выиграл, ведь ты пишешь, как мадам де Севинье!» Жак стал лучшим латинистом коллежа, но по другим предметам его часто обходили. Наставники отмечали, что этот молодой человек чересчур самостоятелен, немного тщеславен и неспособен организовать свое время. Одноклассники единодушно считали его высокомерным. Не отличаясь крепким здоровьем, он часто болел, а кроме того, нередко прогуливал занятия.
В 1917–1918 гг. философию в коллеже св. Станислава преподавал Жан Барюзи, с которым у Лакана завяжутся длительные дружеские отношения. Этот католик-рационалист, близкий к Э. Жильсону, А. Койре и А. Корбину, защитил докторскую диссертацию по произведениям Жана де ла Круа. Он принадлежал к тем католическим мыслителям, которые занялись сравнительным историческим изучением религий. Эта инициатива подвергалась нападкам как со стороны клерикалов, так и со стороны левых антиклерикалов, считавших, что суевериям не место в университетах. Барюзи не выступал ни за, ни против католицизма и считал необходимым изучение религиозных феноменов позитивистскими средствами. По-видимому, именно благодаря ему молодой Лакан увлекся философией Спинозы: на стене своей комнаты он повесил огромный лист картона, на котором цветными карандашами вычертил топографию «Этики». Лакан быстро отходил от католицизма своей семьи в сторону ученого и аристократического католицизма, опирающегося на критический инструментарий. Кончилось это разрывом с религией: молодой Лакан стал атеистом и перестал посещать церковь. Впрочем, он никогда открыто не выступал против религиозной культуры и, несмотря на свой атеизм, венчался в церкви и крестил своих детей. Он отказался от полученного при крещении имени Мари и уже в середине 1920-х гг. подписывал свои первые статьи именем Жак Лакан и лишь изредка – Жак-М. Лакан. Его брат Марк тем временем двигался в противоположном направлении: уже в детстве он укрепился в намерении стать священником, каковое и исполнил. Мать одобрила его решение, тогда как отец не высказал никакого энтузиазма.
Другой страстью Жака в эти годы стало коллекционирование редких книг. Вместе со своими одноклассниками он стал посещать книжный магазин Адриена Монье на улице Одеон, 7. Это заведение было чем-то вроде литературного клуба, здесь читали свои произведения А. Жид, Ж. Ромен, П. Клодель и другие. Лакан посещал также книжную лавку «Шекспир и Ко.» и слушал, как Джеймс Джойс читает свого «Улисса». В то же время он увлекся дадаизмом и сюрреализмом, познакомился с А. Бретоном и Ф. Супо. Благодаря сюрреалистам он стал читать Фрейда. В те годы он стал посещать собрания националистической группы «Действие» и, не разделяя идей антисемитизма, превратился в ярого монархиста. Тогда же он познакомился с Шарлем Моррасом. Лакан колебался в выборе профессии, но уже в 1916 г., вопреки воле отца, рассчитывавшего, что сын продолжит его дело, он принял решение стать врачом. Однако в то же время он подумывал о политической карьере.
Атеизм Жака укрепился благодаря Ницше, труды которого он читал по-немецки. В 1925 г. Жак составил похвальное слово немецкому философу, которое его брат Марк зачитал на банкете в коллеже св. Станислава. Когда Марк закончил чтение, один из преподавателей в бешенстве выкрикнул: «Ницше был сумасшедшим!». Жака очень раздражало решение брата стать монахом-бенедиктинцем. Пользуясь своим авторитетом старшего, он заставил Марка изучать право; затем Марка призвали в армию, но в конце концов, в 1929 г., он принял постриг и отправился в аббатство Отекомб, со временем став довольно известным теологом. Жак, провожавший его на вокзале, корил себя за неспособность переубедить брата. 1 мая 1935 г. он приедет в Отекомб, чтобы присутствовать при рукоположении Марка. Больше он здесь не бывал. Сестра Жака, Мадлен, вышла замуж за дальнего родственника семьи, коммерсанта Ж. Улона, и уехала с ним в Индокитай. Она умрет от туберкулеза в начале 1930-х гг. В 1924 г. семейство Лакан переселится в Булонь, где Альфред построит собственный дом, и квартира на Монпарнасе опустеет.
В 1919 г., окончив курс в коллеже св. Станислава, Жак окончательно избрал медицинскую карьеру. От военной службы он был освобожден из-за своей крайней худобы, и теперь ничто не мешало ему начать образование в выбранной области. Молодой Лакан поселился в мансарде на Монмартре и подражал Растиньяку. Он вел несколько рассеянный образ жизни, щегольски одевался и с удовольствием тратил большие суммы денег, получаемые от родителей. У него было много женщин. Впрочем, их всегда будет много. Жак презирал нарождающийся средний класс с его мелкобуржуазными добродетелями и мечтал о богатстве и славе.
Тем временем он занимался своей медицинской карьерой: в 1926– 1930 гг. он опубликовал свои первые статьи. От изучения псевдобульбарных расстройств он перешел к исследованию общего паралича и хронического галлюцинаторного психоза. Таким образом, Лакан погрузился в нейропсихиатрию. Он занимается у Анри Клода в клинике психических и нервных расстройств при госпитале св. Анны (1927-1931) и в течение года (1928-1929) работает в специальном отделении для душевнобольных при префектуре полиции[48]. В течение двух лет он трудится в больнице Анри-Русселя и получает диплом судебного эксперта. Его наставником становится Гаэтан Гатиан де Клерамбо.
Влияние этого человека на становление учения Лакана огромно, однако не стоит упускать из вида еще один момент, о котором часто забывают: в августе-сентябре 1930 г. молодой врач проходит стажировку в клинике Бургхольцли в Швейцарии, где в начале XX в. О. Форель, К. Г. Юнг и Э. Блейлер сформировали принципиально новое представление о психическом расстройстве и где Лакан работал под руководством ученика Блейлера Г. Майера.
ГЛАВА 2
ДИССЕРТАЦИЯ О ПАРАНОЙЕ
Благодаря безумцам он вырос в один из крупнейших умов своего времени. Он больше учился у больных, чем давал им. Они обогащали его своими уникальными ощущениями; он только упрощал их, делая их здоровыми.
Э. Канетти. Ослепление
4 ноября 1926 г. на заседании Неврологического общества Лакан представил своего первого больного – человека, страдавшего дыхательным тиком и нарушением координации. Это была рутинная работа: ничего нового Лакан пока не предложил. Впрочем, два любопытных момента в этом сообщении мы все-таки отметим. Первый заключается в том, что предметом, заинтересовавшим Лакана, оказался взгляд больного, фиксированный на линии горизонта независимо от положения головы. С проблематизацией взгляда Лакан вскоре столкнется, познакомившись с Клерамбо. Второй же относится, скорее, к разряду курьезов. Лакан, прославившийся своим в высшей степени оригинальным подходом к изучению психической жизни человека, в 1926 г. выдает клише:
Психика. За исключением идеационной медлительности, психика больного представляется вполне нормальной. Суждения справедливы. Ориентация нормальная. Выказывает здравый смысл, проявляет доброжелательность характера, нормальную эмоциональность, справедливую заботу о своих интересах[49].
В тот день, когда Лакан представлял своего первого больного, в Париже было основано Психоаналитическое общество, включившее в себя десять членов: А. Эснар, Р. Лафорг, М. Бонапарт, Э. Сокольничка, Р. Алленди, Ж. Паршемини, Р. Левенштейн, А. Борель, Э. Пишон, А. Коде; позже к ним присоединились Ж. Ш. Одье и Р. де Соссюр. Лакан станет членом общества лишь восемь лет спустя, и еще четыре года уйдет у него на то, чтобы стать его самой заметной фигурой.
Психиатрическая клиника 1930-х гг. еще была во всем подобна заведениям эпохи Великого Заточения, как назвал ее Фуко. Больные носили одинаковые пижамы, их переписка с друзьями и родственниками подвергалась перлюстрации, а личные вещи изымались. Женщины числились в лечебницах под девичьей фамилией. Буйных и непослушных приводили к повиновению смирительной рубашкой, ледяными ваннами, железными ошейниками и большими дозами касторового масла. Пациенты выполняли грязную и тяжелую работу на кухне или в подсобном хозяйстве. Большая часть российских психиатрических заведений по сию пору выглядит так же, но во Франции вскоре произойдут значительные перемены.
Нозография болезней оставалась весьма консервативной: хронический галлюцинаторный психоз, синдром психического автоматизма, врожденный сифилис и т.п. Молодой Лакан тоже пользовался этими диагнозами. Истории болезни, которые он составлял вместе со своими коллегами, вполне типичны. Таков, например, случай, описанный им совместно с Ж. Леви-Валенси и П. Менаном: мужчина, входивший в ментальный контакт с полицейскими агентами и жандармами, страдает «хроническим галлюцинаторным психозом», мифоманией и, возможно, сифилисом[50]. Гораздо больший интерес представляет случай женщины, страдавшей истерией: в 1915 г. ее дом был разрушен прямым попаданием снаряда, а сама она получила многочисленные мелкие ранения. Ее нога застряла в трещине пола, и сама она впоследствии объясняла расстройства движения именно этим обстоятельством: она ходила то на цыпочках, то скрещивая ноги, то вращаясь против часовой стрелки. Кроме того, она жаловалась на всепроникающие волны, делающие ее беременной, и слуховые галлюцинации. Лакан, который через несколько лет сделает выслушивание речи пациента своей профессией, здесь сетует на неуемную болтливость пациентки, мешающую постановке диагноза, хотя и обращает внимание на крайне интересные письма больной к своим лечащим врачам[51]. Это был единственный случай истерии, с которым Лакану пришлось иметь дело в годы изучения психиатрии, и в свете учения Фрейда он станет рассматривать его лишь пять лет спустя. Пока же он использует термин Й. Бабинского «пифизм». Случай паркинсонизма[52] неинтересен, а вот в случае галлюцинационного синдрома на фоне мании величия и сифилитических осложнений Лакан отмечает довольно любопытный факт, вполне укладывающийся в его позднюю концепцию: синдром психического автоматизма, вполне артикулированный, исчезает при наступлении интеллектуальной деградации[53].
Другие «случаи» разбираются вполне типично: паралитик, у которого подозревают сифилис[54], «энцефалический галлюцинаторный психоз»[55], опять паркинсонизм[56]. Несколько любопытнее случай двух братьев, страдающих физической и умственной отсталостью. Лакан говорит об органических нарушениях, однако отмечает, что «гомология патогенных причин повлекла за собой гомологию психических реакций», т.е. «подобие судеб»[57]. Впрочем, причину болезни снова ищут в сифилисе. И даже в разборе случаев «симультанного бреда» (в обоих случаях – мать и дочь), сделанном совместно с А. Клодом и П. Миго, в качестве причины указывается наследственность[58]. Таким образом, в эти годы Лакан придерживается органической концепции психического заболевания и связывает психиатрию с неврологией.
Наставниками молодого Лакана стали три великих психиатра того времени – Жорж Дюма, Анри Клод и Гаэтан Гатиан де Клерамбо. Первому Лакан льстил, второго стремился очаровать своим талантом; отношения с третьим всегда колебались между любовью и ненавистью. Дюма, друг Пьера Жане и Карла Блонделя, заведовал кафедрой психопатологии в Сорбонне и был ярым противником психоанализа. Он непрестанно издевался над казенной терминологией фрейдизма, над пансексуализмом, а заодно и над немцами вообще. На его лекции в амфитеатре госпиталя св. Анны по воскресеньям собиралось множество студентов – психиатров и философов. Среди них был и молодой Леви-Строс. Конкурент Дюма и защитник психоанализа А. Клод был преемником Шарко и также пользовался большой популярностью у студентов. Он утверждал, что германский вариант психоанализа чересчур груб в своем символизме, а потому французам следует выработать собственную версию психоаналитического учения.
Третьим, и самым влиятельным, наставником молодого Лакана был Гаэтан Гатиан де Клерамбо, ведущий свою родословную по отцовской линии от Декарта, а по материнской – от Виньи. Он родился в 1872 г. и учился в коллеже св. Станислава, который посещал и Лакан. Он увлекался музыкой и литературой и, прежде чем избрать медицинскую карьеру, изучал право. Во время Первой мировой войны он служил в действующей армии в Марокко, а вернувшись в Париж, стал главным врачом специального отделения для душевнобольных при префектуре полиции. Этот пост он занимал вплоть до своего самоубийства в 1934 г. Он завидовал Клоду и называл того «господином, который хочет сделать себе два имени сразу». Лакан впервые увидел его в 1928 г. В отличие от А. Клода, Клерамбо предпочитал предложенную Крепелином типологию психозов понятию «шизофрения», введенному учителем Фрейда Блейлером. Вслед за Крепелином Клерамбо считал общим основным элементом психозов синдром умственного автоматизма (syndrome d’automatisme mental). Клерамбо придерживался органической теории происхождения умственных расстройств и в этом отношении оказался вне своего времени: с одной стороны, в эпоху, когда бурно развивалась динамическая психиатрия, он оставался верен конституционализму, с другой – предвосхитил учение о структурном характере психических расстройств. Отказавшись от блейлеровской концепции шизофрении, в центр своего внимания он поставил паранойю.
Эта теоретическая позиция имела точное соответствие в практической деятельности Клерамбо: по-видимому, стройность собственного учения для него была важнее заботы о пациенте. Он резко отрицательно относился к реформаторским тенденциям в психиатрии и на своем посту в санитарном отделении при полицейской префектуре представлял скорее фигуру врача-надзирателя, нежели врача-терапевта. Работая на репрессивный государственный аппарат и не имея частной практики, он сознательно стремился воплотить идеал врачебного надзора, совершенствуя свой медицинский взгляд и никогда не слушая больного. Уж не о нем ли тридцать лет спустя писал Фуко?
Тема взгляда была для Клерамбо наваждением. Еще в Марокко он увлекся арабским искусством драпировки женской фигуры, и в своем парижском доме этот женоненавистник питал собственную эротоманию, драпируя восковые фигуры. Клерамбо возрождал представление о женщине как о всецело сексуализированной фигуре, воскрешая забытые в его эпоху представления. Как раз в то время, когда в его отделении появился Лакан, Клерамбо стал слепнуть. Его неудачно оперировал некий испанский врач, и 17 ноября 1934 г. окончательно ослепший психиатр застрелился, завещав свои глаза для медицинских исследований. Парижские газеты много писали о смерти этого «нового Калигари», кабинет которого был заполнен восковыми куклами в странных одеждах.
Учение о синдроме психического автоматизма позволило Клерамбо включить в единую классификацию галлюцинаторные психозы и чувственные бреды, среди которых привилегированное положение занимала эротомания. Эротомания в концепции Клерамбо стала чем-то вроде истерического психоза, в котором объект господствует над субъектом. При этом, подчеркивал Клерамбо, в эротомании мы имеем дело с «безумным» видением реальности, которое, однако, по своей организации является ничуть не менее «подлинным», чем «нормальная» мысль.
Работа в отделении Клерамбо была для Лакана весьма полезной. Свои взгляды этого периода он изложил в статье «Структура параноических психозов»[59], увидевшей свет в 1931 г. Здесь Лакан попытался освободить понятие паранойи от учения о характерологических типах. Вместо этого он предлагает собственную типологию параноических психозов: параноическая конституция (constitution paranoaque), бред интерпретации (dlire d’interprtation) и чувственные бреды (dlires passionnels). Мы не станем следовать за мыслью Лакана, аккуратно перечисляющего характерные признаки каждого состояния, отметим лишь те моменты, которые впоследствии окажутся наиболее продуктивными для лакановского учения. Прежде всего, Лакан говорит, что в случае параноической конституции имеет место ошибочность суждений, основанная на «излишке» (dbordement) или «вирулентности» логической функции. При этом у параноика сохраняется систематичность суждений, просто он «блуждает» среди софизмов и паралогизмов. Таким образом, мышление параноика не алогично, напротив, оно сверхлогично и потому слишком узко. Его реальность слишком четко очерчена. Это порождает невозможность контакта с другими людьми, при том, что параноик остро нуждается в признании другими. Впрочем, при известных обстоятельствах параноик может стать авторитарным правителем, не приемлющим никакого инакомыслия. Если же это невозможно, он становится отшельником или бунтарем. Бред интерпретации сводится для больного к ощущению, что его преследуют, а самое главное – что все его мысли известны окружающим, и потому он беззащитен перед ними. В этих случаях параноическая структура также имеет логическую организацию, причем именно логичность интерпретации выступает несущей конструкцией паранойи. Однако страдающие бредом интерпретации могут переживать разлад между логически выстроенной структурой и эмпирическими фактами. Чувственный бред представляет собой хроническое эмоциональное состояние, в центре которого располагается превалирующая идея. Клерамбо различал три формы таких состояний: бред притязания, эротомания и бред ревности. От бреда интерпретации эти состояния отличаются тем, что место интерпретации здесь занимает сильное эмоциональное переживание. Такой бред питается интерпретациями, возможность которых задана первоначальным переживанием; иными словами, это частный, а не всеохватывающий бред. Лакан замечает, что именно таким образом организованы правильно выстроенные обвинительные речи в суде.
«Группа параноических психозов, – пишет Лакан, – определяется своей интеллектуальной целостностью…»[60] Внимание, память и логичность суждений у страдающих ими пациентов остаются нормальными. Поэтому такие больные в большом количестве производят тексты – письма, жалобы, угрозы и т.п. Лакан настаивает на необходимости тщательнейшим образом исследовать такие документы. Таким образом, уже в этой ранней статье он иплицитно высказывает ключевое положение своего учения: паранойя имеет собственную логику, и исследователь обязан в ней разобраться.
Любопытны практические выводы, которыми Лакан завершает свой текст: как и Клерамбо, он предстает типичным представителем карающей психиатрии. «Всякий бредящий параноик должен быть интернирован»[61]; его протесты должны быть доведены до сведения властей; его следует по возможности изолировать от всех лиц, не способных здраво оценить его психическое состояние; предоставить военным и гражданским судам возможность наказывать этих больных на ранних стадиях заболевания, при необходимости обращаясь к помощи психиатров. «В настоящее время средства защиты общества от подобных субъектов недостаточны»[62].
В этой работе Лакан во многом повторяет идеи своего наставника Клерамбо; его новшество состоит в том, что он заменил понятие синдрома психического автоматизма автоматизмом структуры бреда и включил чувственный бред в рубрику паранойи. Однако, хотя Лакан постоянно упоминает в тексте своего учителя, вечно подозрительный Клерамбо, убежденный, что все вокруг крадут его мысли, ворвался на заседание Медико-психологического общества и запустил в лицо Лакану экземпляр его статьи с дарственной надписью, во всеуслышание обвинив его в плагиате. Лакан, в свою очередь, обвинил в плагиате Клерамбо. Впоследствии ему пришлось работать под покровительством Клода.
Вскоре Лакан двинулся иным путем. Совместно с двумя учениками Клода, П. Миго и Ж. Леви-Валенси, на заседании Медико-психологического общества он представил случай некой Марсель, тридцатичетырехлетней учительницы-эротоманки[63]. Марсель считала себя новой Жанной д’Арк, призванной возродить Францию и вывести ее на высший уровень цивилизованности. Клерамбо осматривал эту женщину в своем отделении, сделал заключение о том, что она страдает паранойей, и отметил психический автоматизм. Когда Марсель поместили в госпиталь св. Анны, она потребовала от французского правительства компенсацию размером в двадцать миллионов франков – двенадцать за интеллектуальный ущерб и восемь за сексуальную фрустрацию. При этом она написала огромное количество писем президенту и префектам. Лакан, разбирая этот случай, реализовал свое намерение заняться филологическим анализом текстов параноиков (не отказываясь при этом от понятия «психический автоматизм»). Шизофазия (термин, предложенный в 1913 г. Крепелином), заявил он, в некоторых случаях может проявляться только в письменных текстах (так оно и было в случае Марсель). В письмах больной он вместе со своими соавторами выявил вербальные, номинальные, грамматические и синтаксические нарушения, признав вместе с тем большую поэтическую ценность текстов. Исследователи, сравнив «нормальные» и «сюрреалистические» тексты больной (первые она легко писала по просьбе врачей, а вторые – в состоянии автоматизма), пришли к выводу, что феномен автоматизма призван восполнить бедность «нормальной» мысли. Лакан и его сотрудники не говорят о «параноической конституции» и не высказывают каких-либо репрессивных суждений об опасности больной или о необходимости ее изоляции. Вместо этого они демонстрируют сходство синдрома психического автоматизма с сюрреалистическим опытом автоматического письма, предлагая новый термин для обозначения феномена «инспирированного» письма: шизография.
Лакан и его коллеги Миго и Леви-Валанси пытались совместить два враждующих течения в психиатрии того времени, соединив представление о конституции, играющей определяющую роль в развитии психоза, с представлением о безумии как о нарушении речевых актов. Такая попытка усидеть между двух стульев, по-видимому, отражала круг чтения Лакана: не отказываясь от Клерамбо, он обратился к только вышедшей книге «Язык и мышление» А. Делакруа[64], живо интересовавшегося языковыми проблемами и опиравшегося на «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра, который четверть века спустя станет библией Лакана[65].
Итак, во взглядах Лакана произошел перелом. Как пишет Э. Рудинеско, «он хочет быть одновременно теоретиком параноической структуры, доктринальным наследником Клерамбо и ревностным служителем современности…»[66] В это время он стал посещать собрания группы сюрреалистов, познакомился с А. Бретоном и запоем читал сочинения Пишона. Тогда же завязалась его дружба с Р. Кревелем. Кроме того, он читал все, что было написано немецкими психиатрами о психозах. В особенности увлекли его книги Крепелина и Э. Кречмера. Однако этим его интересы не ограничиваются: со своими товарищами Анри Эйем, Анри Элленбергером и Пьером Малем он много дискутирует о психоанализе, о русской революции, о В. И. Ленине, в котором он видит новый облик гегельянства, и о литературных течениях.
Элленбергер вспоминал:
Я держался от него на расстоянии. Я встречался с ним в приемном покое, где он шумел так же, как и остальные, хотя его шуточки порой бывали довольно плоскими. Насмешки были едкими и утомительными. Он культивировал что-то вроде аристократического высокомерия. Он владел искусством говорить о больных зло и очень метко. Помню одно такое суждение: «Он пользуется уважением консьержки». Вот так. Жак Лакан был очаровательным человеком[67].
В общей столовой Лакан присоединялся к кружку таких же «аристократов». Анри Эй был главой этого кружка, а Поля Сивадона выбрали казначеем, собиравшим деньги на общие трапезы. От Лакана он никогда не получил ни гроша. А мывший в приемном покое полы больной, с которым расплачивались сигаретами, часто не мог добиться от него положенного вознаграждения.
В ноябре 1931 г. Лакан и Эй представили два случая паркинсонизма[68], на основании которых утверждали, что, вопреки распространенному в то время убеждению, синдром Паркинсона может выражаться не только в двигательных расстройствах, но и в поражении интеллектуальной и эмотивной сфер. Это открытие тогда прошло незамеченным.
В это время Лакан увлекся идеями Фрейда. Он перевел для «Французского журнала психоанализа» статью венского мудреца «Невротические механизмы ревности, паранойи и гомосексуальности»[69]. Хота Лакан и не говорил по-немецки, читал он на этом языке хорошо, и его перевод высоко оценили специалисты. При этом он применил терминологию, принятую среди французских аналитиков: так, Trieb (импульс) он передал как instinct, Trauer (скорбь) – как tristesse (уныние), Regung (побуждение) – как tendance. Лакан обязался перевести для того же издания главу из книги О. Фенихеля о шизофрении, но так никогда и не сделал этого.
Лакан занимал небольшую квартиру в госпитале св. Анны, темноватую и с дешевой мебелью, зато располагавшуюся в двух шагах от Булонского леса. На конвертах писем он, впрочем, указывал адрес своих родителей, живших в Булони. Его любовницей была Мария-Тереза Бержеро, вдова, старше него на пятнадцать лет. Вместе с ней он читал диалоги Платона, а в 1928 г. предпринял поездку в Марокко, главной целью которой было изучение некрополей Саадинской династии. В эти годы Лакан подружился с философом Пьером Дрие Ла Рошелем, таким же «денди», как и он сам. Ла Рошель только что развелся со своей второй женой, Олесей Сенкевич, и предоставил Лакану свою квартиру на острове Сен-Луи, чтобы тот мог спокойно работать над диссертацией. Лакан немедленно влюбился в Олесю и объяснял свои чувства Ла Рошелю в длинных маловразумительных письмах[70]. Последнего эта ситуация весьма устраивала, поскольку он после нескольких месяцев семейной идиллии, во время которых Олеся самоотверженно перепечатывала его рукописи, увлекся другой женщиной и чувствовал себя виноватым. Олеся часто ночевала у Лакана в госпитале, даже в те времена, когда он еще не разорвал отношения с Марией-Терезой. Вдвоем они совершали путешествия по Испании, Корсике и Нормандии. Несколько раз в неделю Лакан поднимался в мансарду на улице Гарансье, где жила его подруга, и приносил рукописи, написанные в холостяцкой квартире, чтобы Олеся перепечатала их на машинке.
Прочитав текст Сальвадора Дали «Гнилой осел», Лакан договорился о встрече с художником. Когда он приехал к знаменитому эксцентрику, тот встретил его с пластырем на носу, явно желая поразить. Однако Лакан не выразил никакого удивления и сразу заговорил о том, что эпоха автоматического письма закончилась и, судя по тексту, Дали принес в сюрреализм новое веяние – паранойю-критику (paranoa-critique), которая наносит реальности последний удар. Согласно Дали, паранойя представляет собой бредовую интерпретацию реальности, но отличается от галлюцинации тем, что опирается на последовательно критический метод. Иными словами, параноический феномен носит псевдогаллюцинаторный характер; Дали иллюстрирует это положение своими картинами, в которых изображение может распознаваться двояко[71]. Двойные изображения Дали опровергают общепринятую психиатрическую концепцию, согласно которой параноик совершает ошибку суждения, следствием которой является бред интерпретации. Более того, они показывают ложность утверждения о том, что параноик безумен, т.е. лишен разума. Напротив, паранойя в этом свете оказывается творческим актом, конституирующим субъективность.
В это время сам Лакан пытался произвести синтез идей сюрреализма с учением Фрейда и синдромом автоматизма, описанным Клерамбо, что отразилось в названии его диссертации: «О параноическом психозе в его отношении к личности»[72]. Паранойя у Лакана «структурная», а не «конститутивная» или «врожденная», она захватывает субъекта в целом, не имея для себя органической причины. Для выявления связности этой структуры необходимо феноменологически выявить все характерные элементы психогении (psychognie) личности (этот термин Лакан использует в противовес общепринятому понятию психогенеза (psychogense), чтобы подчеркнуть, что этиология психоза проявляется в зависимости от «феноменологических механизмов», т.е. от конкретной истории субъекта). Таким образом, Лакан выступает как против учения о «конститутивной природе», так и против концепции «патогенного ядра» болезни. Он делает выбор в пользу «конкретной психологии», которая позволяет анализировать личность как целостного субъекта, сопоставляя личные переживания с социальными явлениями. При этом он утверждает, что только фрейдовский психоанализ может предложить техники для изучения субъекта. Такая позиция не позволяет Лакану связать учение Клерамбо о психическом автоматизме с фрейдовским представлением о структурах бессознательного; чтобы говорить о психогении, необходимо отказаться от всякого конституционализма в пользу динамизма. (При этом Лакан не пытался внедрить психоанализ в психиатрическую практику, как делали французские аналитики-клиницисты первого поколения, он лишь стремился ввести примат бессознательного в клинические исследования.) Лишь в середине 1950-х гг. Лакан признает структурную ценность теории Клерамбо.
А пока, в 1932 г., Лакан отказался от «автоматизма» заодно с «конституцией». В своей диссертации он благоразумно воздержался от упоминания имени Дали и сослался на Клерамбо, говоря о методах наблюдения больных и об описании эротомании. Как выражается Э. Рудинеско, «широко пользуясь психоаналитическим методом, он никогда не отдавал предпочтения уху в ущерб глазу: скорее, он интегрировал выслушивание субъекта в наблюдение за личностью»[73]. Лакан предложил революционное для своего времени описание безумия: его диссертация представляет собой стопятидесятистраничный роман, написанный флоберовским языком.
Диссертация посвящена случаю некой Маргариты Пантэн, которую Лакан называет Эме, покушавшейся на убийство известной актрисы. Ее поместили в госпиталь св. Анны с диагнозом «мания преследования на основе интерпретации с тенденцией к мегаломании и субстратом эротомании». Лакан изучал этот случай в течение нескольких месяцев и даже перечитал любимые книги пациентки, чтобы выяснить, с какими романтическими фигурами та себя идентифицировала. Его друг Г. де Тард, сын известного социолога, проделал графологическую экспертизу рукописей Маргариты и отметил артистизм, культурность и инфантильность, не обнаружив признаков психоза.
Маргарита Пантэн была не первой дочерью в своей крестьянской семье, носившей это имя. Первая Маргарита в пятилетнем возрасте заживо сгорела на глазах у родни, и вторая Маргарита, родившаяся через два года после трагедии, должна была заменить первую, почему и получила это имя. Ее сын, о котором у нас еще пойдет речь, говорил, что эта женщина всю жизнь пыталась избежать адского пламени. Мать Маргариты, Жанна Донадье, страдала манией преследования в легкой форме, и хранительницей домашнего очага стала ее старшая дочь, Элиза. В четырнадцатилетнем возрасте она оставила деревню и перебралась к своему дяде, державшему бакалею в близлежащем городке, а через пять лет стала его супругой. Родители стремились дать Маргарите приличное образование и хотели, чтобы она стала учительницей. В 1910 г., восемнадцати лет от роду, Маргарита поселилась у старшей сестры. Свое образование она забросила, поступив на службу в почтовое отделение. Вскоре ее соблазнил местный повеса; он отказался жениться на ней, однако еще три года Маргарита вела с ним тайную переписку, а ее любовь постепенно превращалась в ненависть.
Переселившись в Мелюн, Маргарита снова влюбилась, на этот раз – в работницу своего почтового отделения, женщину из обедневшей дворянской семьи, часто рассказывавшую ей о знаменитых актрисах Южет Дюфло и Саре Бернар, с которыми она была немного знакома. Под влиянием таких разговоров Маргарита стала мечтать о высшем обществе и презирала своих коллег. Тем не менее она вышла замуж за инспектора почтовой службы Рене Анзье, сына булочника. Семья Маргариты отговаривала ее от этого шага: Рене был человеком спортивным, уравновешенным и прагматичным, тогда как Маргарита много читала и была склонна к мечтательности. Однако, несмотря на уговоры родителей, брак состоялся. Проблемы начались очень быстро: Рене раздражала манера супруги проводить все свободное время за книгами, а та упрекала его в безразличии к ней. Кроме того, она выказала холодность в супружеских отношениях. Четыре года спустя Маргарита вернулась к старшей сестре, с которой уживалась с большим трудом. К тому же она была беременна.
В это время быстро развивается психическая патология Маргариты: ей кажется, что все вокруг клевещут на нее, прохожие на улице шепотом обсуждают ее, а в газетах она обнаруживает оскорбительные выпады в свой адрес. По ночам ее стали преследовать кошмары. В марте 1922 г. она родила мертвую девочку. Когда ей позвонила подруга-«аристократка», Маргарита обвинила ее в своих несчастьях. Она замкнулась в себе и перестала ходить в церковь. В июле 1923 г. она родила мальчика, которого назвали Дидье. Маргарита была уверена: как сама она родилась, чтобы заменить умершую сестру, так и ее сын стал заменой своей мертворожденной сестры. Ее патология прогрессировала: у нее появился беспричинный смех и потребность постоянно мыть руки, избегая нечистоты. Все ее помыслы сосредоточились на ребенке, которого она опекала с маниакальной страстью.
В эти годы Маргарита решила перебраться в Америку, отыскать в Новом Свете богатство и стать романисткой. Она даже выправила себе паспорт на чужое имя. Однако до отъезда дело не дошло: Маргариту поместили в клинику с диагнозом «слабоумие, галлюцинации и мания преследования». Через шесть месяцев ее освободили и она вернулась к заботам о ребенке и к обвинениям окружающих в преследовании. В августе 1925 г. она уехала в Париж, чтобы отомстить тем, кто, как она полагала, желал погубить ее сына. Она стала вести двойную жизнь: днем она работала в почтовом отделении, а по вечерам брала частные уроки, ходила в библиотеки или сидела в элгантных кафе. Ей не удалось сдать ни одного экзамена в системе высшего образования, и в этих неудачах она обвинила актрису Южет Дюфло, «завистницу» из Комеди Франсез. Ее раздражали хвалебные отзывы об актрисе в газетах. Чтобы убедиться в ее бездарности, Маргарита ходила смотреть спектакли и фильмы с ее участием. Двумя другими «завистницами» были Сара Бернар и Колет. Саре Бернар повезло: она умерла в 1923 г., поэтому отомстить ей не представлялось возможным. Колет особенно раздражала Маргариту, поскольку вела тот свободный образ жизни, о котором долгие годы мечтала женщина из крестьянской семьи. В газетах по-прежнему публиковали грязные намеки на частную жизнь Маргариты. Кроме того, анархисты, с которыми был связан сын Альфонса Доде, Филипп, замыслили убить Дидье. Она подкараулила на пороге книжного магазина Пьера Бенуа и обвинила его в том, что тот бесстыдно выставляет на обозрение ее жизнь, сговорившись с Дюфло. Она подала жалобу в комиссариат своего квартала, требуя привлечь к ответственности Пьера Бенуа и издательство «Flammarion». Маргарита писала в газеты статьи, в которых выступала против большевизма, войны, нищеты и коррупции, а кроме того, требовала защитить принца Уэльского от заговоров. Несмотря на свой антибольшевизм, на страницах коммунистической газеты она нападала на Колет. Она останавливала на улице случайный прохожих и рассказывала им экстравагантные истории. Она встречалась в гостиничных номерах с какими-то темными личностями, от которых ей удавалось убежать в последний момент. Каждый день она ездила в Мелюн, чтобы посмотреть, как обращаются с ее сыном.
В августе 1930 г. она написала сразу два романа, посвященных принцу Уэльскому. Первый, названный «Le Dtracteur», представлял собой руссоистское восхваление прелестей деревенской жизни. Героем романа был молодой крестьянин по имени Давид, влюбленный в некую Эме, прекрасно разбирающуюся в сельском хозяйстве. Эме умирает, погубленная заговорами некой таинственной парочки из города. Второй роман, «Sauf votre respect», основывался на той же истории, только героиня не умирала, а, спрятав кинжал под плащом, отправлялась завоевывать Париж. Действуя в темных и мрачных переулках этого инфернального города, населенного коммунистами, она боролась за реставрацию монархии, а в конце возвращалась к идиллической жизни в деревне. В сентябре Маргарита предложила свои сочинения для публикации в издательство «Flammarion». Она получила отказ и долго и безрезультатно требовала назвать ей имя рецензента. Она замыслила месть и просила у хозяина квартиры револьвер, чтобы «попугать этих людей». Кроме того, она вновь прибегла к покровительству принца Уэльского, выслав ему оба романа (посылка вернулась из Букингемского дворца с формальной отпиской секретаря). В марте 1931 г. она купила охотничий нож, а 18 апреля 1931 г. подкараулила у артистического выхода Южет Дюфло и попыталась убить ее. Актриса, не растерявшись, перехватила лезвие, сильно порезав руку, и позвала на помощь. Маргариту отправили в комиссариат, а оттуда препроводили в полицейскую санчасть, где она находилась в течение двадцати дней в состоянии острого бреда. В июне ее перевели в госпиталь св. Анны, где ею занялся Лакан.
Лакан впервые увидел Эме 18 июня 1931 г. и в течение следующего года наблюдал ее каждый день, не делая никаких перерывов. Он отобрал у Маргариты ее сочинения, фотографии и письма, которые так никогда и не вернул. Она вполне справедливо упрекала молодого врача в том, что тот забрал всю ее жизнь, превратив саму ее в объект психиатрического знания. Отношения, сложившиеся между ними, можно однозначно охарактеризовать как отчужденность. Действительно, высокомерного Лакана несчастная женщина интересовала лишь как материал для диссертации.
Вместо описания симптомов Лакан попытался выявить значение бессознательных влечений в формировании паранойи. Восстановив семейную жизнь пациентки, он установил, что та испытывает влечение к знаменитым женщинам, которые представляют ее идеал Я (idal du moi). При этом она влюблена в принца Уэльского, которому посылает свои сочинения. Ее бред имеет «далианский» или «лаканианский» характер, представляя собой интер-претативную деятельность бессознательного. Возможно, она и безумна, однако ее бред вполне логичен. Лакан различает паранойю притязания и паранойю самобичевания, которые определяются не чувственными механизмами эротомании, но остановкой эволюции личности на стадии идеала Я. Иными словами, больная превратила свой бред притязания в бред самобичевания из-за интерпретации собственных действий. И покушаясь на актрису, она покушалась на самоубийство. Лакан отступил от своего учителя Клерамбо и еще в одном отношении: если прежде он, вслед за Клерамбо, выступал сторонником репрессивной психиатрии, то теперь он критиковал жесткие меры в отношении параноиков. Не желая портить отношения ни с психиатрическим миром, ни с ортодоксальными фрейдистами, он умолчал о главном влиянии на свою работу – влиянии сюрреалистов. В тексте не упоминались ни Бретон, ни Элюар, ни Дали. Вскоре мы увидим, что его расчет не оправдался: его не примут ни психиатры старой закалки, ни фрейдисты-ортодоксы, тогда как сюрреалисты будут его всячески превозносить. Как сказал П. Рикер, «философ может находиться среди психиатров и психоаналитиков только при том условии, если он сомневается в претензии сознания познать самое себя»[74]. Такое сомнение у Лакана уже вызрело.
Лакан творчески переработал реальный случай Маргариты Пантэн, не обращая внимания на те факты, которые не укладывались в его гипотезу. В его диссертации больная фигурирует под именем Эме, которое Лакан заимствовал из романов Маргариты, а от имен всех остальных персонажей и топографических названий, фигурировавших в этой истории, оставил только инициалы. Он превратил пациентку в служащую железной дороги и настолько изменил ход событий, что теперь уже невозможно выяснить, какие из них происходили на самом деле, а какие диссертант подредактировал. Э. Рудинеско замечает даже, что «ничто не доказывает… что эта паранойя была сконструирована и организована так, как утверждал Лакан. И тем не менее именно ему удастся навязать потомкам историю случая, ставшую более истинной, чем судьба этой женщины…»[75]
В своей диссертации Лакан оперирует пятью основными понятиями: личность (personnalit), психогения (psychognie), процесс (processus), дискордантность (discordance), параллелизм (paralllisme). Значительное влияние на него оказала вышедшая в 1928 г. книга Ж. Политцера «Критика оснований психологии». Термин «personnalit» он заимствовал у Р. Фернандеза, впрочем, используя его по-своему. Термин «психогения» пришел из статьи А. Эйя о психическом автоматизме: как мы уже говорили, старое понятие «психогенез» отсылало к конституционализму и органогенезу, а Лакану требовалось подчеркнуть опору на динамическую психиатрию. «Психогенический» симптом, по Лакану, должен удовлетворять трем условиям: во-первых, каузальное событие должно вписываться в личную историю субъекта, во-вторых, симптом должен отражать конкретный момент истории субъекта, в-третьих, следует иметь в виду вносимые лечением изменения. Не отказываясь от мысли об органической каузальности, Лакан настаивает на том, что таковая располагается за пределами психогении.
От Клерамбо Лакан отошел в сторону Э. Минковски, благодаря которому французские психиатры познакомились с феноменологией Э. Гуссерля и экзистенциальной психиатрией Л. Бинсвангера. Однако терминологии Минковски Лакан предпочел терминологию К. Ясперса, «Общая психопатология» которого была переведена на французский язык в 1928 г. (в подготовке текста к изданию участвовали П. Низан и Ж.-П. Сартр).
У Ясперса Лакан нашел отказ от психосоматического параллелизма, остававшегося в те годы довлеющей доктриной, от догматического положения о том, что психическое расстройство есть расстройство мозговое. «Наша задача, – писал Ясперс, – состоит не в том, чтобы, имитируя неврологию, построить систему с постоянными ссылками на головной мозг (все такие системы сомнительны и поверхностны), в том, чтобы выработать устойчивую позицию, которая позволила бы исследовать разнообразные проблемы, понятия и взаимосвязи в рамках самих психопатологических явлений»[76]. Но еще важнее те фундаментальные установки психопатологического исследования, которые станут для Лакана определяющими: «Во-первых, душа означает сознание, но в той же мере (а с некоторых точек зрения – прежде всего) она означает бессознательное. Во-вторых, душа должна рассматриваться не как объект с устойчивыми свойствами, а как “бытие в собственном мире”, как целое, охватывающее внутренний мир и окружающий мир. В-третьих, душа – это становление, развертывание, различение; в ней нет ничего окончательного и завершенного»[77]. На эти положения Лакан опирается в своей диссертации, да и во всем своем последующем творчестве.
В случае Маргариты-Эме Лакан усмотрел три действующие причины: собственно действующую причину (cause effi ciente) – конфликт с сестрой; окказиональную причину (cause occasionnelle) – изменения в организации субъекта; специфическую причину (cause spcifi que) – конкретная реактивная тенденция, в случае Эме выразившаяся в самобичевании. Психоз, по Лакану, проистекает не из одной-единственной причины, но из многих, формирующих личную историю субъекта. Это позволило Лакану говорить об «историческом материализме» своего подхода.
На первой странице своей диссертации Лакан поместил эпиграф из «Этики» Спинозы (III, 57): «Quilibet unius cujusque individui affectus ab affectu alterius tantum discrepat. quantum essentia unius ab essentiel alterius differt» – «Какой бы то ни было аффект всякого индивидуума отличается от аффекта другого настолько, насколько сущность одного отличается от сущности другого»[78]. В конце диссертации он снова обращается к этому положению, чтобы прокомментировать его. Спинозизм представлялся молодому Лакану единственным учением, делающим возможным изучение психической личности. У Спинозы он нашел концепцию параллелизма, которую можно было противопоставить параллелизму И. Тэна и учению о наследственной дегенерации. «Порядок и связь идей – те же, что и порядок и связь вещей», – пишет Спиноза во второй части своего гениального труда и доказывает это следующим образом: «Ибо идея того, что произведено какой-либо причиной, зависит от познания той причины, действие которой она составляет»[79]. Опираясь на текст Спинозы, Лакан утверждал, что параллелизм существует не между телом и соматическими процессами, но между умственным (mental) и психическим (psychique). Таким образом, он выступил против общепринятого в современной ему психиатрии психофизического параллелизма, утверждавшего существование определенных связей между физическими явлениями и психическими фактами и рассматривавшего личность с точки зрения психического автоматизма. По Лакану, личность формируется не благодаря психофизическому параллелизму, но при взаимодействии индивида с окружающей его средой[80]. Таким образом, молодой психиатр не просто заимствовал понятия у Спинозы, но придавал им новое значение.
Термин «дискордантность» (discordance) сделал популярным алиенист Ф. Шаслен, обозначивший этим словом симптомы, представлявшиеся независимыми друг от друга, но объединившиеся в общей картине психического расстройства; к «дискордантным» расстройствам он относил гебефрению, паранойю и вербальную дискордантность. Фактически этот термин был переводом принятых в немецкой психиатрии понятий «шизо» и «диссоциация». Именно они легли в основу учения о шизофрении, выдвинутого Блейлером в 1911 г. Фрейд также пользовался этой терминологией, но чаще прибегал к терминам Spaltung («расщепление») и Ichspaltung («расщепление Я»), сыгравшим определяющую роль в создании «второй топики». История идеи, конечно, гораздо длиннее: уже в литературе XIX в. обсуждалась проблема существования двух психических личностей индивида, действующих самостоятельно и не знающих друг друга. Лакан перевел термином «discordance» латинский глагол «discrepat», которым пользовался Спиноза (III, 57), отказавшись от «action» принятого в то время французского перевода Ш. Апю. Термин «дискордантность» устраивал Лакана, поскольку позволял подчеркнуть, что решающие для патологии конфликты и психотические реакции дисгармонируют с отношениями понимания, определяющими концептуальные структуры нормальной личности. Это положение носило потенциально революционный характер: исходя из него, можно было произвести пересмотр понятий «норма» и «патология».
Конечно, никакой революции Лакан своей диссертацией не произвел. Он по-прежнему занимал репрессивную позицию, унаследованную от Клерамбо, и, наряду с похвалами в адрес психоаналитического метода исследования, выступал за практику интернирования психотических пациентов. Несмотря на свое увлечение немецкой психиатрией, он не желал отрываться от французской традиции. Эта двойственность сделала его первым врачом, сочетавшим идеи динамической психиатрии и психоанализа. Вместе с тем,фрейдистскую терминологию он использовал очень осторожно, так что психиатры не могли обвинить его в отступничестве: «Терапевтическая проблема психозов, как нам представляется, делает более необходимым психоанализ собственного Я (moi), нежели психоанализ бессознательного; иными словами, технические решения следует искать в изучении сопротивлений субъекта и в новом опыте оперирования (manuvre) с ними»[81].
Французские психоаналитики в те годы выработали две интерпретации «второй топики» Фрейда: первая настаивала на примате бессознательного, а вторая настаивала на преимущественном значении Я. Лакан, таким образом, уже тогда склонялся ко второму. В случае Эме он не мог применить психоанализ по двум причинам: во-первых, сам он окажется на кушетке Левенштейна только через год, а во-вторых, пациентка отказалась от его предложения пройти анализ. Сорок лет спустя Лакан говорил, что в те годы еще не был знаком с учением Фрейда и пользовался им интуитивно. По-видимому, он преувеличивал: к 1932 г. он уже приобрел основательные знания о модном венском учении. Прохождение дидактического анализа для него совпало с клиническим опытом психоза; должно быть, именно поэтому он на всю жизнь сохранил интерес к женской паранойе.
7 сентября 1932 г. диссертация была готова, и Олеся Сенкевич перепечатала ее начисто. Лакан отнес машинопись издателю, специализировавшемуся на медицинской литературе. Мария-Тереза, состоятельная вдова, финансировала издание монографии. На первой странице было помещено посвящение ей на древнегреческом: «Я не стал бы тем, кем я стал, без ее помощи», причем вместо имени этой достойной дамы обозначены только инициалы: M.-T. B. Защита диссертации состоялась в ноябре на медицинском факультете. Жюри возглавлял покровитель Лакана Анри Клод. В зале сидело около восьмидесяти человек, в том числе Олеся и Мария-Тереза, которые делали вид, что не замечают друг друга. Маргариты Пантэн не было. Защита прошла гладко, и Лакан получил искомую степень доктора медицины, хотя впоследствии сам он отзывался об этой процедуре неприязненно, называя ее пустой тратой времени.
Сразу после публикации текста диссертации в виде монографии Лакан сделался знаменитостью. Молодые психиатры и писатели заметили появление нового направления в знании о человеке и нового лидера раньше, чем психоаналитики, которые на выход книги никак не откликнулись. А. Эй написал хвалебную статью для журнала «Encphale», ознакомившись с диссертацией в рукописи и не дожидаясь книжного издания. Ж. Бернье, близкий друг Ла Рошеля, увидел в книге молодого ученого марксистскую концепцию психической деятельности и основание «реалистического гуманизма», отметив, впрочем, в порядке критики, что автор пренебрегает анализом патогенного характера буржуазного общества[82]. П. Низан также писал о материалистическом храктере лакановской гипотезы, близости психиатра к диалектическому материализму и борьбе с идеализмом, тормозящим развитие психологии и психиатрии[83]. Поэт Рене Кревель в «Сюрреализме на службе революции» также отметил материалистический характер лакановского труда, посвятив несколько строк незаслуженно забытой Маргарите Пантэн[84]. С. Дали в первом выпуске «Минотавра» заявил, что Лакан впервые выступил против засилья убогого механицизма в психиатрии. В общем, в диссертации Лакана увидели что-то вроде ленинизма в конкретном приложении к области психиатрии. Сам Лакан оценивал свою работу скромнее: «Оригинальность нашей работы, то есть ее новизна, по крайней мере для Франции, заключается в попытке дать исчерпывающую интерпретацию психических феноменов типичного бреда как функции от конкретной истории субъекта…»[85]
Лакан послал экземпляр своего текста Фрейду и в ответ получил открытку с лаконичной благодарностью: «Спасибо за высылку вашей диссертации». Эту открытку он хранил много лет, а потом отдал на хранение одному из пациентов. После смерти Лакана тот же пациент, оказавшись на кушетке у одного из учеников Лакана, вспомнил об этом документе. Текст был опубликован в журнале «Ornicar?».
История Эме имела несколько фантастическое продолжение. Эме была помещена в госпиталь св. Анны, вскоре в ее состоянии произошло улучшение. В 1941 г. вишистское правительство пришло к выводу, что в тяжелых военных условиях оно не может позволить себе роскошь содержать душевнобольных. Вместе с сотнями других пациентов Эме, занимавшая в то время должность помощника библиотекаря, оказалась на улице. После Освобождения Эме устроилась работать кухаркой в некую буржуазную семью, жившую в Булони. Владельца дома звали Альфред Лакан, его супруга Эмиль умерла в 1948 г. Она по-прежнему много писала и периодически переживала острые приступы мистицизма, однако больше ни на кого не покушалась. Однажды сын владельца дома, Жак, заехал навестить отца и к своему удивлению увидел Эме, которая немедленно потребовала вернуть ее рукописи. Рукописи он не вернул, однако и отцу ничего не сказал.
Сын Эме, Дидье Анзье, учился в Эколь Нормаль, а в 1948 г. стал преподавателем философии. Воспоминания о матери обусловили его интерес к психологии, и в 1952 г. он прошел курс психоанализа у Лакана. О том, что Лакан лечил его мать и написал диссертацию, основываясь на ее случае, Анзье узнал позже. Сам Лакан признался ему, что понял, что он сын той самой Эме, в процессе анализа, но не стал об этом распространяться. В конце 1960-х гг. Анзье приобрел известность как терапевт и возглавил отделение психологии в университете Нантера.
ГЛАВА 3
НОВЫЙ МЕССИЯ
Соблазну возвысить теорию до уровня новой веры и превратить научную школу в некое подобие религиозной секты поддаются не столько психиатры, сколько психотерапевты.
К. Ясперс. Общая психопатология
В начале 1930-х гг. французские психоаналитики напряженно ожидали прихода какого-нибудь лидера, который стал бы духовным наставником для второго поколения и сплотил первое. Вена была далеко и, хотя все видные представители первого поколения французских аналитиков побывали на кушетке либо у самого Фрейда, либо у кого-то из его ближайших учеников, здесь, во Франции, чувствовалась настоятельная потребность в своем мэтре. Литераторы и художники, живо интересовавшиеся психоанализом, но не входящие в Парижское психоаналитическое общество, осенью 1932 г. узрели такого Мессию. Его звали Жак Лакан. Психоаналитическое общество пока не могло разглядеть его и прочило на эту роль возлюбленного М. Бонапарт Левенштейна.
Как раз в это время два кандидата на роль мессии сошлись вместе: один возлежал на кушетке, а другой сидел в кресле у ее изголовья. По всей вероятности, Лакан начал проходить психоанализ у Левенштейна летом 1932 г., через несколько месяцев после публикации своей диссертации о паранойе. Эта инициация была совершенно необходима для того, чтобы вступить в Психоаналитическое общество, однако Лакан, как мы уже знаем, познакомился с модным венским учением вовсе не на кушетке. К психоанализу он пришел совсем другим путем и принес с собой огромный культурный багаж. У Спинозы он учился философии, у Клерамбо – методу наблюдения больных, у Э. Пишона – теоретической концептуализации, у Кревеля и Дали – сюрреалистическому опыту обращения с языком, у А. Эйя – искусству речи. Наконец, от А. Валлона он воспринял учение о «стадии зеркала», а от А. Кожева – гегельянскую спекуляцию[86]. Где-то в этом разнородном богатстве нашлось местечко и для Фрейда. Для Левенштейна здесь места не было. Католическая культура Лакана была совершенно отлична от еврейской культуры Фрейда и Левенштейна. По-видимому, с этим связана и победа Лакана в этом соревновании: место психоаналитического Мессии во Франции мог занять лишь нееврей, атеист, воспитанный в католической культуре.
Левенштейн, по-видимому, и сам понимал, что Лакан – его соперник, а не ученик. Он признавал за своим анализантом мощный интеллект, но был по существу несогласен с его идеями. Анализ проводился согласно всем нормам Международной психоаналитической ассоциации, однако Лакан не только оказался неанализабельным, но и немедленно стал оказывать теоретическое сопротивление. Для Левенштейна психоанализ был прежде всего медицинским методом лечения; Лакан видел в нем интеллектуальное приключение. Кроме того, Левенштейн был, возможно, не самым лучшим аналитиком: Лагаш, проходивший анализ у Левенштейна в те же годы, жаловался на высокомерие аналитика, подозревал, что он засыпает во время сеанса, и заметил, что, пока пациент занимается самоанализом, Левенштейн читает детективные романы. Лакан испытывал симпатию к Левенштейну, восхищался П. Шиффом, Лафоргом и Одье, терпимо относился к С. Нашту и Д. Лагашу. Однако «Психиатрическая эволюция», которую к тому времени возглавил А. Эй, была ему ближе, чем Психоаналитическое общество. М. Бонапарт сразу увидела, что Лакан претендует на роль лидера французского психоанализа. Однако этот последний вовсе не был ортодоксальным фрейдистом.
Все обстоятельства жизни резко отличали Лакана от подавляющего большинства психоаналитиков той поры – евреев из Восточной Европы, познавших все тяготы угнетения и притеснений, людей без родины, но с психическими проблемами. По отношению к авторитетам первого поколения французских аналитиков Лакан не выказывал никакого уважения и их работами не интересовался. Впрочем, ничего самостоятельного они и не писали. Лакан привык к свободе во всех отношениях, а его страдания были чисто буржуазными: повседневный невроз и пылкое стремление покорить мир. Левенштейн сразу понял, что этот человек пришел вовсе не лечиться, а просто пройти обязательную скучную процедуру, без которой невозможна психоаналитическая практика.
Э. Рудинеско выдвигает весьма любопытную гипотезу, которую никак нельзя обойти стороной: Лакан, говорит она, прошел анализ вовсе не на кушетке Левенштейна, а в госпитале св. Анны, изучая случай той самой Эме, о которой он писал в своей диссертации. Благодаря Эме он ушел от учения Клерамбо и сформировался как теоретик психиатрии и психоаналитик. Если для Лакана Клерамбо был тем же, чем Шарко был для Фрейда, то Эме была для него тем же, чем для Фрейда был Флисс. Как пациентка Эме сопоставима и с Анной О., и со Шребером. Она позволила Лакану проделать спонтанный самоанализ.
Так или иначе, в теоретическом отношении Лакан не стал учеником Левенштейна, хотя долгое время терпел почти бесконечный анализ. В 1938 г., когда Левенштейн на заседании Психоаналитического общества делал доклад об инстинкте смерти у Фрейда, Лакан заявил, что в своем учении Фрейд не опирается на факты, но выступает как спекулятивный мыслитель; никакого биологизма у Фрейда нет, согласно его гипотезе, человек отличается от животных тем, что имеет суперэго, а потому способен на самоубийство. Левенштейн раздраженно отвечал, что Лакан напрасно выступает против биологизма, без которого понять учение Фрейда невозможно. Намечался конфликт с ортодоксальными аналитиками: во-первых, Одье уже упрекал его в том, что он предпочитает теорию клиническому исследованию. Во-вторых, уже во время анализа у Левенштейна Лакан начал бунтовать против жестких рамок психоаналитического сеанса, самовольно прерывая его до истечения положенных пятидесяти минут. С точки зрения технократов из Международной психоаналитической ассоциации, сокращать анализ – значит вовсе не проводить анализ. В будущем у Лакана выйдут крупные неприятности именно на этой почве. Сам Левенштейн придерживался на сей счет ортодоксальных взглядов; на III Конференции французских психоаналитиков в 1928 г. он настаивал на том, что сроки сеанса должны строго соблюдаться и что анализант во время прохождения анализа не должен читать трудов по психоанализу. Неудивительно, что Лакан сбежал от него при первой же возможности, пообещав как-нибудь вернуться. В доверительных разговорах с друзьями он говорил, что Левенштейн недостаточно умен, чтобы анализировать его.
Если при написании диссертации Лакан ориентировался на философию Гуссерля и Ясперса, а также на любимого им Спинозу, то теперь он обратился к новым «властителям дум» – Гегелю, Марксу и Фрейду. Принятые во французских университетах картезианство, неокантианство и бергсоновский спиритуализм совершенно не устраивали его. Как и многие молодые интеллектуалы тех лет, он обратился к немецкой философии. Четыре года спустя благодаря Кожеву и Койре он познакомится с гегелевской «Феноменологией духа» и с только что вышедшей книгой Хайдеггера «Бытие и время». Пока же он склоняется к гегельянству в марксистском прочтении.
В 1933 г. Лакан стал сотрудничать с журналом сюрреалистов «Минотавр». Прежде всего он опубликовал здесь статью о проблеме стиля в психиатрической концепции паранойи[87], в которой ясно заметны его новые ориентиры в философии. «Опыт параноического переживания (vcue paranoaque) и порождаемое им мировоззрение можно помыслить как оригинальный синтаксис, способствующий пониманию человеческим сообществом самого себя, – писал он. – Обращение к этому синтаксису представляется нам необходимым введением к пониманию символических значений искусства, в особенности проблем стиля, к познанию силы его воздействия на человеческое общество, к которому оно обращается, как и парадоксов его происхождения, – этих вечно неразрешимых проблем всякой антропологии, не освободившейся от наивного реализма объекта»[88].
В том же году в городке Манс было совершено преступление, давшее повод высказаться и сюрреалистам, и Лакану. Сестры Кристин и Леа Папен, молодые служанки, зверски убили своих хозяек, г-жу Ланселин и ее дочь Женевьеву. Обе девушки считались образцовыми служанками, однако позже выяснились многие обстоятельства, свидетельствовавшие о том, что в их жизни не все было гладко: их отец когда-то был любовником старшей дочери, дедушка страдал эпилепсией, кузен сошел с ума, а дядя повесился. Незадолго до убийства они жаловались жандармам на неких преследователей. Однажды, в дождливый день, они остались в доме одни и гладили белье, но из-за короткого замыкания, вызванного неисправностью электроутюга, дом остался без света. В потемках дождливого февральского дня они не смогли выполнить домашнюю работу, за что получили нагоняй от вернувшихся хозяек. Тогда служанки убили обеих, вырвали им глаза и расчленили трупы. После этого они разделись, забрались в постель и дождались прихода полиции. Судебные психиатры объявили их здоровыми, старшая из сестер была приговорена к гильотинированию, а младшая – к пожизненному заключению. Во время предварительного заключения у старшей начались обмороки и галлюцинации. Тогда судебный психиатр Шютцамберже объявил ее симулянткой, а его коллега Бенжамен Логре поставил диагноз «эпилепсия или истероэпилепсия, сексуальная инверсия, бред преследования» и потребовал отправить сестер на лечение. Дело вызвало большой резонанс. Многие утверждали, что сестры Папен – жестокие чудовища, лишенные всякой человечности. Другие считали их жертвами мещанской жестокости, а их преступление – справедливым проявлением классовой ненависти. Сюрреалисты Пере и Элюар превозносили их как новых героинь, воплотивших идеи Мальдорора. И действительно, сестры, казалось, проделали как раз то, о чем писал Лотреамон: «Две недели надо отращивать ногти. А затем…»[89]
Лакан в своей статье, опубликованной в «Минотавре»[90], обратил внимание на то, что на суде сестры пользовались лишь им одним понятным диалектом, а старшая выслушала свой смертный приговор, стоя на коленях. Лакан писал, что этот случай имеет много общего со случаем Эме. Кроме того, он обратил внимание на то, что абсолютно идентичный психоз развился одновременно у обеих сестер. Он отдал должное мужеству Б. Логре, однако отверг диагноз «истероэпилепсия», полагая, что это преступление, скорее, следует расположить под рубрикой «паранойя». Лакан предполагает, что темнота, наступившая после аварии с утюгом, созвучна другой темноте – символической, – в которую погружены все действующие лица этой драмы. Ее апофеозом стало вырывание глаз. Более того, между служанками и хозяйками «не проходит ток» – именно так можно интерпретировать отсутствие света в доме. Эме пыталась убить актрису из-за того, что та представляла ее Я-идеал. Сестры Папен умертвили своих хозяек по той же причине: они вырвали глаза у тех, кем восхищались, только этот объект был уже не «Я-идеалом», но «идеалом-Господином». Возможно, Лакан опирается на идею, сформулированную еще в начале XIX в.: господа оказывают «магнетическое» воздействие на своих слуг, причем «магнетизм» всегда работает сверху вниз, и никогда – снизу вверх. Сам он, впрочем, отмечает «литературность» случая: если Эме действовала подобно мадам Бовари из флоберовского романа, то сестры Папен подобны героиням древнегреческой трагедии, показывающей жестокость мира и социальную ненависть. Символически это преступление вписывалось в фигуру классовой ненависти, но в реальности имело своей причиной параноическое отчуждение. Наконец, в статье Лакана ясно просматривается влияние гегелевской диалектики Господина и Раба, хотя его знакомство с Кожевом и «Феноменологией духа» только началось. При этом несомненно, что спинозистский монизм с его представлением о личности уже уступил место монизму гегельянскому и идее самосознания.
В статье заметно увлечение фрейдизмом, однако Лакан далек от ортодоксальности. «Влечение к смерти, – пишет он, – которое мы считаем базисом паранойи, оказалось бы лишь малоудовлетворительной абстракцией, если бы не контролировалось серией коррелятивных аномалий социализированных инстинктов и если бы современное состояние наших знаний об эволюции личности не позволяло рассматривать эти аномалии влечения как одновременные по своему происхождению»[91].
Лакан предлагает также новую концепцию взаимоотношений между психиатрией, криминалистикой и правосудием. Он выступает как против традиционно мыслящих психиатров, выступающих сообщниками палачей, так и против сторонников динамической психиатрии, стремящихся вырвать сумасшедших из рук судей. Объяснить преступление, говорит он, не значит ни простить его, ни осудить. Напротив, это значит перевести воображаемый характер преступления на уровень символического. Если преступник безумен, это не значит, что он монстр; преступление совершает именно человек, а не его «природа» или «инстинкт». Не бывает ни «недочеловека», ни «сверхчеловека», который не был бы человеком. Ужасы инквизиции и концентрационных лагерей порождены человеком, а не «инстинктами». То обстоятельство, что человек безумен, не освобождает его от ответственности за совершенные им поступки. Лакан призывает отказаться от самого понятия психиатрической экспертизы, поскольку эта процедура годна лишь на то, чтобы поместить человека под рубрикой «разум» или «безумие». Преступление, совершенное параноком, продиктовано не классовой ненавистью или звериной природой, но психотической структурой, в которой преступник реализует идеал Господина. Но, несмотря на обращение к гегелевской диалектике Господина и Раба, Лакан считает, что главную загадку криминалистики способен разрешить психоанализ с его учением об импульсах. Оставаясь профессиональным психиатром, он размещает психоаналитическое слушание в пространстве психиатрического наблюдения. Он никогда не будет выступать в роли эксперта, а свою концепцию криминологии, набросок которой он уже дал, сформулирует двадцать лет спустя.
Те четыре года, что Лакан провел на кушетке Левенштейна, то есть 1932-1936, были в целом малопродуктивными: за это время Лакан не написал ни одной крупной работы, что объяснялось, по-видимому, поиском новых путей. Его личная жизнь, напротив, была весьма насыщенной. Он никак не решался расстаться с Марией-Терезой, хотя любил именно Олесю. В конце августа 1933 г. он отправился в двухнедельное путешествие по Испании в компании Марии-Терезы; Олеся осталась в Париже, и ветреный любовник писал ей страстные письма. Он посещал старинные монастыри Испании, а в Мадриде по большей части ходил по галереям. Веласкес, которого он любил в юности, разочаровал его, зато Гойя привел в восторг.
В начале октября 1933 г. Лакан отправился в Швейцарию, чтобы принять участие в 84-й ассамблее Швейцарского психиатрического общества. Здесь он впервые встретился с К. Г. Юнгом, говорившим на ассамблее об африканских племенах. По возвращении во Францию Лакан написал для журнала «Encphale» обзор основных выступлений этого съезда, собравшего весь цвет швейцарской психиатрии.[92] Вместе со своим другом А. Эйем он снова выступил здесь против органицистского понимания галлюцинаторного психоза.
24 октября он написал письмо Олесе, в котором выражал сожаление по поводу дурного обращения с ней. Подобно прустовскому герою, он тосковал об утраченном времени. Однако в этот момент в его жизни появилась новая любовь – Мария-Луиза Блонден, которую он уменьшительно-сокращенно называл «МаЛу». Она была сестрой друга Лакана, хирурга Сильвана Блондена. Оба молодых врача прекрасно ладили между собой и были очень похожи. Мария-Луиза, восхищавшаяся братом, в равной мере восхищалась и его другом. Образованная, но очень домашняя девушка не знала, что Лакан не способен на верность. 29 января 1934 г., в 11.30, в мэрии XVII округа был зарегистрирован светский брак. Свидетелями выступили А. Клод и хирург А. Дюкло. Лакан, открыто говоривший о своем атеизме и неприязни к христианству, не стал разочаровывать свою мать, и потому брак был освящен и по католическому обряду: венчание состоялось в церкви Сен-Франсуа-де-Саль. Молодожены провели медовый месяц в Италии. Лакан впервые был в Риме и немедленно полюбил этот город, в который будет стремиться всю свою жизнь. Несмотря на супружескую идиллию, из Италии он послал телеграмму Олесе. Вернувшись во Францию, новоиспеченные супруги сперва жили на рю де ла Помп, а потом зажили в роскошной квартире на бульваре Малешерб. Здесь выяснилось, что Лакан знает толк не только в элегантных нарядах, но и в буржуазном комфорте. Этот брак позволил Лакану войти в круги крупной буржуазии Парижа. Мария-Луиза родит ему троих детей: Каролину (1937), Тибо (1939) и Сивиллу (1940).
В мае 1934 г. Лакан принял участие в конкурсе на замещение вакантных должностей в психиатрических клиниках. Он бравировал перед жюри своим знанием феноменологии и вызвал всеобщее раздражение. Несмотря на это, он все-таки получил должность. 20 ноября того же года он вступил в Парижское психоаналитическое общество. Это был отказ от врачебной карьеры, но не отказ от психиатрии, которой он останется верен до конца своих дней. Его первым анализантом стал Ж. Бернье, еврей, эмигрировавший из России. Первые сеансы проходили на рю де ла Помп, затем – на бульваре Малешерб. Лакан строго придерживался регламента: часовые сеансы три раза в неделю. Впрочем, вопреки настояниям Левенштейна, он свел дружбу со своим образованным пациентом. В рядах Парижского психоаналитического общества Лакана сразу признали как незаурядного теоретика. Он много дискутировал с П. Шиффом, К. Одье и Э. Пишоном. Мари Бонапарт относилась к нему весьма холодно. Впрочем, она еще не подозревала, что этот неофит изменит историю французского психоанализа.
В мае 1935 г. Лакан присутствовал на рукоположении своего брата, Марка-Франсуа. В 1936 г. он начал частную психоаналитическую практику, не оставляя работы в госпитале св. Анны.
Пока Лакан делал свою блистательную карьеру и мало-помалу превращался в безусловного лидера французского психоанализа, его друг и коллега по госпиталю св. Анны А. Эй стал лидером французской психиатрии. Благодаря его терпимости психиатрия Франции в течение полувека будет более гуманной, нежели психиатрия других европейских стран. Эй, родившийся в 1900 г., был внуком врача и сыном каталонского винодела. Получив медицинское образование в Тулузе, он прибыл в Париж и стал учеником А. Клода. Как и Лакан, он отвергал учение о психической конституции и живо интересовался новейшими литературными течениями. Пруст вызывал у Эйя безграничное восхищение; в 1922 г. он присутствовал на похоронах писателя. Когда Р. Лафорг покинул правление группы «Психиатрическая эволюция», его место занял Эй, проводивший политику сближения психиатрии с психоанализом. Этот молодой врач увлекался корридой, любил игру в бридж, обожал сигары и тонкие блюда. Жить он предпочитал в деревне. Человек правых взглядов и последователь Н. Маритэна, во время войны в Испании он поддерживал франкистов. Это не помешало ему после 1940 г. примкнуть к голлистам, а после Освобождения он привлек к участию в «Психиатрической эволюции» большое количество коммунистов. В 1933 г. Эй принял руководство психиатрической клиникой Бонневаль, расположенной в бывшем здании монастыря бенедиктинцев, построенного в X в. Он с удовольствием поселился в сельской местности, наезжая в Париж, чтобы читать лекции в госпитале св. Анны. В Бонневале Эй начал применять свое органо-динамическое учение, сегодня являющееся общепринятым. Не стирая границы между нормой и безумием и время от времени участвуя в криминологических экспертизах, он стремился преобразовать пространство психиатрической клиники и покончить с изоляцией душевнобольных от мира «нормальных». Используя психоанализ, он пытался вернуть своих пациентов в общество.