Лермонтов в русской литературе. Проблемы поэтики Журавлева Анна
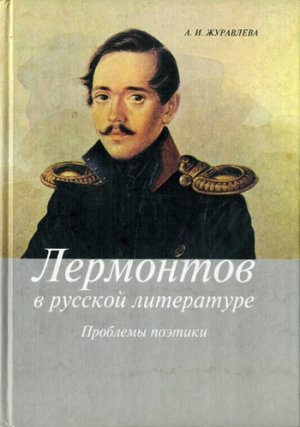
От автора
Книга посвящена уяснению роли Лермонтова в русской литературе, описанию его своеобразия. В отличие от широко распространенного, еще от Белинского идущего обыкновения искать это своеобразие прежде всего в изменении общественно-исторической ситуации и соотвественно – мироощущения и «пафоса» лермонтовского творчества, существенно иного по сравнению с пушкинским (Лермонтов – «поэт отрицания»), здесь сделана попытка увидеть новое в поэтике Лермонтова. Эта новизна, конечно, становилась предметом изучения и прежде (см. особенно «Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки» Эйхенбаума, статью Пумпянского «Стиховая речь Лермонтова», соответствующие страницы работы Гинзбург о лирике).
Не повторяя этих исследователей, хотя и опираясь на их классические для лермонтоведения работы, важные особенно для понимания поэзии Лермонтова, я сосредоточилась на других аспектах движения литературы в лермонтовскую эпоху. В присутствии Пушкина и сразу после него поэзия вынуждена была самоопределяться, искать свои пути, часто альтернативные пушкинским. Автор книги полагает, что становление так называемой философской лирики имело своим источником в значительной мере именно это стремление к самостоятельности. Как с этим общим движением «московской школы» соотносится поэзия Лермонтова, что связывает его с ней и что отличает?
Это – основная проблема глав книги, посвященных лирике. Раздел о поэзии завершает глава «Демон». Эта поэма, по убеждению автора книги, есть «не вещь, а процесс», и в этом смысле можно говорить о неслучайности того, что замысел сопровождал Лермонтова на протяжении всей его творческой жизни и, несмотря на фабульную законченность поздних редакций, характеризуется принципиальной внутренней незавершенностью, открытостью.
Второй раздел, посвященный преимущественно прозе, ставит малоизученный вопрос о роли таинственного и фантастического в становлении реалистического романа; о значении драматургических опытов в формировании романного героя; о некоторых особенностях лермонтовского повествования (повествователь как лирический герой).
Особое место занимает проблема архетипов в лермонтовской прозе и место самого Лермонтова в традиции национальных архетипов.
В этой книге, помимо никогда не публиковавшихся работ, использованы – как правило, переработанные – статьи о Лермонтове, которые я писала начиная с 1964 г. Самые ранние из них связаны еще с итогами моей работы в Лермонтовском семинаре филологического факультета МГУ, созданного и долгие годы руководимого В.Н. Турбиным, выдающимся читателем русской классики и несравненным «разбивателем штампов» и всяческой рутины. Моего учителя я с благодарностью вспоминаю, подводя этой книгой итоги собственных сорокалетних размышлений о Лермонтове. Они в значительной мере стимулировались студентами Лермонтовского семинара, которым я руководила после В.Н.Турбина.
Считаю свои долгом поблагодарить участников обсуждения этой рукописи, профессоров филологического факультета МГУ А.А. Илюшина, А.М. Пескова и Е.Г. Рудневу.
Благодарю моих бывших учеников, а ныне коллег и друзей М.С. Макеева и особенно Г.В.Зыкову за всестороннюю помощь в подготовке этого издания.
Лермонтов и русская поэзия
(вместо введения)
Исследователи отмечали, что Лермонтов был, пожалуй, первым крупным русским поэтом, в чьем творчестве почти полностью исчезла античность, и не только как общеевропейский арсенал поэтической образности, но и как та культурная традиция, мера, на которую привычно ориентировалось европейское искусство в течение нескольких столетий.
Это наблюдение многозначительно: Лермонтов – наследник пушкинской эпохи, как бы начинающий непосредственно с того рубежа, до которого довел нашу поэзию Пушкин. Он выражает новое положение литературы, характерное для XIX в.
Пушкин постоянно соотносит все жизненные явления, попавшие в сферу его внимания, с опытом мировой культуры: картинка обыденной усадебной жизни – «фламандской школы пестрый сор»; описание статуи работы русского скульптора самой формой стиха и его отчетливой жанровой традицией возводится к античности; анекдот из поместного быта сопоставляется с хрестоматийным эпизодом античной истории («Граф Нулин»). Постоянные сравнения и культурные ассоциации, имеющие то шутливый, то серьезный характер, но всегда глубокие по смыслу, переполняют произведения Пушкина. Стилизации, переводы и подражания, оригинальные создания, берущие материалом европейскую жизнь, – все это и своеобразное культуртрегерство, и одновременно – полемический прием, необходимый для эстетизации национальной жизни, доказательство принципиальной пригодности для литературы любого жизненного материала, равноправия всего перед лицом поэзии. Пушкиным это доказано, и его преемник Лермонтов освобожден от подобной задачи.
Если до Пушкина (а во многом еще и для него) новая литература – как бы орган освоения мирового культурного наследия, вообще культуры – к этому она обращена и этим обогащает национальную жизнь, – то начиная с Лермонтова поэзия обращена непосредственно к переработке жизненных впечатлений, нет посредничества между душой и жизнью. В этом отношении Лермонтов демократичнее своих предшественников и приближается к разночинцам. На фоне большой общности с Пушкиным (ср. впечатление от лермонтовской поэзии литераторов пушкинского круга) отсутствие у Лермонтова этих, условно говоря, «переводческих», культурнических красок заметно и содержательно важно.
Почти не исследованная проблема «Лермонтов и русская поэзия XVIII в.» хотя и может быть поставлена, но едва ли здесь обнаружатся какие-то непосредственные контакты. Опосредованно – через гражданскую лирику декабристов и Пушкина – Лермонтов (его, по выражению Б.М. Эйхенбаума, «ораторская лирика») связан с одической традицией русского классицизма, через элегию – с сентиментализмом (только в самый ранний период – см. «Осень», «Цевница»).
Лермонтовская поэзия – плод XIX столетия, когда в творчестве великих русских поэтов первой трети века – Жуковского, Грибоедова, Пушкина – европейская культурная традиция, привитая петровскими реформами, срослась корнями с национальной стихией, когда новый человек, русский человек европейского сознания, обрел язык и голос в литературе.
Как для всех поэтов первой половины XIX в., входивших в литературу после Пушкина, для Лермонтова остро встала проблема соотношения своей поэтической системы с пушкинской. При неизменно положительном общем отношении к наследию Пушкина Лермонтов прошел через разные стадии творческого освоения его – от прямого подражания и ученичества в юношеских поэмах («Черкесы», «Две невольницы», «Кавказский пленник») до идейной полемики («Три пальмы», «Пророк») и сложного художественного самоопределения по отношению к пушкинскому канону. Вместе с тем авторитетные исследователи творчества Лермонтова (В.В. Виноградов, Д.Е. Максимов, А.Н. Соколов, У. Р. Фохт) с усвоением и развитием пушкинской традиции связывают возникновение новой стилевой тенденции в поздней лирике Лермонтова, характеризующейся большой простотой и ясностью, развитием разговорной интонации и включением прозаизмов в высокий поэтический строй мысли («Валерик», «Завещание», «Родина»). Однако связь этих стихотворений с пушкинской традицией следует понимать в самом общем плане – самобытность лермонтовской поэтической интонации здесь абсолютно бесспорна.
Поэзия Пушкина – это овладение, обживание стихом речи, говорения. Все сделалось достойно поэзии и доступно ей. Пушкинская поэзия – мощный речевой поток, стремительное завоевание и подчинение стиху все новых областей и сфер жизни. В этом отношении ранняя лирика Лермонтова, с ее каким-то «пристальным многословием», то задумчивым, то патетическим, – прямое следование Пушкину, продолжение той же тенденции своеобразной экспансии стихотворной речи. Принцип же поздней лермонтовской лирики – иной. Здесь начинается отказ от понимания поэзии как потока, захватывающего и втягивающего в себя весь окружающий мир, и утверждается поэзия как серия вспышек, как фиксация мгновенного поэтического переживания. Лермонтов отказывается от попытки развить, продолжить это переживание. В длящемся поэтическом напряжении, в большой стиховой массе он словно видит опасность впасть в искусственность. Лермонтовская рефлексия из сферы чисто идеологической распространяется и на художественную. Начинается преодоление инерции пушкинского канона, ставшего общим местом в поэтической культуре 30-х гг. XIX в. и в руках подражателей действительно таившего опасность безответственной риторики. В этом – коренное поэтическое новаторство Лермонтова.
Наряду с пушкинской традицией необходимо отметить еще две, имевшие серьезное значение для Лермонтова.
Первая – поэзия декабристов. Ее влияние, наряду с влиянием Пушкина и Байрона, ощутимо в ранних поэмах Лермонтова (см. «Последний сын вольности»). С другой стороны, Лермонтовым и некоторыми его современниками (в частности, поэтами славянофильства) были продолжены традиции декабристской гражданской лирики. Декабристы создали ораторскую поэзию, которая своеобразно преломила традиции высокой лирики классицизма, глубоко преобразованные их романтической поэтикой, но именно в их стихах продолжали и в XIX в. жить интонации торжественного ямба. В лирических стихотворениях Лермонтов часто применяет «одические» ямбы, которые встречаются и у Пушкина, но особенно характерны для декабристов («Смерть Поэта», «Дума», «Не верь себе»).
Разработанный русскими романтиками поэтический канон «высокого» стихотворения на гражданскую тему в течение всего XIX в. оставался своеобразным эталоном, формой, в которой несколько поколений русских лириков стремились выразить свое кредо. В этих стихотворениях высказаны взгляды и чувства людей разных убеждений, разных эпох. И все-таки эти стихи чем-то удивительно похожи друг на друга, устойчивы в своих общих очертаниях, подобны по интонации: «Гражданин» Рылеева, «Вольность» и «Деревня» Пушкина, «Дума» и «Поэт» Лермонтова, оба стихотворения «России» Хомякова, «Родина» и «Памяти Добролюбова» Некрасова, «Как дочь родную на закланье» Тютчева, «Скифы» Блока.
Наконец, бесспорно важным было в творчестве Лермонтова его впечатление от поэзии Жуковского.
Романтическое мировосприятие исторически острее всего выразилось в балладе и романтической поэме. Как уже говорилось, на поэмное творчество Лермонтова из русских предшественников наибольшее влияние оказали декабристы и Пушкин. Баллада же в русской литературе прочно связана с именем Жуковского. Значение и место баллады в творчестве Лермонтова не может быть понято, если ограничиться рассмотрением канонических образцов жанра (их мало, и они имеют ученический или перводной характер), но влияние баллады, ее проблематики, «колорита» и поэтики весьма ощутимо в лермонтовской лирике. Характернейший мотив баллады – мотив судьбы, столкновение человека с роком либо проявление власти над людьми каких-то высших сил – явно близок поэзии Лермонтова, как и присущая балладе сосредоточенность на судьбе личности, преломление через нее философской, нравственной и социально-исторической проблематики. Свойственные балладе конструктивные признаки – напряженный драматизм, резкое конфликтное столкновение персонажей, приводящее обычно к трагической развязке, элемент экзотичности, колорит таинственности – родственны лермонтовской художественной системе. Вместе с тем в пору зрелого творчества Лермонтова жанр баллады во многом был уже исчерпан. Лермонтов художественно преодолевает инерцию жанрового канона: усиливается аналитический момент, повышается лиризм баллады, автор как бы сам стремится стать ее героем. Отсюда – балладность лермонтовского лирического мира в целом и размывание, трансформация балладного канона. Связь с балладной традицией обнаруживает и качество стиха в поздней лермонтовской лирике. (Подробнее об этом речь пойдет в главе «Влияние баллады на позднюю лирику Лермонтова»).
При всей близости к своим великим предшественникам, и прежде всего к Пушкину, Лермонтов, как яркий выразитель сознания русской интеллигенции 1830-х гг., оказался, по известному выражению Белинского, поэтом «совсем другой эпохи». Начиная статью о стихотворениях Лермонтова с проникновенной и высокохудожественной характеристики пафоса лермонтовской и пушкинской поэзии, Белинский точно выразил читательское впечатление от поэзии Лермонтова как более драматичной, остро конфликтной, исполненной рефлексии и трагических контрастов между напряженным критицизмом, огромной духовной активностью и сознанием практического бессилия современного человека. Юношеский романтический максимализм Лермонтова оказался удивительно адекватен кризисной эпохе русской мысли и окрасил все его творчество. Хотя в последние годы им далеко не исчерпывается характер его лирики, но эта краска оказалась, так сказать, наиболее броской, заметной, настолько, что в сознании человека русской культуры подобный форсированный драматизм, напряженная конфликтность в поэзии воспринимается именно как лермонтовская традиция, лермонтовская линия в литературе.
Лермонтовская литературная эпоха была периодом подведения итогов в русском и европейском романтизме, одновременно в литературе складывался новый «большой стиль» – реализм. Все это, однако, не исключает возможности качественного развития и обогащения романтизма. Об этом периоде можно сказать: исчерпана актуальность утверждения романтизма как метода, но сам метод еще не исчерпал своих возможностей.
Преобладающая часть художественного наследия Лермонтова связана с внутриромантической эволюцией поэта. Сопоставление лирики Лермонтова с основными течениями романтизма 30-х гг. показывает, что не только идеологически, но и в сфере художественных задач Лермонтов выражал прогрессивные тенденции литературного развития как раз в форме, наиболее присущей времени. Если Пушкин от романтизма 20-х гг. в 30-е гг. переходит к созданию реалистической системы, то для всей русской литературы характерен несколько иной путь: через новый этап романтизма, формирующийся в 30-е гг. Высшим выражением именно этой линии литературного развития и было творчество Лермонтова.
Романтизм 30-х гг. отличается от додекабрьского романтизма усилением аналитического момента в художественном познании действительности, постепенным формированием принципов историзма при подходе к современности. Однако анализ осуществляется в форме субъективной романтической рефлексии, историзм пока еще далек от конкретности и носит абстрактно обобщенный характер. Романтизм 30-х гг., как и в предшествующую эпоху, не был однороден, он включал в себя течения, отличающиеся друг от друга в идеологическом отношении и обладавшие особенностями в эстетической теории, в поэтических принципах, в жанровой системе.
Заметным явлением в литературе 30-х гг. стала поэзия так называемого философского романтизма. Художественные поиски романтиков этого типа были исторически актуальным явлением, поскольку отражали характерный для эпохи интерес к философским проблемам бытия. Вместе с тем присущее им представление о том, что в поэзии философские идеи могут быть выражены способом прямого, непосредственного изложения (смешение научно-философского и художественного мышления), отдаляло от них Лермонтова и другого крупнейшего лирика эпохи, сосредоточенного на философской проблематике, – Баратынского.
В ранний период Лермонтов широко использует жанры философского монолога и романтической аллегории, сформировавшиеся в поэзии философского романтизма (Веневитинов, Шевырев, К. Аксаков, Хомяков). На основе романтической аллегории («Чаша жизни») в поэзии Лермонтова постепенно складывается новый тип стихотворений с символическим образом («Парус», «Утес», «Тучи»).
Философский монолог – одна из наиболее распространенных форм в ранней лирике Лермонтова. Однако его монолог отличается от этого жанра философских романтиков отчетливо выраженным личностным характером. Лермонтов стремится не изложить мысль (что свойственно поэтам философского романтизма), а передать размышление, то есть передать мысль в становлении, развитии, с явственным отпечатком породившего ее сознания («1831 – го июня 11 дня»). Позднее Лермонтов не применяет эту форму в чистом виде, используя, однако, опыт философского монолога в других жанрах. Из всей группы философских романтиков наиболее устойчивый интерес Лермонтова вызывали Шевырев и Хомяков – самый яркий поэт славянофильства. Скрытый диалог с Хомяковым прослеживается и в поздних стихах Лермонтова. В то же время и Хомяков в своих наиболее остро публицистичных стихах явно испытывает воздействие гражданской поэзии декабристов и Лермонтова. В общем виде отношения Лермонтова и Хомякова можно представить так: внимание и интерес Лермонтова к Хомякову, выражающийся в текстовых перекличках, не имеющих характера смысловой связи; обоюдное сближение в ораторских стихах Лермонтова и программных Хомякова; у позднего Лермонтова – явное художественное отталкивание от риторической программности Хомякова («Спор», «Родина»).
Новое качество жанра в романтизме создает принципиальную возможность возникновения романтического течения на основе своеобразной «экспансии» какого-либо лирического жанра. Особый угол зрения на мир, сфера художественного видения, характерная для какого-либо жанра, может стать для лирика всеобъемлющей, совпасть с авторской позицией по отношению к жизни вообще, распространиться на другие жанры. В русской романтической поэзии так произошло с элегией.
Несмотря на то что расцвет жанра элегии относится к 1810– 1820-м гг., об особом элегическом течении романтизма можно говорить именно применительно к поэзии 30-х гг. В этот период особый угол зрения на мир, который свойственен элегии, у многих поэтов начинает характеризовать их поэтическую систему в целом. Самый замечательный поэт, связанный с элегическим романтизмом, – Баратынский, признанный классик русской элегии и одновременно – русской философской лирики. Общее у Баратынского с поэтами элегического романтизма – специально элегический угол зрения на мир, свойственный всей его лирике, независимо от жанровой принадлежности того или иного стихотворения. Вместе с тем по своей проблематике поэзия Баратынского близка к лирике философского романтизма. Но эстетическая позиция поэта была враждебна этому течению романтизма. Этот художественный антагонизм был ясен теоретикам философского романтизма, отчего их отношение к «поэту мысли» было весьма холодным.
Интеллектуальное в поэзии Баратынского, как и у Лермонтова, было глубоко личностным. Мысль, идея эмоционально переживается, и притом в исторически конкретном сознании. В этом внимании к чувству мыслящего сказался опыт Баратынского-элегика. В его лирике формируется особый жанр, представляющий собой сплав элегии с философским монологом («Последний поэт», «На что вы, дни!», «Осень»).
Пути Лермонтова и Баратынского к созданию подлинно художественной философской лирики совпадали, так как оба они, в отличие от поэтов философского романтизма, воплотили интеллектуальное как глубоко личное, созданное и пережитое в индивидуальном сознании.
В поздней лирике Баратынского возникает единый образ эпохи и человека – современника поэта. Это позволяет говорить о такой мере конкретности поэтического мира Баратынского, которая сравнима лишь с лермонтовской.
Таким образом, можно видеть, что сходство лирики Лермонтова и Баратынского касается самых существенных сторон их художественной системы.
Элегический романтизм был наиболее широким, влиятельным и самым разнообразным в идеологическом отношении течением в романтизме 30-х гг. Связь с поэтикой элегического романтизма несомненно существует в лирике таких писателей, как Полежаев, А. Одоевский и даже Кюхельбекер, творчество которых, безусловно, не может быть полностью отнесено к элегическому течению. Это особое явление в поэзии, с одной стороны, связанное с традициями декабристского романтизма, каким он сложился к 1825 г., с другой – использующее достижения элегического романтизма.
Открытием декабристской поэзии был жанр лирико-ораторского монолога, ямбического стихотворения на гражданскую тему, опирающегося на одическую традицию XVIII в. Этот жанр интенсивно развивается, в частности, в поэзии Кюхельбекера, особенно в 30-е гг. В этот период он испытывает влияние так называемых «ямбов» («Клеветнику»), древнего лирического жанра, возрожденного в поэзии нового времени Огюстом Барбье.
Для ямбов характерно развитие общественно важной темы в форме ораторского монолога, сочетающего высокую гражданскую патетику с сатирическими выпадами, с гротескными характеристиками. Этот тип лирико-ораторского монолога развивается и у Лермонтова, хотя имеет у него отличия от классических ямбов. Из числа стихотворений позднего периода к жанру ямбов наиболее приближается «Поэт» и «Не верь себе». «Дума», несмотря на то что некоторые ее строки, как отмечалось в лермонтоведении, прямо восходят к Барбье, в целом имеет иную жанровую природу: в ней сильна связь с элегической лирикой, что характерно для русского романтизма 30-х гг. В этом отношении ораторская лирика Лермонтова ближе всего к аналогичным стихотворениям А.Одоевского. Элегия Одоевского «Что вы печальны, дети снов», представляющая собой переплетение философской медитации элегического характера с патетическим ораторским монологом, предвещает лермонтовскую «Думу» тем, что в ней вся обычная для элегии гамма меланхолических эмоций освещена стремлением проникнуть в общий смысл своей индивидуальной судьбы, она расширяется до масштабов философского размышления об истории, о ее закономерностях, о ее цели.
Значительное место в романтизме 30-х гг. принадлежит Полежаеву, поэту нового поколения, биографически не связанному с декабризмом. Наиболее существенная черта, сближающая лирику Полежаева с лермонтовской, – разработка в ней темы демонического героя, традиционной для европейского романтизма. Демонический герой Полежаева уже аналогичных героев Байрона, так как его сознание лишено полноты и разносторонности отрицания, грандиозности критического духа. Однако он выигрывает в социальной конкретности своей критики. Демонический герой Лермонтова обладает большей напряженностью духовных поисков, чем герой Полежаева. Вместе с тем лермонтовский протест шире и последовательнее. В своей классической форме демонический герой – принадлежность юношеской лирики Лермонтова. В поэзии второго этапа он входит лишь некоторыми сторонами своего содержания в более широкий образ «героя времени» (преимущественно это пафос отрицания, до конца обладающий у Лермонтова оттенком романтического максимализма).
Влияние творчества Лермонтова на современников и ближайшее за ним поколение поэтов проявляется очень рано и идет по разным линиям.
В поэзии 40-х и начала 50-х гг. XIX в. в наибольшей степени была воспринята традиция лермонтовских философских и ораторских ямбических монологов. То патетические, то исполненные рефлексии монологи Огарева, как и Лермонтов, бывшего выразителем настроений передовой интеллигенции 30—40-х гг., находятся под заметным влиянием лермонтовской лирики. Лермонтовские интонации явно ощутимы и в поэзии Аполлона Григорьева (как известно, это отметил Белинский в отзыве о сборнике Григорьева).
Коренное поэтическое новаторство последнего периода творчества Лермонтова не нашло прямого и непосредственного продолжения у его современников и ближайших наследников. Но объективно самая сжатость его поздней лирики сродни Тютчеву и Фету. Можно сказать, что всех трех поэтов объединяет культура поэтической миниатюры. И восходит она – особенно у Лермонтова и Фета – не к литературным источникам (традиционным жанрам поэтических «мелочей»), а рождается из общего этим писателям понимания поэзии не как длящегося и развиваемого напряжения, но как фиксации отдельных ярких вспышек поэтического переживания.
Если в истории романтической поэмы Лермонтову суждено было вписать последние и ярчайшие страницы «Демоном» и «Мцыри», стать завершителем традиции, то его так называемые «повести в стихах», опыты бытовых поэм, получили дальнейшее развитие в 40 – 50-е гг. XIX в. Здесь необходимо прежде всего вспомнить поэмы Тургенева «Параша», «Андрей» и «Помещик».
Принципиально новый этап в судьбе лермонтовской поэзии наступит в 50 – 60-е гг. XIX в., и связан он с именем Некрасова.
Сразу же после гибели Лермонтова в печати появляются его неопубликованные стихи. С 1847 г. одно за другим выходят несколько собраний сочинений, считавшихся ранее полными. В этот период Лермонтов как бы делается активным участником литературного процесса, и в то же время – он уже классик, уже история. Его драматическая судьба, ореол гражданского поэта – все это сосредоточило на его поэзии сочувственное внимание передовой интеллигенции. В этом причина влияния поэтических интонаций лермонтовских ораторских стихов на Некрасова, нередко прямо возводившего свои стихи к Лермонтову с помощью подзаголовка, реминисценций или скрытых цитат. Эта линия преемственности как непосредственного продолжения достаточно очевидна. Но Лермонтов был не только автором прославленных гражданских стихотворений, но и создателем знаменитых мелодий русской поэзии, удивительно своеобразных по звучанию, – таких, как «Листок», «На светские цепи…», «В минуту жизни трудную». Они вошли в сознание русских читателей, растворились и разлились в нашей поэзии, стали классическими. Хотя это лермонтовское влияние было более подспудным, не таким явным, как отзвуки его поэтических деклараций, оно оказалось едва ли менее важным и плодотворным. Именно ритмико-мелодическая выразительность и оригинальность лермонтовского стиха была одной из причин того, что лермонтовская поэзия оказалась самым популярным материалом для так называемых перепевов. Сатирическое или юмористическое повествование, налагаясь на всем известную и популярную ритмико-интонационную схему, вызывающую в памяти поэтичнейшие классические строки, особенно эффектно снижало осмеиваемое явление.
Отмеченная Эйхенбаумом общая напряженная полемичность некрасовской поэтики, а также важная роль фельетонного, журналистского начала в своеобразии поэтического голоса Некрасова были причиной особого типа его связи с лермонтовской традицией. В отношении Некрасова к Лермонтову присутствовал и этот специфический оттенок: пародиста-имитатора к оригиналу, к объекту пародии, чисто профессиональное понимание поэтом-журналистом того, какой благодарный материал дает в его руки та или иная популярная мелодия. Такой ход поэтической обработки лермонтовских мелодий мы видим и в «Колыбельной песне», и в «Литераторах» из «Песен о свободном слове», где дана прямая ссылка на первоисточник. Еще больше перепевов мы встречаем у Некрасова в скрытом виде.
Наконец, необходимо сказать и о том, что Некрасов продолжает начатую Жуковским и развитую Лермонтовым разработку трехсложных стихотворных размеров. По сравнению со своими предшественниками Лермонтов значительно расширил сферу применения трехсложных размеров, в его поздней лирике они уже не были непременно связаны с «экзотическими» сюжетами, сохраняя все же едва уловимый привкус «балладности». Некрасов окончательно осваивает трехсложники как личную авторскую интонацию: именно с трехсложниками связано у всех читателей – и у современников поэта, и у нас – представление об особом, неповторимом некрасовском голосе.
Некрасовская строка обычно отличается характерной растянутостью, что достигается употреблением дактилических окончаний стиха. По наблюдению И.Н. Розанова, такое окончание в русской поэзии утвердил как раз Лермонтов.
Поскольку уже в середине XIX в. Лермонтов прочно занял место в ряду классиков, вместе с Пушкиным воспринимался как основоположник новой поэзии, его влияние на писателей последующих поколений делается распространенным явлением и вместе с тем – достаточно разнородным. Это весьма заметно уже в 1870—1880-е гг., когда лермонтовская традиция приобретает тенденцию к «размыванию», к превращению из собственно лермонтовской – в общекультурную, общепоэтическую. В значительной мере это обусловлено тем, что, как и в 40-е гг., в наибольшей степени используется тип ямбического ораторского монолога, часто имеющего характер инвективы, то есть тип, который, как мы уже говорили, при всем совершенстве лермонтовских произведений этого рода все же не был специфически лермонтовским открытием: как раз этими стихами поэт сам был включен в литературную традицию. Как лермонтовская эта традиция воспринимается читателями гражданских поэтов 70—80-х гг. XIX в. (Плещеева, Якубовича и др.) потому, что с именем Лермонтова прочно связывалось представление о поэзии отрицания, с повышенной конфликтностью, драматизмом.
С другой стороны, «безвременье» 1880-х гг. актуализировало мотивы рефлексии, тоски по героизму, ушедшему из исторической действительности, мотивы самоосуждения, которые тоже вели родословную от Лермонтова. Однако у восьмидесятников эта тема потеряла мужественный колорит, утратила энергию отрицания, присущую лермонтовским стихам, характерный для Лермонтова оттенок нравственного стоицизма, теперь она нередко звучала покаянными нотами (Апухтин, Надсон).
Как развитие других сторон лермонтовской лирики (мотивов «горечи и злости», ироничности) воспринимаются сарказмы Случевского.
Лермонтовские ритмико-мелодические достижения в эту эпоху по-прежнему продолжали служить основой «перепевов» в сатирической поэзии.
Мелодическое разнообразие и ритмическое новаторство Лермонтова в гораздо большей степени повлияло на поэтов декадентского круга. Декларируя защиту поэзии как искусства, стремясь возродить культуру стиха, действительно пришедшую в упадок в эпигонскую посленекрасовскую эпоху, символисты не могли не испытать влияния Лермонтова. Вместе с тем многие из них отрицали значение лермонтовской традиции для современности (Бальмонт, Минский), другие же стремились дать мистическое истолкование содержанию и общему смыслу творчества Лермонтова (Мережковский).
Помимо стиховых достижений Лермонтова, видимо, бесспорное влияние на лирику символистов имела богатая лермонтовская поэтическая символика. Самый тип стихотворения с символическим образом утвержден был Лермонтовым. Однако в художественной системе символизма он сместился: если у Лермонтова символический образ был выражением поэтического обобщения философского смысла определенных жизненных явлений, то у символистов он становится знаком «миров иных».
Среди всех символистов наиболее глубокие контакты с поэтическим миром Лермонтова, бесспорно, имел Блок. Значение лермонтовской поэзии для Блока было велико, и не всегда его можно полностью уловить, опираясь лишь на прямые текстовые «отражения»: «духовный образ Лермонтова прошел через всю творческую жизнь Блока» (Д. Максимов). Помимо содержательных связей – сближений и расхождений с лермонтовскими мыслями о жизни, с его концепцией мира (они прослежены в статье Д.Е. Максимова «Лермонтов и Блок») – существенно, видимо, ощущение внутреннего родства их поэтических систем. Постоянная лирическая напряженность, которая в сознании читателей XIX в. воспринималась как «лермонтовское начало» в нашей литературе, в высшей степени присуща поэзии Блока. В отличие от Лермонтова у Блока она даже имела характер до некоторой степени осознанной установки: символизму ведь было присуще стремление экстраполировать лирическое переживание, эстетизировать жизнь в целом. С кризисом символистского мировоззрения сам этот тип лирического переживания у Блока, как представляется, не изменился – это было органическое свойство его поэтического дара.
В XX в. продолжается и усиливается тенденция усвоения лермонтовской поэтической традиции именно как общекультурной, общепоэтической. Это делает почти невозможным дать общий очерк темы «Лермонтов и советская поэзия», особенно если учесть разнородность этого влияния. С другой стороны, трудно назвать крупного поэта, у которого не обнаружилась бы связь с лермонтовской поэзией.
У Маяковского, с его коренным поэтическим новаторством и установкой на разговорную стихию, мы видим «лермонтовское» стремление к максимальной прямоте и интенсивности поэтического высказывания. Кажется, что лермонтовскую природу имеет лирическая экспрессивная риторика Цветаевой, в менее явном виде ощутимая и у Пастернака.
С другой стороны – зримая образность есенинских пейзажей тоже заставляет вспомнить яркие и конкретные картины природы в поэзии Лермонтова.
Что же касается Мандельштама, то явная «дискретность» поэтического переживания, опора не на стиховой поток, а на речевое воплощение «лирических вспышек», как представляется, имеет самое прямое отношение к коренному открытию Лермонтова-лирика, о котором шла речь выше.
Часть I
Поэзия
Островский сказал о Пушкине: «Он завещал каждому быть самим собой, он дал всякой оригинальности смелость»[1].
Эта задача – быть самим собой в присутствии Пушкина – остро осознавалась современниками, как ровесниками, так, тем более, и теми, кто пришел в литературу позже него. Встала она и перед Лермонтовым, самобытность которого созидалась постепенно разными путями. Один из них – и весьма важный, как нам кажется, – возможность опереться на «московскую традицию», хотя ее, может быть, точней было бы (во всяком случае д о Лермонтова) назвать «московской тенденцией», неким проектом иного пути в поэзии – не лишенным, однако, своего рода последовательности. Что, в общем, само явление Лермонтова в итоге и подтвердило как нельзя убедительней.
Глава 1
«Московская поэтическая школа» и проблема альтернативных путей в литературе. Лермонтов и Шевырев
«Так все-таки: поэзия – это достижения стихосложения, или оживающее слово?..»
(Из современной литературной полемики)
Само понятие московской и петербургской поэтической школы существует в сознании человека русской культуры достаточно давно и как бы помимо рационально-логических построений и научных описаний явления. Оно несомненно на уровне читательской интуиции и подчас очень трудно определимо в научном дискурсе.
Культурная оппозиция «московская / петербургская школа» резко осозналась и стала обиходной в рассуждениях о поэзии особенно в эпоху Серебряного века, когда она была подкреплена острой литературной борьбой. Пожалуй, можно сказать, что именно с этого времени она вполне укрепилась как явление общего характера; до этого понятие было прикреплено к конкретным эпизодам истории поэзии.
Возникновение этой оппозиции можно датировать 1820 – началом 1830-х гг. Само понятие «московские литераторы», «московские поэты» – термин этой эпохи. Кажется, впервые1 употребил его Вяземский в рецензии на альманах Раича и Ознобишина «Северная лира», помещенной в «Московском телеграфе» в 1827 г.: «“Северная лира” может, кажется, быть признана за представительницу московских муз. Имена писателей, в ней участвующих, принадлежат, по большей части, московскому Парнассу; не знаю, можно ли сказать: Московской школе, хотя точно найдутся признаки отличительные в новом здешнем поколении литературном. Вообще вся наша литература мало имеет в себе положительного, ясного; есть что-то неосязательное, облачное в ее атмосфере. В климате московском есть что-то и туманное. Пары зыбкого идеологизма носятся в океане беспредельности»2.
Хотя известная поэтическая общность москвичей была замечена уже современниками, определить ее не вполне удавалось. Недаром и Вяземский говорит о «Московской школе» с осторожностью и предположительно, безоговорочно объединяя авторов «Северной лиры» лишь как обитателей «московского Парнасса».
Если «снаружи» москвичи еще могли показаться неким единством, то при взгляде «изнутри» различия выступали со всей очевидностью. Так, Киреевский в «Обозрении русской словесности 1829 г.» относит к «немецкой школе» москвичей Веневитинова, Шевырева, Хомякова и Тютчева, а Раича, Ознобишина и Туманского – к «итальянской». Тем не менее сама попытка художественного самоопределения «московской поэзии» налицо.
Этот эпизод в истории литературы привлекал внимание филологов, и прежде всего пушкинистов. Невозможно было при сколько-нибудь объективном подходе к явлению не заметить весьма сложных отношений Пушкина с кругом московских литераторов, любомудрами. Они и не остались незамеченными. Правда, писали об этом (разве что за исключением Тынянова) преимущественно в связи с «Московским вестником» (Аронсон, Канунова, Тойбин, Маймин, Морозов).
Тынянов в работе «Пушкин и Тютчев» видит в качестве определяющей черты поэзии конца 1820– 1830-х гг. перемещение интереса от жанра к стилю, а стилевые искания московских поэтов связывает с вниманием к образу и его метафорическому развертыванию, тяготеющему к аллегории. Таким образом, если можно говорить о повествовании в применении клирике, то, по Тынянову, отличие новой поэтической школы – в смене повествовательной стратегии.
Значительно позднее Кожинов в работе «После Пушкина. Тютчев и его школа»3 связывает возникновение нового типа поэзии с кружком Раича, а «тютчевской школой» называет это явление потому, что Тютчев был поэтической вершиной этого направления. Но это предложение кажется не вполне удачным, т. к. странно было бы называть Веневитинова, Шевырева, Хомякова, Раича, Ознобишина «поэтами тютчевской школы», как поэты все они старше Тютчева.
Представляется, однако, что, оставаясь исключительно на почве чисто стилевых явлений, объединить московских поэтов 1820—1830-х гг. будет затруднительно: различия выступают достаточно резко. И, как ни странно, географический подход – а точнее, конечно, социокультурный – может оказаться более плодотворным. В самое последнее время работы такого типа стали появляться4.
В эпоху, о которой идет у нас речь, можно говорить о разных типах организации культурного пространства Москвы и Петербурга. В столице в его центре был двор и соответственно светский салон. В Москве – университет и театр, «второй университет», как говорили современники. Сообразно этому различался и тип ценимой образованности. Широко известен высокий статус Царскосельского лицея, достаточно разностороннее образование давали и Пажеский корпус, и столичные военные училища. В Москве ценилось университетское образование (в том числе в родовитых дворянских семьях), даже учившиеся дома приглашали университетских профессоров, как Киреевские, сдавали экзамены в университете, как Хомяков5.
Можно сказать, что почвой нового направления в поэзии оказывается Москва и Московский университет, московский тип образованности: преобладание интереса к философскому знанию над социально-политической проблематикой, философской эстетики над, так сказать, практической критикой, журналы, издаваемые профессорами и вообще учеными людьми, а не литераторами6, отстаивание приоритетной значимости для русской современности немецкой философии и вытеснение французского влияния7.
Известная несовместимость умственных укладов двух соперничающих в нашей истории городов то и дело проявляется в переписке той эпохи, выплескивается на страницы книг и периодики. Знаменитый спор о Москве и Петербурге, пик которого приходится как раз на 1830-е гг., думается, у всех в памяти. Ирония Пушкина в сцене появления Татьяны в московском обществе («Архивны юноши толпою…») очевидна. Письма Дельвига к переехавшему в Москву Баратынскому8 полны настоящей ненависти к московскому миру. А начавший было литературные отношения с «Московским вестником» Пушкин в письме к Дельвигу вынужден оправдываться. И, как всегда, хоть и мимоходом, обозначает коренную суть разногласий: «Ты пеняешь мне за “Московский вестник” – и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее, да что делать? собрались ребяты теплые, упрямые; поп свое, а черт свое. Я говорю: Господа, охота вам из пустого в порожнее переливать – все это хорошо для немцев, пресыщенных положительными познаниями, но мы…»9.
Между тем интерес москвичей к «немецкой метафизике» – это прежде всего стремление обрести метод, найти общую почву и на ней построить систему понимания поэзии, уяснить ее место в универсуме. Можно сказать, историческое дело Московского университета для всей нашей культуры XIX в. – выработка общего взгляда на мир. С опорой на классическую немецкую философию, причем не только Шеллинг и Гегель, но и Кант, Фихте, Гердер активно участвовали в этом процессе умственного самоопределения русского общества10. Если вспомнить популярную сейчас фразу о том, что нужнее голодному – рыба или удочка, то Московский университет как раз и давал русскому обществу удочку… А как использовать ее – это было уже наше дело: можно рыбу ловить, можно соседу глаз выколоть.
На то, чтобы быть главой складывавшейся «московской школы» – ее теоретиком, – претендовал профессор университета
С.П. Шевырев. В нашей науке подробно проанализирована теоретическая полемика Шевырева с пушкинским направлением в поэзии и его попытка обосновать необходимость нового поэтического стиля, поэтому я не буду на этом останавливаться. Скажу только, что речь, в сущности, идет о создании эстетического обоснования философской лирики.
Как видим, становление «московской школы» – это прежде всего ее самоопределение по отношению к пушкинскому канону.
Поэзия Пушкина – это овладение, обживание стихом речи, говорения. Все сделалось достойно поэзии и доступно ей. Пушкинская поэзия – мощный речевой поток, стремительное завоевание и подчинение стиху всё новых сфер жизни. Гениальная у Пушкина, утвержденная им техническая легкость в дальнейшем не могла не провоцировать интенсивного стихописания, не приводить к девальвации стиха. И убаюкивающе облегченная стиховая масса мало чем лучше одуряюще тяжеловесной. Отсюда и нападки москвичей на легкость и прозрачность возобладавшего направления поэзии.
- Вменяешь в грех ты мне мой темный стих?
- Прозрачных мне не надобно твоих.
- ………………………………………
- Бывал ли ты хоть на реке Десне?
- Скажи же мне, что у нее на дне?
Это шевыревское кредо, выраженное в его известной эпиграмме.
И вот, хотя споры и соперничество между архаистами и новаторами, между традициями поэзии «высокой» и «легкой» старше Пушкина, поляризоваться географически, привязываться к Москве и Петербургу эта творческая рознь стала именно при нем, а особенно, очевидно, после появления первых глав «Онегина», произведения чрезвычайно «петербургского» и написанного таким прозрачным и легким стихом, какого русская поэзия еще не знала. Конечно, это была победа в наметившейся борьбе традиций, но в такой борьбе окончательных побед не бывает, поскольку победа мобилизует оппонента. У Москвы же довод оказался наготове и, в общем, соизмерим по масштабу: «Горе от ума». По общему масштабу поэтического явления, но, так сказать, не по жанру. Все-таки если «Онегин», с некоторой точки зрения, очень большое лирическое стихотворение – то есть самая сердцевина поэзии, то «Горе от ума» – огромная, развернутая эпиграмма, при всей своей глубинной лирической природе непосредственно, впрямую занятая лицами, характерами, нравами и положениями, а не внутренним миром.
И по-настоящему адекватный ответ триумфальным достижениям пушкинской стиховой традиции последует чуть позже – это будет поэзия Лермонтова и Тютчева, вырастающая на почве московской культуры, культуры университетской. Поэзия, созданная в неизбежном творческом споре с пушкинской и художественно сопоставимая с ней на главном поле – лирическом.
Вот с этого момента возникновения — не попыток и намерений, а состоявшейся альтернативы – оппозиция «московской» и «петербургской» поэтической культуры живет в русской литературе, потому что за некими стереотипами московской и петербургской поэзии стоят архетипы, основополагающие начала, принципы порождения поэтической речи.
За конкурсом ямбического четверостишия с перекрестной рифмой abab и всеми усложнениями и двух пар рифм aabb, таких архаичных, изначальных на вид, конкурс таких оппозиций, как изъяснение / заявление; повествование / называние; линейность / дискретность; музыка / театр; сплошной текст / пауза; речь / молчание (не безмолвие, как отсутствие чего бы то ни было, а именно молчание говорящего) и т. п…
Тынянов писал о Пушкине: «…поэзия в 30-х годах мимо его ушла не вперед и не назад, а вкось, к сложным образованиям Лермонтова, Тютчева, Бенедиктова…» Оставив в стороне явно особой природы эксперименты Бенедиктова, с уверенностью, думается, можно сказать, что здесь имеется в виду поиск поэтических альтернатив Пушкину. Если никто не прокламировал задачу «московской школы» так открыто и настойчиво, как Шевырев, то едва ли кто решил эту задачу так убедительно, как Лермонтов. Собственно, без него все разговоры о «московской школе» выглядели бы, пожалуй, умозрительно.
Он преодолевает теоретизм «университетской», «ученой» поэзии, органично переработав свойственный ей интерес к философии и поэтическому эксперименту. Философическая риторика и аллегоризм у Лермонтова перерастали постепенно в емкую философскую символику, а расширение ритмико-мелодического репертуара (прежде всего за счет трехсложников) перестало быть экспериментом, дав новые возможности стиху в разработке живой речи.
Роль Пушкина в споре представляется классически ясной: Пушкин тот, кто дал язык. Пушкин – это обретение свободы изъяснения, излияния. И вот тут – лермонтовская реплика – почему, собственно, излияние? Изливается ли речь, или речь это то, что сотворяется именно сейчас и здесь в этом стихе, этим поэтическим актом? Лермонтов отказывается от понимания поэзии, как потока, затягивающего в себя весь окружающий мир, и утверждает поэзию скорей как серию вспышек, как фиксацию поэтического события, переживания. Лермонтовская рефлексия из сферы чисто идеологической распространяется и на художественную. Собственно, практически ставится вопрос о преодолении инерции пушкинского канона.
Лермонтову свойственно повышенное внимание к такому поэтическому материалу, который Пушкиным не разработан или разработан сравнительно мало. Мы имеем в виду не только сюжетно-тематический материал вроде, скажем, характерной московско-исторической «костюмности» (удельный вес «Двух великанов» и «Песни про купца Калашникова» в лермонтовской поэзии явно выше, чем в пушкинской вес его сказок и некоторых стилизаций). Важнее другое – материал поэзии в возможно более общем, широком смысле: где у Пушкина экскурс, стилизация, там у Лермонтова – мелодии, сразу врезавшиеся в память и второй век не дающие покоя эпигонам и пародистам, – самый, наверное, надежный признак события в поэзии.
Пушкин достигает своего события, в общем, благодаря правилу, методу стихосложения, прежде всего, как известно, ямбического стихосложения. И у Лермонтова есть свой метод, канон, свой ямб, только многостопный. Но он более открыто вынесен за территорию собственно лермонтовской поэзии как именно по преимуществу технический метод; если это и поэзия, то та, которая из риторики. Речь, впрочем, именно о лирике; поэмное повествование – иное дело, достаточно вспомнить четырехстопным ямбом написанного «Демона».
Подлинный Лермонтов – не так правило, как исключение: и по стиху, и по экзотическому материалу, который, однако, у Лермонтова утрачивает значительную долю экзотичности, обретая лирическую непосредственность. «Анчар» Пушкина – великолепная поэзия, но он не лирика в том смысле, в каком, конечно же, лирика лермонтовские «Три пальмы», «Листок», «Утес».
При всей учености и теоретичности Шевырева его роднит с Лермонтовым некая лирическая непосредственность. Тютчев, например, как поэт в высшей степени сосредоточен, собран. Наверное, таким поэтом хотел бы быть ученый Шевырев, но был он совсем другим. Сравним, например, тютчевское «Когда пробьет последний час природы…» и одно их лучших шевыревских стихотворений «Сон», казалось бы, близкое Тютчеву по проблематике.
У Тютчева, при всей страстности его философствования, величественную картину наблюдает словно бы человечество в целом, субъективность, как сказали бы в XIX в., полностью устранена. Быть может поэтому живая лирическая нить к Лермонтову тянется не столько от «олимпийца» Тютчева, сколько от «педанта» Шевырева.
Сильное и великолепное в своей яркой образности стихотворение Шевырева «Сон», казалось бы, уже благодаря своему сюжету должно быть сугубо личностным (что может быть неповторимее, индивидуальнее сна?):
- Мне Бог послал чудесный сон:
- Преобразилася природа,
- Гляжу – с заката и с восхода,
- В единый миг на небосклон
- Два солнца всходят лучезарных
- В порфирах огненно-янтарных —
- И над воскреснувшей землей
- Чета светил по небокругу
- Течет во сретенье друг другу.
- Всё дышит жизнию двойной:
- Два солнца отражают воды,
- Два сердца бьют в груди природы —
- И кровь ключом двойным течет
- По жилам Божия творенья,
- И мир удвоенный живет —
- В едином миге два мгновенья.
- И с сердцем грудь полуразбитым
- Дышала вдвое у меня, —
- И двум очам полузакрытым
- Тяжел был свет двойного дня.
И далее рассказ все время идет от первого лица. Поэт настойчиво повторяет: «Мой дух», «Не станет мира и меня», «Последним вздохом я отвечу», «Молний миллионы / Мой опаляют ясный взор» и т. д. Но все-таки, несмотря на это, в стихотворении нет никаких примет конкретной, этой индивидуальности. Перед нами – мистическая греза шеллингианца. В сущности, в другом своем знаменитом стихотворении, «Мудрость», Шевырев очень точно сказал о себе:
- Мои все жилы были струны,
- Я сам – хваления орган.
Поэт как сосуд познающего духа, как нечто отдельное от своей собственной человеческой личности – таков художник у любомудров. Важно понять, что это не одна из «идей» их «стихотворений о поэте и поэзии», а творческая позиция, определяющая постановку авторского голоса в их лирике. Это поэзия мысли, а не мышления, как у Лермонтова.
Мысль связана с внебиографическим «я», мышление – процесс внебиографически невозможный. Поэзия мышления – это, собственно, синоним поэтической духовной биографии. Мысль связана с личностью пространственно, мышление предполагает связь временную. Категория становления необходима в поэзии мышления, то есть в философской лирике, связывающей интеллектуальный план с личным.
И этот переворот в создаваемой московскими поэтами философской лирике был совершен Лермонтовым.






