Лев Толстой. Драма и величие любви. Опыт метафизической биографии Мардов Игорь
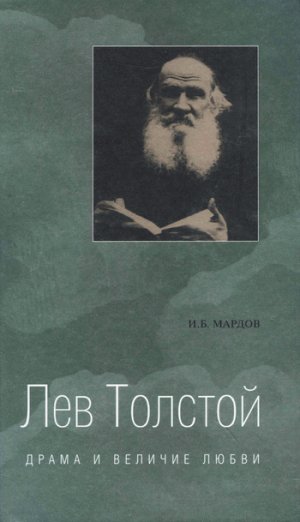
Вступление
Отмщение и воздаяние
Основополагающая мысль «Анны Карениной» закреплена в эпиграфе к роману: «Мне отмщение, и Аз воздам». Если глубинная наджитейская причина гибели Анны заключена в действии тайного закона человеческой жизни, то хорошо бы знать, как, по мысли автора, он работает во всех нас. Если Анна виновата не перед человеком или людьми, а перед Господом, то в чем ее вина? Ответы на эти вопросы мы найдем у Толстого, полагая вслед за Н.Н. Страховым, что «те самые начала, которые он проповедует, бессознательно жили в нем всегда и составляли душу всего, что он тогда писал».[1]
Одно из начал учения Толстого – представление о двух душах,[2] составляющих внутренний мир человека: высшей душе, которую Толстой называл «внутренней душой», «духовным существом», «ближайшим духовным солнцем», «духовным Я», «Богом своим», «сыном Бога», «центром своего духовного тяготения», и низшей душе, которую Толстой обычно называл «плотью», «личностью», «животной личностью», «плотским я». Положение о двух душах упрощенно и полярно высказано в «Воскресении»:
«В Нехлюдове, как и во всех людях, было два человека. Один – духовный, ищущий блага себе только такого, которое было бы благо и других людей, и другой – животный человек, ищущий блага только себе и для этого блага готовый пожертвовать благом всего мира» (1.XIV).[3]
Во «благо только себе» Толстой включал и общее благо: народа, государства, любого сообщества или товарищества, в которое вмещена животная личность человека. Боясь за себя, животная личность желает жить бодро и весело, нежится во лжи жизни и мешает пробудиться духовному существу человека. «Не ты один, а все такие – такова жизнь, говорил этот голос (голос животного человека в Нехлюдове. – И.М.). Но то свободное, духовное существо, которое одно истинно, одно могущественно, одно вечно, уже пробудилось в Нехлюдове… Бог, живший в нем, проснулся в его сознании» (1.XXVIII).
Нехлюдов более всего знал духовное существо в себе по потребности жертвы во имя нравственных требований, потребности, удовлетворение которой составляло для него высшее духовное наслаждение. Алексей Александрович Каренин знал в себе духовное существо по тому «чувству умиленного сострадания, которое в нем вызывали страдания других людей» (4.XIX) и которого он, считая слабостью, стыдился. Его сын, девятилетний Сережа Каренин, в предчувствии духовного существа, берег свою душу «и без ключа любви никого не впускал в нее» (5.XXVII). Левин знал духовное существо свое в чувстве ужаса жизни без знания смысла и назначения ее (см. 8.VIII).
Духовное существо и животная личность живут по-разному, каждый по-своему чувствует и сознает жизнь, различно любят. Голос любви духовного существа говорил Нехлюдову «об ней, о ее чувствах, об ее жизни», голос же животной личности внушал ему: «смотри, пропустишь свое наслаждение, свое счастье» (1.XVI – подчеркнуто Толстым).[4] Любовь животной личности эгоцентрична, ее девиз: «она – моя» или «он – мой». Таково устремление души Мисси Корчагиной в «Воскресении» и Анны Карениной в последние месяцы ее жизни. Любовь духовного существа выражается в стремлении отдать себя, знать: «я – твоя» – и служить своей жизнью. Животная личность желает брать и покорять в любви и потому пребывает в состоянии борьбы. «Она (Анна Каренина) была рада этому вызову нежности. Но какая-то страшная сила зла не позволяла ей покориться» (7.XII). Самоубийство представлялось Анне средством «наказать его и одержать победу в той борьбе, которую поселившийся в ней злой дух вел с ним» (7.XXVI).
Этот-то «злой дух» животной личности во сне привиделся Анне в образе «мужика с взъерошенной бородой, маленького и страшного», копошащегося в мешке с железом и приговаривающего что-то грозное по-французски. Ужас этого образа – в самом присутствии его в себе и в неодолимо отвратительной власти его в глубинах души.[5] За мгновение до смерти, когда Анна ощутила физическую «невозможность борьбы» за свою жизнь, этот страшный мужик, «приговаривая что-то, работал над железом» и загасил свечу ее жизни (7.XXXI).
О чем-то тоскующая животная личность оживляется стремлением к достижению желаемого, охлаждается, добившись своего, и вновь тоскует. Все побуждения животной личности не имеют цели и назначения превыше ее. Ее любовь, психически возбуждая и радуя, сама по себе ни к чему не ведет и потому рано или поздно изживает себя. Духовное существо любит иной любовью, к которой неприложимы понятия достижения, разряжения, охлаждения. Любовная работа духовного существа возводит душу к новому и высшему качеству духовной жизни и потому не завершается при удовлетворении первоначального эмоционального позыва, а вводит в область своей работы все более и более глубинные и никогда не исчерпываемые пласты высшей души. Цель любви духовного существа, учил Толстой, есть слияние всех духовных существ в одно, обретение ими общего чувства и сознания жизни в любви и через это слияние – приведение Сына к Отцу.
Животная личность, по учению Толстого, не обладает собственным источником сознавания. Это значит не то, что она действует бессознательно, а то, что она пользуется сознаванием, идущим к ней или через нее от духовного существа, духовного Я. Сам по себе Свет сознания жизни – то, что Толстой в разное время называл «разумением жизни», «разумным сознанием», «разумом сердца» и просто «разумом», – исходит только от духовного Я, которое, собственно говоря, не есть «Я» человека, а есть частица Господа, «Бог свой», посланный от Бога Самого в душу земного человека. Духовное Я несет в себе свет жизни и сознания в силу своей причастности к Богу живому, являющемуся Источником жизни как таковой. Духовное Я светит подлинным светом сознания на животную личность, которая пользуется уже отраженным светом. Свет духовного Я – солнечный, дневной, а животной личности – лунный, ночной. Животная личность воспринимает и себя, и все вокруг себя «лунным сознанием», видит все при ночном освещении, «свете без своего источника» («Воскресение», 2. XXVIII). Отсюда вся ложь и заблуждения людей, не видящих свою жизнь при ярком солнечном свете духовного Я.
Чисто толстовский принцип честного и ясного видения жизни, отделения лжи и самообмана, сам принцип проницательности искренностью, заложенный в установку его художественности и мысли, являет читателю восприятие сознания при ярком дневном свете духовного существа автора. Задача духовного пробуждения человека, по учению Толстого, в том, чтобы внутри себя прорвать завесу животной личности, включить в свою жизнь духовное существо свое и увидеть все ясным взором в подлинном свете. Солнечный свет «Бога своего» нельзя использовать в утилитарных целях, он высвечивает только людские души и дает взгляд, при котором ставятся основные вопросы человеческого бытия, вопросы, на которые душе, освещенной подлинным светом, необходимо знать ответы.
В последний день жизни Анна Аркадьевна все видела «в том пронзительном свете, который открывал ей теперь смысл жизни и людских отношений». Она постигает природу своих взаимоотношений с Вронским и видит, что изменить их нельзя (7.XXX). Она видит, что «все неправда, все ложь, все обман, все зло!» (7.XXXI). Пробуждение солнечного сознания поначалу всегда трагично. То же, что произошло с Анной в день гибели, произошло и с Вронским в день его неудавшегося самоубийства, когда «все, казавшиеся столь твердыми, привычки и уставы его жизни, оказались ложными и неприложимыми» (4.XVIII). Все, что есть и что будет, все обесценилось для него, стало бессмысленным или низменным, и он стреляет в себя. И Анна, и Вронский убивают себя от пробуждения света духовного существа в них. Уже в этом можно усмотреть «отмщение Бога».
Пробуждение дневного сознания в Левине также привело его в состояние, близкое к самоубийству. Он увидел, что в жизни присутствует «жестокая насмешка какой-то силы, злой силы, злой, противной и такой, которой нельзя было подчиниться… Надо было прекратить эту зависимость от зла. И было одно средство – смерть» (8. IX). То была «мучительная неправда», разрушаемая трудами жизни его духовного существа. Считается, что Левин «воскрес» (в терминологии учения Толстого), услыхав от мужика, что надо помнить Бога и жить для души. Однако слова эти дали едва заметный толчок движению его разума, в результате чего он лишь «чувствовал в своей душе что-то новое и с наслаждением ощупывал это новое, не зная еще, что это такое» (8.XII). Затем, в награду за огромную духовную работу, проделанную им, это «новое» открылось его сознанию как «то главное, постоянно проявляющееся на земле чудо, состоящее в том, чтобы возможно было каждому вместе с миллионами разнообразных людей… понимать несомненно одно и то же и слагать ту жизнь души, для которой одной стоит жить и которую одну мы ценим» (8.XIII). И в старости Лев Николаевич не сказал бы другое. Герой его второго романа на наших глазах вытрудил первоначальное откровение толстовского учения. Не это ли: «Аз воздам»?…
Картина внутренней жизни человека слагается из взаимодействия духовного существа и его животной личности. Однако это взаимодействие, по взглядам Толстого, не есть противоборство, наподобие света и тьмы или добра и зла. Своехарактерная психофизиологическая («животная») личность несвободна, задана генетически, этнически, социально, астрологически (если угодно), и прочее. Она, «сама себя утверждая, остается всегда равна сама себе и находится вне власти человека» (28.77).[6] Свободное духовное существо не задано земной жизнью, «отрицает все животные требования» (39.123) животной личности, часто испытывает отвращение к ней, но не отвергает ее самою, непосредственно не подавляет ее, и даже не вступает в прямое столкновение с ней. Сила духовного существа, учит Толстой, направлена не против животной личности, а поперек ее действия, ей перпендикулярно. Действием духовного существа движение внутренней жизни человека отклоняется от вектора движения несвободной животной личности и направляется «по равнодействующей из двух сил» (28.77). Это положение Толстой иллюстрирует в образе лодки, плывущей по реке.
Лодку (человека) несет река (животная личность), гребец в ней (духовное существо) гребет не по течению и не против течения, а поперек течения, к другому берегу. Течение реки непрестанно меняется, по ходу лодки встречаются и разливы, и водовороты, и водопады, она попадает в бурю или садится на мель, тонет и всплывает в мутных или чистых водах реки, но все это не самоцельно, а служебно, все это составляет лишь поприще жизнедеятельности гребца, у которого своя задача: переплыть эту столь причудливо текущую реку и высадиться на другом ее берегу. Воды реки – не зло, а необходимое условие работы гребца, духовной работы человека. Зла в личной и вселенской духовной жизни, по сути, нет. Иное дело в общественно-государственной и общедуховной жизни людей.
Во второй и роковой приезд Нехлюдова к тетушкам «животный человек властвовал в нем и совершенно задавил духовного человека» (1.XIV). Отчего это? «И вся страшная перемена – объясняет Толстой – совершилась с ним только оттого, что он перестал верить себе, а стал верить другим» (1.XIII). В отличие от иных религиозных учителей Лев Толстой никогда не говорил «верьте мне» или «верьте всем», а призывал всегда «верить себе», исключительно голосу духовного существа в себе. «Никакой веры у меня нет, – говорит Нехлюдову старик-сектант, – поэтому я никому не верю, окромя себя» (3.XXI). Таково же и «вероисповедание» Толстого. «Веря себе, – объясняет он в «Воскресении», – всякий вопрос надо решать всегда не в пользу животного я, ищущего легких радостей, а почти всегда против него; веря же другим, решать нечего было, все уже было решено и решено было всегда против духовного и в пользу животного я» (1.XIII).
Отсюда следует, что коллективная жизнь людей управляется «всегда» движениями жизни животной личности и обслуживает ее, а не его. Так что духовному существу отдельного человека приходится иметь дело не только со своей животной личностью, но и с всесильной коллективной животной личностью, абсолютно властвующей в мире «сочных, сильных, не сомневающихся людей» («Анна Каренина», 5.XXV).
Противостояние такого рода уже отчетливо напоминает противостояние добра и зла или света и тьмы. Недаром Толстой еще в «Анне Карениной» писал о тяге к общественной деятельности как о недостатке «силы жизни» сердца, духовной жизни (3.I). Каренин знал, что люди будут активно ненавидеть его «за то, что он постыдно отвратительно несчастлив. Он знал, что за это, за то самое, что сердце его истерзано, они будут безжалостны к нему», как стая собак (5.XXI). Накал этого места романа таков, что не оставляет сомнения в позиции Толстого.
«Воскресение» – роман о победе, даже торжестве духовного Я в жизни. Несмотря на некоторые аккорды финала, «Анна Каренина» есть роман о поражении духовного Я в жизни, подвластной «злому духу» животной личности – как своей собственной, так и общей, коллективной. «Мне отмщение», надо думать, положено за поражение духовного Я в жизни героев. «Аз воздам» тут звучит глуше и по видимости имеет в виду Левина и его супружескую жизнь. Учтем, однако, что для этого поражения (или этой победы) духовного Я нужно, чтобы оно как-то заметно проявило себя в жизни. В той мере, в какой «Анна Каренина» есть роман о проблемах духовной жизни, эпиграф романа имеет отношение к тем героям, жизнь которых пусть ненадолго, но осветилась солнечным светом от «бога своего».
В «Воскресении» духовное существо проявляется и оживает в трудных, не совсем обычных обстоятельствах, но все же в повседневном течении жизни героев. В «Войне и мире» и «Анне Карениной» духовное существо проявляется получудесным образом и в самых исключительных ситуациях жизни героев. Это князь Андрей после смертельного ранения и Пьер после испытания расстрелом в плену.[7] Это Анна, Каренин, Вронский у постели прощающейся с жизнью Анны. В сцене этой действуют уже не люди, а «высшие существа», как говорил о ее участниках Ф.М. Достоевский. Если «Анна Каренина» есть роман о духовной жизни, то глава XVII четвертой части его есть смысловой узел романа и его вершина, к которой и от которой все в нем движется.[8] Понять это место – значит понять замысел Льва Николаевича.
Исследователям Толстого хорошо известно, что в самом начале работы над романом Каренин был представлен кротким, наивным, добродушным человеком, который, по одной из рукописей, имел «несчастье носить на своем лице слишком ясно вывеску сердечной доброты и невинности».[9] Таким образом, вначале Толстой создавал максимально выгодные условия для проявления духовного существа в герое. Это облегчало, но и обедняло задачу писателя, и потому он преобразил героя, придав его натуре такую жесткую установку, которая не давала и, казалось бы, не могла дать ход даже проблескам света духовного существа в нем. Но и такое, прочно запертое в рамках каренинской животной личности духовное существо вдруг все же прорвалось в нем, и он из «жалкого существа» был «вознесен на внушающую подобострастие высоту» (4.XVIII).
Вершина романа, глава XVII четвертой части, открывается указанием на то, что Алексей Александрович перед получением телеграммы от Анны с досадой вспоминал слова Долли о христианском прощении, считая, что они совершенно неприложимы в его случае. Все, что произошло в его душе потом, было неожиданно, ничем не подготовлено и обстоятельствами жизни не мотивировано. Скорее, наоборот.
Входя в свой дом, Каренин почти сознательно желал смерти жены и даже огорчился, узнав, что она все еще не умерла. Но он сам «не знал своего сердца». Сначала он при виде слез Вронского «почувствовал прилив того душевного расстройства», которого он в себе стыдился и которое негласно давало знать о духовном существе в нем. Через несколько минут, у постели умирающей жены, завеса животной личности вдруг прорвалась и рухнула, духовное существо вошло в жизнь, завладело им и превратило его в «высшее существо».
«Душевное расстройство Алексея Александровича все усиливалось и дошло теперь до такой степени, что он перестал бороться с ним; он вдруг почувствовал, что то, что он считал душевным расстройством, было, напротив, блаженное состояние души, давшее ему вдруг новое, никогда не испытанное им счастье. Он не думал, что тот христианский закон, которому он всю жизнь хотел следовать (!), предписывал ему прощать и любить своих врагов; но радостное чувство любви и прощения к врагам наполняло его душу. Он стоял на коленях и, положив голову на сгиб ее руки, которая жгла его огнем через кофту, рыдал, как ребенок».
С Алексеем Александровичем произошло то, что Толстой в романе с горькой иронией назвал «случайностью» и что в учении Толстого называется «воплощением» духовного Я в земную жизнь. Нехлюдов и близко не подходил к такому состоянию; да и Толстой в последней фразе романа не предрекает его ему. До Каренина на такую высоту вставал у Толстого только князь Андрей, и то когда он выходил из течения реки земной жизни. Каренин в таком состоянии продолжал жить и активно действовать – не час и не два, а два месяца. И это не был надрыв или выспреннее самолюбование. Он не только простил жену и Вронского, но и всем сердцем, как свою, полюбил их дочку, которая, «наверно, умерла бы, если бы он о ней не позаботился» (4.XIX). Читая это, чувствуешь, что Толстой сам поражается тайной духовного существа в человеке. Быть может, трагический образ неземного, одинокого и терзаемого людьми Каренина в четвертой части романа – абсолютный пик религиозно-художественного творчества Льва Толстого.
История, рассказанная нам Толстым, не история адюльтера и развода, которая в бесчисленных вариантах встречается на каждом шагу и завершается более или менее «благополучно». Основное действие романа только включено в течение обычной жизни, но совершается не в ней. История Каренина и Анны – это общечеловеческая и сверхчеловеческая история воскресения и гибели духовного существа в душах людей. В ней урок и вопрос, который Толстой задал сам себе и Господу.
Н.Н. Страхов говорил о продуктивности взгляда на художество Толстого с точки зрения его учения. «И наоборот, – продолжает Н.Н. Страхов свою мысль, – чтобы точно понять направление и дух его последних поучений, мы можем и должны обращаться к его чисто художественным созданиям, где этот дух раскрывается еще спокойно, еще без порыва и волнения, и потому высказывается часто с великой тонкостью и правдой, хотя прежде многие видели в этом только одну роскошь еще неслыханного художества».
В «Анне Карениной» есть нечто, что раскрывается только от учения Толстого. Но есть и то, что по определенным причинам в его учении почти не раскрыто, не разработано, отодвинуто на периферию, но что несомненно обогатило бы его.
Устами героини своего романа Толстой сказал о двух «я» в человеке намного раньше, чем вышел к людям с проповедью. «Не удивляйся на меня, – объясняет Анна себе, мужу, читателю то, что с ней произошло во время болезни, – Я все та же… Но во мне есть другая, я ее боюсь – она полюбила того, и я хотела возненавидеть тебя и не могла забыть про ту, которая была прежде. Та не я. Теперь я настоящая, я вся».
Та, которая «полюбила того» и хотела возненавидеть мужа, – животная личность Анны. Но «та не я»; настоящее «я» Анны – ее духовное Я. Так можно понять, прикладывая к героине схему учения Толстого о человеке. Однако из слов Анны мы узнаем, что она «теперь» такая, какая была «прежде», до встречи с Вронским, до того, как страсть к жизни ее животной личности завладела всей ее душой. «Я все та же…» – говорит она мужу, и только он способен понять ее.
Они поженились, не любя друг друга. То была «ошибка», как говорил Стива Облонский. В результате этой «ужасной ошибки» (4.XXI) она полюбила Вронского. Это, как говорит Стива, «факт». Но было, оказывается, в их супружеской жизни что-то, что неизвестно Стиве и что незаметно читателю канонического текста романа. Только в сцене у постели Анны мы узнаем, что Каренин «всю жизнь свою хотел следовать» идеалам Нагорной проповеди. Раньше Толстой нам об этом не поведал, как не поведал и о том, о чем, по-видимому, и нельзя было рассказать: об их сокрытой (даже для них самих), но тем не менее состоявшейся духовной связи, об уже бывшей «прежде» связи духовных существ в их душах. В супружеских отношениях Карениных была не только фальшь (которую отметила Долли) от антагонизма их животных личностей, но была на глубинном уровне и свитость их духовных существ. Сам Каренин «не знал своего сердца», но за него жена знала сердце его, знала в силу сокрытой от всех духовной свитости их.
«Он добр, он сам не знает, как он добр. Ах! Боже мой, какая тоска… Вы оттого говорите, что он не простит, что вы не знаете его. Никто не знал (!). Одна я, и то мне тяжело стало (!). Его глаза, надо знать, у Сережи точно такие же, и я их видеть не могу от этого… Теперь я понимаю, и все понимаю, я все вижу». И еще: «Он святой».
Духовное Я «воскресло» в Анне, но не так, как духовное Я воскресало в Нехлюдове. Духовное воскрешение Анны особого рода, о котором почти не говорится в религиозных трудах старца Толстого. Это воскресение именно супружеской (и шире – семейной: глаза у сына Сережи «точно такие же»!) одухотворенности, сплоченности их «духовных существ», существовавшей «прежде», но поруганной оттого, что – как теперь понимает Анна – ей «тяжело стало»…
Сцену, которую мы разбираем, часто называют «сценой прощения» (Карениным Вронского и Анны). Но это прежде всего и более всего сцена, в которой обнаруживается метафизическая (и даже мистическая) связь душ супругов Карениных. Такая связь обеспечивается не таинством брака и не восторгом влюбленности, а неприметно наживаемой свитостью «высших существ» в душах мужа и жены. Никогда не знаешь, состоялась эта связь или нет. Наступает момент, и она, как в романе Толстого, обнаруживается в супружеской жизни. Или так никогда не обнаруживается. Или вдруг обнаружится, что связи этой не было и нет.
Речь в романе Льва Толстого идет не о взаимоотношениях полов, не о моральных проблемах брака и развода, а о духовном сопутстве в супружестве. Брак сам по себе, сколь бы счастлив он ни был и сколь бы долго ни продолжался, еще не обеспечивает взаимной сплоченности духовных существ мужа и жены. Дело это решается на небесах и не сразу. В отличие от животных личностей духовные существа свободны. Их нельзя совместным житием принудить быть вместе. Единение духовных существ само по себе обладает мистической ценностью, есть одна из основ личной духовной жизни и одно из высших достояний человека как такового.
Судя по всему, супруги Каренины не давали себе отчета, что они связаны таким образом. Но вот духовная сплоченность их обнаружила себя, вошла в сознание, стала «фактом». В явленном духовном единении супругов есть, как любил говорить Толстой, «рука Хозяина», которую каждый из них ощущает по той могучей метапсихической силе взаимной ответственности, которая держит души вместе и не отпускает друг от друга. И Анна, и Каренин в минуту откровения любви своих духовных существ вполне узнали эту силу в себе. Но наперекор ей вскоре разрушили ту сплоченность, которую духовные существа образовали в них и ими. Что совсем не только их личное дело. В сплоченности, которую они посмели разрушить, присутствует Бог. Так учат многие религиозные учителя, так учил и Лев Толстой. Тут не вина прелюбодеяния, не супружеская измена и не измена морали, а измена ясно заявленным требованиям их духовных существ, измена Богу, духовная измена; и следовательно, нарушение Замысла Бога на человека. Ясно – за что им отмщение Бога, «Мне отмщение».
Самая возвышенная земная любовь может стать порочной, когда в ней исключено участие духовных существ. Такова любовь Анны и Вронского. Из сцены самоубийства Вронского ясно, что проявление света духовного существа совершенно непосильно его душе. Вронский способен жить и достойно живет только при лунном свете сознания. Духовное существо Анны Карениной не может входить в какую-либо новую супружескую связанность по другой причине. В душе человеческой много разных свободных мест, так или иначе заполняемых в жизни и вновь освобождаемых. Но место, предназначенное для другого духовного существа, в душе человека только одно. И место это занято в душе Анны. Супружеская духовная свитость возможна в жизни только раз. Что хорошо знал Левин (2.XII). Что интуитивно знает каждый душевно здоровый юноша и каждая чистая душою девушка, которые прежде всякого опыта любви убеждены, что любить в целой жизни должно один раз, и мечтают только о такой любви. Единобрачие – закон супружеской личной духовной жизни, в который нельзя разлюбить и полюбить другого. Не будь духовной свитости Каренина и Анны, не было бы, возможно, и вины Анны перед Ним, не было бы и «Мне отмщения». Но не было бы, в таком случае, и романа Толстого.
Анна поставлена автором в безвыходную ситуацию жизни. Ее духовное существо связано с мужем, но ее животная личность с всею страстью невостребованной любви замкнуто на «другом Алексее», Алексее Вронском. Мало того, облик животной личности мужа с некоторых пор стал отвратителен для нее. Муж мертвит ее земную личность, а Вронский ее эмоционально оживляет. Но с ним не может быть духовной свитости, а с мужем она завязана в такой узел, развязать который не дано человеку. Эта крайняя ситуация необходима Толстому потому, что она наиболее ярко высвечивает трагедию изначальной раздвоенности, заложенной во внутренней жизни человека.
Символический образ этой трагедии и этой раздвоенности дан Толстым в одной короткой фразе все той же главы XII четвертой части романа. Анна говорит мужу, что в ней два «я», что она вот-вот умрет, что ждет от него прощения, что он «слишком хорош» (то же самое говорит Наташа об умирающем князе Андрее), и в эту высочайшую минуту в его и ее жизни «она держала горячей рукой его руку, другою отталкивала его»! Слова эти просятся в эпиграф к роману.
Мы знаем, что, по учению Толстого, духовное существо не противоборствует с животной личностью. Не противоборствуют они и в душе Анны. Но духовная любовь к мужу тянет ее духовное существо в одну сторону, а любовь к Вронскому – совсем в другую. И получается, что духовное существо и животная личность разрывают душу Анны. Она знает: «…хуже, чем погибла… Я – как натянутая струна, которая должна лопнуть. Но еще не кончено… и кончится страшно… Я чувствую, что лечу головой вниз в какую-то пропасть, но не должна спасаться. И не могу» (4.XXI).
Трагедия Анны Карениной, по сути дела, содержится в самой структуре человеческой души, в которой вместе обитают «два человека», способные тянуть в противоположные стороны. Трагедия Анны есть предельное выражение трагедии, исходно присущей жизни человека как таковой. «Серьезность Вашего тона просто страшна, – писал Н.Н. Страхов Толстому в марте 1877 года, – такого серьезного романа еще не было на свете».[10]
Анна говорила, что не должна спасаться, она сама и не спасалась. Страсть Вронского в пылкую минуту сообщилась ей, и она, «бледнея все более и более», сдалась ему. «Все-таки, – говорит она, – что-то ужасное есть в этом (в ее и Вронского любви. – И.М.) после всего, что было», то есть после того, как все они побывали «высшими существами». «Любовь наша, – отвечает ей Вронский, – если бы могла усилиться, усилилась бы тем, что в ней есть что-то ужасное» (4.XXIII). Вронский, не понимая, полушутит. Но его устами Толстой говорит жуткую правду. Вспомним, что и Нехлюдову перед соблазнением было жалко беззащитную Катюшу, «но, странное дело, эта жалость только усиливала вожделение к ней» (1.XVII).
Толстой не пожелал оставлять себя и читателя в ужасе перед так устроенной жизнью. В противовес безвыходно трагической ситуации Анны он создает другую ситуацию жизни, ситуацию Кити и Левина, в которой выполнены все предварительные условия для полноценной и гармоничной супружеской жизни.
Судьба Кити устроена автором так, что прежде, чем стать женой Левина, она испытала (все с тем же Вронским!) и в полной мере изжила в себе то могучее прельщение животной личности, которое погубило Анну. Мало того, в ней после этого (но до замужества) сама собою пробудилась духовная жизнь. И этого мало – она сама, без участия мужа и до него, постигла, как трудно «удержаться на той высоте, на которую она хотела подняться», и даже «почувствовала всю тяжесть этого мира горя, болезней, умирающих, в котором она жила» (1.XXX). С такой духовной зрелостью и имея мужем Левина, нечего страшиться участи Анны. Это – удача для Кити и Левина, «случайность» в жизни, но ведь не правило ее. Удача жизни этих героев нужна автору во многих отношениях. И не в последнюю очередь для того, чтобы не в полной безнадежности вывести на просторы романа те грозные злые силы, которые губят Анну и ее мужа.
В духовной биографии Каренина и Анны Толстой незаметно обошел только один пункт: как произошло «воскресение» супружеского духовного существа Анны. В романе мы надолго расстаемся с ней в тот момент, когда она сообщает мужу, что родит, и думает: «…разве может человек с такими мутными глазами, с этим самодовольным спокойствием чувствовать что-нибудь?» (4.IV) В следующий раз мы вместе с Карениным видим «глаза ее, которые смотрели на него с такой умиленной и восторженной нежностью, какой он никогда не видел в ней». У постели жены Алексей Александрович стал «высшим существом» не сам по себе, а под прямым воздействием того, что неведомо как произошло в душе его жены. Ее состояние сообщилось ему по каналу духовной связи, существовавшему только для них двоих; и дало им двоим высочайшее благо. «Она обняла его плешивую голову, подвинулась к нему и с вызывающей гордостью подняла глаза к небу (!).
– Вот он, я знала. Теперь прощайте все, прощайте!» (4.XVII).
Он и она – один и тот же гребец, слитый из духовных существ мужа и жены; они заодно гребут в одном направлении, но сидят в разных лодках и даже в разных водах реки. Ни в какой из этих лодок ни на минуту нельзя перестать грести – иначе они унесутся друг от друга по своим течениям. Воскресение духовного существа Анны, объясняет Толстой, было произведено ощущением близости смерти, и как только опасность миновала, Каренин заметил, что она тяготится им (см. 4.XIX). Вскоре она скажет Вронскому: «Да, ты овладел мною, и я твоя» (4.XXIII).
Анна подняла свою душу и душу мужа на недосягаемую духовную высоту, на которой он мог держаться только вместе с ней, и затем пожелала «быть избавленной от его постылого присутствия» (4.XX). Каренину предстоит выдержать поругание духа в себе. Его сила ответственности за судьбу их общей супружеской одушевленности такова, что он готов снести все. Не Анна должна была «спасаться», это мог и должен был сделать за нее муж. Каренин отчетливо понимал это, но не смог и не сделал. Почему?
«Благой духовной силе» в душе Каренина противостоит «другая, грубая, столь же или еще более властная сила, которая руководила его жизнью» (4.XIX). Он сознавал «могущество этой грубой таинственной силы», которая вразрез духовному существу подымала в его душе «чувство злобы, разрушившее его спокойствие и всю заслугу его подвига». Каренин «чувствовал себя бессильным; он знал вперед, что все против него и что его не допустят сделать то, что казалось ему так естественно и хорошо, а заставят сделать то, что дурно, но им кажется должным». Силу, о которой говорит Толстой, его герой замечал в глазах всех, кто знал о его положении, и «в глазах адвоката и теперь в глазах лакея. Все как будто были в восторге, как будто выдавали кого-то замуж. Когда его встречали, то с едва скрываемой радостью спрашивали об ее здоровье» (4.XIX).
В штрихах этих узнается некоторая вневременная человеческая сила, низменная, агрессивная и злорадная – та, которая с радостью губит всякие движения жизни духовного существа. Толстой сам в ужасе перед этой метафизической силой, силой совокупной животной личности, которая правит в мире людей и которая, как это объяснено в «В чем моя вера», есть главное зло этого мира. Выход духовного существа в нашу жизнь, благодаря этой силе, становится делом отнюдь не безопасным. Дневной свет духовного существа светит в мир героев романа из тяжелых туч, не может пробиться сквозь них, а когда пробивается на мгновение, то тотчас гасится «злым духом» коллективной животной личности. Не будь линии Левина и Кити, и роман Толстого создавал бы впечатление бессилия духовного существа и невозможности его выживания в этом мире.
Каренин, как и Анна, в результате оказался «для самого себя в безвыходном положении»; он не мог примирить то, что было, когда духовное существо овладело им, с тем, что стало, когда «как бы в награду за все это, он теперь очутился один, опозоренный, осмеянный, никому не нужный и всеми презираемый» (5.XXI). Кончилось тем, что «в особенности его прошение, никому не нужное, и его заботы о чужом ребенке жгли его сердце стыдом и раскаянием» (5.XXV).
Вот так. Духовное существо, конечно, не может погибнуть, но может оказаться в плену и замереть. У Каренина, как и у Анны, как и у самого Толстого в то время, «винт свинтился» (7.XXX).
Тема «злой, грубой и таинственной силы» в романе с точки зрения духовной биографии Льва Толстого предельно значима. Во времена завершения «Анны Карениной» Толстой, как рассказано в «Исповеди», видел, «что жизнь есть бессмыслица, суета и зло и что лучше не жить. Я не мог не знать этого и, когда узнал, не мог закрыть на это глаза» (23.29). Солнечный свет духовного Я Толстого прежде всего осветил то, что человеческая жизнь есть Царство животной личности, власть ее могущественной грубой силы. В душах людей живут отблески духовного Я, но выдержать прямое явление духовного Я в условиях Царства животной личности человеку, вообще говоря, непосильно. Состояние души и мысли Льва Николаевича накануне духовного перелома ставило глобальный вопрос, ответ на который через несколько лет был найден и зафиксирован в проповеди Толстого, где, как мы знаем, он крушил Царство животной личности (везде, где только он видел его проявления) и полагал заменить его новым Царством, основанным исключительно на проявлениях жизни и сознания духовного существа в людях.
Глава 1
О духовной любви
1
«Все люди с самых первых детских лет знают, что кроме блага животной личности, есть еще одно, лучшее благо жизни, которое не только независимо от удовлетворения похотей животной личности, но, напротив, бывает тем больше, чем больше отречение от блага животной личности»(26.382).
Благо это – ЛЮБОВЬ.
Животная личность любит свойственной ей любовью. У высшей души своя, истинная любовь. Состояние жизни высшей души, состояние истинной любви возникает тогда, когда человек переносит центр тяжести своей жизни из животной личности в высшую душу.
«Истинная любовь, прежде чем сделаться деятельным чувством, должна быть известным состоянием. Начало любви, корень ее, не есть порыв чувства, затемняющий разум, как это обыкновенно воображают, но есть самое разумное, светлое и потому спокойное и радостное состояние, свойственное детям и разумным людям. Состояние это есть состояние благоволения ко всем людям, которое присуще детям, но которое во взрослом человеке возникает только при отречении и усиливается только по мере отречения от блага личности» (26.390).
Исполнение заповедей любви к Богу и ближнему дает людям жизнь истинную. Услышав это от законника, Иисус «сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай и будешь жить» (Лк.10:28). «Любовь истинная есть самая жизнь»*, – комментирует это место Толстой (26.393), во главу угла учения которого поставлено определение истинной жизни как любви.
«Любовь по учению Христа есть сама жизнь; но не жизнь неразумная, страдальческая и гибнущая, но жизнь блаженная и бесконечная»(26.393,4), то есть не жизнь животной личности, а жизнь высшей души. Человек знает истинную любовь в себе только тогда, когда полнокровно живет жизнью высшей души.
Любовь есть жизнь не в том смысле, что любовь повышает тонус и полноту жизни или что любовь есть самое важное проявление жизни, и не в том, что любовь есть существенное свойство жизни, и не в том, что любовь есть одно из главнейших переживаний, свойственных жизни, и даже не в том, что сама жизненность адекватно выражается в переживаниях любви, а в том, что чувствовать жизнь в себе, чувствовать себя живущим есть то же самое, что любить, что любовь совпадает с чувством себя живущим и, следовательно, тождественна самой жизненности. Возможно, что понятнее сказать не любовь есть жизнь, а жизнь есть любовь.
Любовь-добро, любовь-благоволение есть сама жизненность, которой живет высшая душа. Такой любовью любят не за что-нибудь, не для чего-нибудь и не почему-нибудь. «Можно любить всякого человека, – записал Толстой в 1907 году. – Только, чтобы любить так человека, надо любить его не за что-нибудь, а ни за что. Только начни любить так, и найдешь, за что»(56.35). Для такой любви вообще «не нужно предмета», как говорила брату княжна Марья в романе Толстого.
По тому, как люди легко и уверенно произносят слова: «Жизнь есть любовь» или «Любовь есть Бог», можно заключить, что они плохо понимают их. Тождество Любви и Жизни не поддается рациональному осмыслению и вряд ли доступно уму человеческому. Адекватно воспринимать и обсуждать жизнь и любовь, как и другие явления духа, средствами интеллекта всегда очень трудно. Строй интеллекта не соответствует такого рода явлениям. Рассуждениями и доказательствами невозможно свести жизнь к любви или наоборот.[11]
Тождество Любви и Жизни познается личным прозрением, и не другого человека, а только собственным. По прозрению Льва Толстого во внутреннем мире человека существуют две души, два потока жизнененности и, значит, два рода любви. Если философ или психолог говорит, что родов любви пять[12] или двадцать пять (обычное утверждение в наше время), то он должен ясно представлять, что тем самым он утверждает наличие пяти или двадцати пяти пронизывающих потоков жизненности, пяти или двадцати пяти душ в структуре человека, и определить их все.
Божественная высшая душа явлена в нас и определена как своим особым чувством жизни, так и своим особым сознанием жизни. Высшая душа сознает себя живущей, обладает сознанием своей жизни – «разумом»[13] или «разумным сознанием» в терминологии Толстого. И она же чувствует жизнь в себе, обладает чувством своей жизни – любовью-благоволением ко всему. Любовь-благоволение есть та жизненность, которой может жить только высшая душа человека. Как назвать эту жизненность и это чувство жизни высшей души? «Истинным», «подлинным», как называл Толстой в проповеднических целях? Или «христианским», «евангельским»? Я буду пользоваться понятием агапической любви, которое испокон веков бытует в евангельском лексиконе.[14]
Слово «агапическое» мы будем использовать не только в качестве обозначения определенного типа любви, но и для обозначения соответствующей ей жизни и ее состояния. Мы будем говорить об «агапической жизненности», в поле которой способна обрести себя высшая душа. Мы будем говорить об агапическом чувстве жизни высшей души, которое много раз описывал Толстой. Две дневниковые записи 1907 года:
«Как редко встречаешь и – еще реже – испытываешь истинную любовь – любовь к любви, любовь не только ко всем людям, но ко всему, к Богу»(56.12).
«Как ни с чем не сравнимая, удивительная радость – и я испытываю ее – любить всех, всё, чувствовать в себе эту любовь или, вернее, чувствовать себя этой любовью. Как уничтожается все, что мы по извращенности своей считаем злом, как все, все – становятся близки, свои…[15] Да не надо писать, только испортишь чувство.
Да, великая радость. И тот, кто испытал ее, не сравнит ее ни с какой другой, не захочет никакой другой и не пожелает ничего, сделает все, что может, чтобы получить ее… Ах, как бы удержать ее или хоть изредка испытывать ее. И довольно»(56.153–154).
Высшей душой (а не животной личностью) можно любить и отечество (и тогда это не будет национализм, против которого воевал Толстой), и искусство (и тогда возникнет другое искусство, за которое ратовал Толстой), и науку (и тогда это будет иная, чем наша, сегодняшняя, идущая в тупик, наука). Но наиполнейшим и высочайшим проявлением агапической жизненности высшей души и агапического чувства жизни в человеке является любовь к врагу. Любовь к врагу, в этом смысле, маркирует агапическое чувство жизни.
«Если у тебя есть враг, отравляющий твою жизнь, – спрашивает Толстой, – надо ли тебе желать избавиться от него?» И отвечает: «Нет. Если ты сумеешь воспользоваться своим врагом так, чтобы выучиться на нем: прощать, любить врагов, то, что приобретаешь этим, гораздо больше благо, чем то, которое ты бы имел, избавившись от врага. И не только больше; но то было благо временное, а это – вечное, не для одной только этой жизни» (54.108 – 1902 г.).
Только жизнь высшей души есть, по Толстому, подлинная жизнь, искаженным подобием которой живет животная личность. Поэтому агапическая любовь есть одновременно и корень жизни человека как такового.
2
«И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф.18:3). «Словам этим, – замечает Толстой, – так же, как и блуднице, побиваемой камнями, особенно посчастливилось, и бесчисленное количество рассуждений, чувствительных фраз и картин написано на эту тему, но смысл этих много раз повторенных слов остается не только туманным, но совсем непонятным» (24.574–575).[16]
Человек рождается с высшей душой и низшей душой в себе. В младенчестве, когда низшая душа еще не задействована, ярко сияет высшая душа. Потом низшая душа забивает свечение высшей души. Высшая душа есть в ребенке, но еще не способна противостоять низшей душе, не умеет работать в нем так, как низшая душа. В этом смысле можно сказать, что высшая душа введена, но не взведена в человеке, то есть не может совершать ту внутреннюю работу, которую Толстой считал необходимой для исполнения воли Бога и спасения человека от смерти.
Человек рождается на рост и на вырост высшей души в себе.
«Что же значит быть похожими на детей? – спрашивает Толстой. – Быть глупым как дети, этого не мог сказать Иисус, увещевавший людей к разумению. Быть слабым как дети, это ни к чему не нужно. Быть не злобным как дети, это неправда, дети бывают очень злы. Быть готовым на все, любить Бога и ближнего, – дети уже никак не могут, дети – самые эгоистические существа» (24.575).
Прелесть «чистоты» детства для постоянно живущего во внутреннем противостоянии и постоянно «обдумывающего себя» взрослого в том, что малый ребенок еще не способен на продуманные каверзы, обслуживающие нужды уже ставшей самовластной животной личности взрослого человека. В ребенке нет еще того напора «заблуждений плоти», которые составляют жизнь взрослого. Какие-то стороны животной личности ребенка уже раскручиваются в нем, какие-то еще не включены и спят. Но малый ребенок «невинен» – и потому, что без работы высшей души он (в сравнении со взрослым) внутренне бесконфликтен, и потому, что его животная личность не обрела еще полную силу своей вольности, и потому, что он еще не испорчен злом взрослых.
Всего важнее для Льва Николаевича то, во что верят не познавшие взрослую жизнь дети. Дети же верят, «что жизнь – добро». А «это – и больше ничего – есть учение Иисуса» (24.578).
Дети – естественные носители агапической жизненности и любви.
«Кто из живых людей не знает того блаженного чувства, хоть раз испытанного, и чаще всего только в самом раннем детстве, когда душа не была еще засорена всей той ложью, которая заглушает в нас жизнь, того блаженного чувства умиления, при котором хочется любить всех: и близких, и отца, и мать, и братьев, и злых людей, и врагов, и собаку, и лошадь, и травку; хочется одного, – чтоб всем было хорошо, чтобы все были счастливы, и еще больше хочется того, чтобы самому сделать так, чтоб всем было хорошо и радостно. Это-то и есть, и эта одна есть та любовь, в которой жизнь человеков» (26.394).
Это цитата из «О жизни».[17] Через несколько лет Толстой запишет в Дневнике:
«Если бы мне дали выбирать: населить землю такими святыми, каких я только могу вообразить себе, но только чтобы не было детей, или такими людьми, как теперь, но с постоянно прибывающими свежими от Бога детьми, я бы выбрал последнее» (52.74).
Естественная агапическая любовь детей и их вера в то, что жизнь – добро, практически выражается в естественном же исполнении ими заповедей Нагорной проповеди.
«1) Не сердиться и прощать обиды, сделать так, чтобы никто не имел гнева на тебя, – дети делают это всегда, никто не сердится на детей.
2) Не блудить – дети не блудят.
3) Не клясться – дети не понимают, что такое клятва.
4) Не судить – они только боятся суда.
5) Не иметь врагов государственных – они и не понимают этого» (24.575).
Недруги Толстого говорят, что он свел все евангельское учение к нескольким заповедям Нагорной проповеди. Разумеется, это не так. Нагорная проповедь занимает особое место в учении Толстого потому, что она – сфера прозрений Льва Николаевича о человеке. Нагорная проповедь для Толстого не столько определенное число заповедей сакрального текста, сколько те основные линии, на которые раскладывается жизнь человека. Линии эти Толстой множество раз осмысливал, переосмысливал, доосмысливал. Они составляли конструктивный стержень его проповеди разных лет жизни. Изучать развитие проповеди Толстого – значит изучать перемены смыслов и ударений в трактовке этих неизменных линий жизни. Это, впрочем, в чистом виде научная работа.
В каждой линии жизни расставлены свои соблазны. Через соблазны «зло завязывает нас в плотской погибели. Насколько мы развяжем это зло, настолько мы приобретем жизнь» (24.895). Соблазны сами по себе – ни зло, ни добро, а западни, «через которые зло входит в мир и которых должны бояться люди». Создает и расставляет эти ловушки и западни животная личность в человеке, попадает же в них – сознание его высшей души.
Живя в агапической жизненности, дети не имеют соблазнов. И, взрослея, они сами не создают их себе. Соблазны им прививают взрослые. «И ни один ребенок не погибает по воле Бога; все погибают только от людей, потому что люди отманивают их от добра», внушая ложные представления. Выбраться из ловушки соблазна, в которую человек введен в раннем возрасте, чрезвычайно трудно. И потому «невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят; лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих» (Лк. 17:2–3). По мнению Толстого, тут говорится не о суровом наказании взрослого за соблазнение ребенка, а о погибели ребенка, которому воспитатель надевает жернов на шею и с ним бросает в глубины взрослой жизни (24.577).
Люди давно жили бы в Воле Бога и были бы счастливы, убежден Лев Николаевич, если бы сами не портили соблазнами своих детей. Надо сохранить данное человеку. Спасение мира людей от погибели – в ответственном и правильном воспитании детей, воспитании, направленном на то, чтобы и во взрослом состоянии сохранить исходную натуральную агапичность и несоблазненность, свойственную душе ребенка. Отсюда такое внимание религиозного учителя Толстого к педагогическим проблемам.
Разумеется, в полной мере задачу «сохранения» выполнить невозможно. И следовательно, появляется необходимость «восстановления» несохраненного. Кроме того, в задачу жизни человека на земле входит не только сохранение, но и взращивание высшей души в ее агапической жизненности. Взрастить высшую душу в агапической любви также значит восстановить ее.
Греческое слово, которое в тексте Евангелия переводится как «воскресение», в смысле оживления после смерти и повторного земного существования, Толстой везде переводит либо словом «пробуждение», либо словом «восстановление».[18]
В Евангелии: «А сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят. И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения» (Лк. 20:35–36).
Перевод Толстого: «Те же, которые сделаются достойными той жизни и восстановления к жизни от смерти, не женятся и замуж не выходят, потому что они и умирать уже не могут, потому что они делаются волей Божией, делаются сынами Бога и сынами восстановления» (24.611).
Восстановленный человек живет агапической жизнью, в которой, разумеется, не женятся и замуж не выходят.
Человек «мертвый», то есть живущей только земной смертной жизнью, обладает своей волей, самоволием животной личности. Человек «живой», то есть живущий истинной, агапической и несмертной жизнью, вместо вольности своей животной личности становит своей волю Бога – и сам делается волей Бога. Впоследствии Толстой пользовался и понятием «воскресения», но всегда понимал его «как пробуждение жизни истинной в жизни плотской и соединение ее с Богом» (24.617).
Иван Ильич в рассказе Толстого «воскрес», стал живым оттого, что пожалел ближних своих.[19] Есть нервическая жалостливость животной личности, и есть жалость-доброта, жалость-милость высшей души. Это последнее чувство жалости – род агапического чувства. Вот как Толстой в 1906 году объяснял, что это такое:
«На народном языке жалеть значит любить. И это верное определение того рода любви, который больше всего связывает людей и вызывает их любовную деятельность. Есть любовь, когда, видя высоту, правду, радость человека – существа, чувствуешь свое единство с ним, желаешь быть им. Это любовь низшего существа к высшему. И есть любовь, и самая нужная – перенесение себя в другого, страдающего человека, сострадание, желание помочь ему. Это: жалеть – любить. Первая любовь может перейти в зависть, вторая может перейти в отвращение. – Первая любовь: любовь к Богу, к святым, к лучшим людям, свойственная человеку, но особенно важно развить в себе вторую и не дать ей извратиться в отвращение. В первой любви мы жалеем, что мы не такие, как те, кто лучше нас, во второй любви мы жалеем, что люди не такие, как мы: мы здоровы, целы, а они больны, калеки. Вот тут надо особенно стараться выработать в себе такое же отношение к духовно больным людям, развращенным, заблуждающимся, гордым (что особенно трудно), как и к больным телесно. Не сердиться на них, не спорить с ними, не осуждать их, а если не можешь помочь, то жалеть их за то, те духовные качества и болезни, которые они несут, не легче, а еще тяжелее телесных» (55.278–279).[20]
Евангельский эпизод, по которому женщина в доме Симона разбила драгоценный сосуд и вылила мирро на Иисуса, Толстой комментирует так: «Она отбросила богатство во имя жалости. Она сделала безумное для сынов мира сего дело, для дела света, для жалости. Она в своем поступке соединила оба основания учения Иисуса: отдать все, что у тебя есть, и жалеть и любить ближнего» (24.415).
Повседневно агапическое чувство жизни выражается чувством жалости. По агапическому чувству ближний тот, кого жалеет высшая душа. И это понятно. Верно, что для агапической любви предмет любви не нужен. Но так же верно и то, что объект для агапической любви нужен затем, чтобы вызывать в себе самоистекание агапической жизненности. Не отсюда ли христианский культ жалости к убогим, сирым, немощным, нищим, всем тем, через которых легче (свободнее) вызывается в себе поток собственно агапических переживаний?
3
Животной личности чувство любви «представляется одним из тех тысяч разнообразных настроений, в которых бывает человек во время своего существования: бывает, что человек щеголяет, бывает, что увлечен наукой или искусством, бывает, что увлечен службой, честолюбием, приобретением, бывает, что он любит кого-нибудь» (26.384).
Любовь животной личности далеко не всегда есть деятельность добра или переживание добра. Это то самое чувство, «по которому отец, мучая себя, отнимает последний кусок хлеба у голодающих людей, чтобы обеспечить своих детей; это то чувство, по которому любящий женщину страдает от этой любви и заставляет ее страдать, соблазняя ее, или из ревности губит себя и ее; то чувство, по которому бывает даже, что человек из любви насильничает женщину; это то чувство, по которому люди одного товарищества наносят вред другим, чтобы отстоять своих; это то чувство, по которому человек мучает сам себя над любимым занятием и этим же занятием причиняет горе и страдания окружающим его людям; это то чувство, по которому люди не могут стерпеть оскорбления любимому отечеству и устилают поля убитыми и ранеными, своими и чужими» (26.385).
В отличие от агапического чувства, для которого «не нужно предмета», любовь животной личности есть непосредственное чувство предпочтения к кому-то или чему-то, чувство особого пристрастия, которое человек почему-либо начинает испытывать. «Страстность проявления этих предпочтений только показывает энергию животной личности» (26.389).
Но у каждого свои предпочтения и пристрастия, и они заявляют свои требования вполне беспорядочно, а то и все вместе. И потому такие чувства любви в разных людях «должны прийти в столкновение и произвести нечто не благое, а совершенно противное понятию любви» (26.388), «тому понятию, которое мы все невольно соединяем со словом любовь» (26.384), то есть добра и блага.
«Происходит то, что сказано в Евангелии: «Если свет, который в тебе – тьма, то какова же тьма?» Если бы в человеке не было ничего, кроме любви к себе и к своим детям, не было бы и 0,99 того зла, которое есть теперь между людьми. 0,99 зла между людьми происходит от того ложного чувства, которое они, восхваляя его, называют любовью и которое столько же похоже на любовь, сколько жизнь животного похожа на жизнь человека»(26.388). «Величайшее зло миру» приносит «и так восхваляемая любовь к женщине, к детям, к друзьям, не говоря уже о любви к науке, к искусству, к отечеству, которая есть не что иное, как предпочтение на время известных условий животной жизни другим»(26.389).
Такие места писаний Льва Толстого часто вызывают негодование читателей. Негодующий читатель, видимо, не понимает, что Толстой не призывает ликвидировать в себе любовь к детям, друзьям, жене, отечеству, искусству и не стремится к этому. Он говорит о том, что любовь такого рода «это только известные предпочтения одних условий блага своей личности другим. Когда человек, не понимающий своей жизни, говорит, что он любит свою жену или ребенка, или друга, он говорит только то, что присутствие в его жизни его жены, ребенка, друга увеличивает благо его личной жизни» (26.389).
Любовь животной личности «увеличивает временное благо личности человека» (26.394), не более того. Но определяет ли такая любовь чувство жизни и саму жизненность, в поле которой живет самость человека, его животная личность? На этот вопрос Толстой в разные времена отвечал по-разному. С точки зрения Толстого середины 80-х годов, эта любовь не фикция и не нелюбовь, а «есть только дичок, на котором может быть привита истинная любовь и дать плоды ее. Но как дичок не есть яблоня и не дает плодов или дает плоды горькие вместо сладких, так и пристрастие не есть любовь и не делает добра людям или производит еще большее зло» (26.389). Суровый приговор. Но приговор этот не отрицает того, что любовь-пристрастие так же точно выражает чувство жизни животной личности, как агапическое чувство выражает чувство жизни высшей души. Любовь-пристрастие неоспоримо входит в целостное чувство жизни человека.
Нет высшей души в человеке, не пробуждена она в нем в той степени, чтобы диктовать свои требования человеку, и он живет только чувством жизни любви-пристрастия. Любовь-пристрастие – это то чувство жизни, которым, практически говоря, живут и чувствуют себя живущими почти все люди на земле. И нет признаков того, что жизнь человеческая может протекать без пристрастной любви.
По представлениям Толстого, агапическое чувство жизни человека «становится возможным только при отречении от блага животной личности».[21] Это значит, что «все соки жизни переходят в один облагороженный черенок истинной любви, разрастающийся уже всеми силами ствола животной личности. Учение Христа и есть прививка этой любви, как Он и сам сказал это. Он сказал, что Он, Его любовь, есть та одна лоза, которая может приносить плод, и что всякая ветвь, не приносящая плода, отсекается»(26.389).
Человек «отсекается», если не будет плода, если высшая душа не возьмет верх в нем. Чтобы этого не произошло, в человеке должно проявиться «разумное сознание», выдвигающее высшую душу на передний план. Высшая душа отодвинет благо животной личности и вместо него установит благо любви-благоволения. И все «соки жизни» животной личности должны ассистировать этому процессу. Но – как?
У Толстого один ответ: «Любовь есть предпочтение других существ себе – своей животной личности» или их совокупности (26.390). Это не значит, что жить следует для блага других животных личностей. Это не значит и то, что схождение блага животной личности на нет – обязательное условие «прививки лозы». Тут не вычитание, а отношение, дробь:
«Величина любви есть величина дроби, которой числитель, мои пристрастия, симпатии к другим, – не в моей власти; знаменатель же, моя любовь к себе, может быть увеличен или уменьшен мною до бесконечности, по мере того значения, которое я придам своей животной личности. Суждение же нашего мира о любви, о степенях ее – это суждение о величине дроби по одним числителям, без соображения об их знаменателях» (26.391).
«Величина» дроби, которую обозначил Толстой,[22] определяет духовное достоинство текущего состояния жизни человека. Увеличение значения этой дроби определяет главный показатель внутридушевной жизни человека – показатель его духовного роста. Процессы в животной личности могут служить духовному росту человека и, следовательно, его «спасению» и могут тормозить его, останавливать его духовное восхождение и, следовательно, губить его, «отсекать» его ветвь из жизни.
Обратите внимание, что и в числителе, и в знаменателе этой дроби – животная личность. Тут вроде бы нет ни разумного сознания, ни любви-добра, ни высшей души. Хотя последняя опосредованно присутствует в знаменателе в качестве силы, уменьшающей любовь к себе животной личности.
«Истинная любовь всегда имеет в основе своей отречение от блага личности и возникающее от того благоволение ко всем людям. Только на этом общем благоволении может вырасти истинная любовь к известным людям – своим и чужим. И только такая любовь[23] дает истинное благо жизни и разрешает кажущиеся противоречия животного и разумного сознания» (26.391).
Отсюда:
«Только тот, кто не только понял, но жизнью познал, что «сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня, сбережет ее», – только кто понял, что любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную, только тот познает истинную любовь. «И кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. Если вы любите любящих вас, то это не любовь, а вы любите врагов, любите ненавидящих вас». Не вследствие любви к отцу, к сыну, к жене, к друзьям, к добрым и милым людям, как это обыкновенно думают, люди отрекаются от личности, а только вследствие сознания тщеты существования личности, сознания невозможности ее блага, и потому вследствие отречения от жизни личности познает человек истинную любовь и может истинно любить отца, сына, жену, детей и друзей» (26.390).
Не перестать любить родителей, детей и жену призывает Толстой, а любить иначе – все больше и больше любить их высшей душою и все меньше и меньше животной личностью.
«Высшее благо, совершенство, к которому мы все (и вы, я уверен) стремимся, в том, чтобы любить Бога и Его проявления во всем, особенно же в таких же, как мы, существах, в людях, и любить одинаково, равно всех. В этом идеал страшно далек от всех нас, но все-таки такой, к которому нельзя не стремиться, и мы все стремимся. Любим же мы не только отца, мать, жену, сестру, дочь, детей больше других, но любим, не можем не любить больше исключительно милых, умных, добрых, смиренных, тогда как надо бы наоборот. И на эту – так как дело любви и закон любви – высший закон жизни, – на эту равную любовь ко всем должны бы быть направлены все наши силы» (78.160)
Агапическая любовь – это «любовь не к близким, симпатичным людям (это не любовь), а к ближним ко всем одинаково»(80.209).
«С точки зрения христианина любимое существо есть только одно – Бог сам в себе и тот Бог, который проявляется без исключения во всех людях, и потому исключительно любимого существа для христианина не должно быть. Исключительная любовь есть для христианина та эгоистическая слабость, с которой он должен бороться»(79.91).
«Любовь к Богу означает, по моему мнению, любовь к совершенству, любовь любви, так как Бог есть любовь по прекрасному посланию Иоанна (I Ин. 4:16, 20). Можно понимать так, что, любя Божественное в людях (т. е. их высшую душу. – И.М.), ты любишь Бога, можно и так, что, только любя Бога, ты любишь людей. Оба понимания, по моему мнению, правильны»(81.193).
Любовь к Богу и любовь к ближнему – неразрывны.
«Любить, чтобы не каяться потом, надо, как сказал Христос фарисею (Мф. 35, 40), Бога и ближнего. Любить Бога – значит любить совершенство добра и стараться приближаться к нему. Любить ближнего – значит любить всех людей одинаково и своих и чужих, и русских, и японцев, и евреев, а пуще всего, как сказал Христос, любить врагов, обижающих вас» (81.88).
Любовь к ближнему без любви к Богу – невозможна.
«Единственная возможность разумной, свободной (потому что только проявления любви ничем не могут быть воспрепятствованы) и радостной жизни есть жизнь, целью которой поставлено благо других людей, жизнь, руководимая любовью к ближнему. Человек же, между тем, до такой степени связан своею телесною личностью, что не переставая помнит о себе, страдает, боится за себя, заботится о себе и только временами может заставлять себя помнить, заботиться, страдать за ближнего. Если он иногда и занят деятельностью, имеющей целью благо ближнего, то большей частью делает это для получения одобрения, похвалы от людей, т. е. опять же для себя. Как выйти из этого? В этом тот вопрос, который Вы мне ставите.
Выход есть только один, указанный нам древней мудростью и подтвержденный христианством: прежде, чем любить ближнего, или для того, чтобы любить ближнего, надо любить Бога всем сердцем и всем помышлением. Только через такую любовь к Богу можно любить ближнего. Всякая любовь к ближнему, корень которой не в любви к Богу: любовь к родным, к друзьям, к приятным людям, благодушие ко всем, вызываемое хорошим расположением духа, часто принимаемое за любовь, не есть та любовь, проявление которой дает смысл и радость жизни. «Если любите любящих вас, то делаете то же, что язычники», т. е. не следуете еще христианскому закону любви, корень которой в любви к Богу и которая вследствие этого не ограничивается близкими и людьми, любящими нас, но распространяется на всех, на чуждых нам людей и особенно вследствие препятствия, которое она должна преодолеть, усиливается, направляясь на враждебных нам людей – любовь к ненавидящим нас и к врагам.
Только любовь к Богу, т. е. любовь к истине, к добру может если не уничтожить, то преодолеть наш эгоизм и привести нас к настоящей любви к ближнему. И любовь эта возникает не сама собой, а достигается усилием.
Прямо, непосредственно любить ближнего настоящей любовью нельзя так же, как нельзя прямо по телефону передать своей речи соседу, а надо обратиться к центральной станции. Точно так же, чтобы истинно любить ближнего, надо обратиться к Богу и из любви к нему, к истине, к добру сделать усилие для того, чтобы любить ближнего» (74.58–59).
4
«Ответить же вам мне хотелось и нужно то, – пишет Толстой в письме 1908 года, – что Вы находитесь, как я думаю, под очень обычным и очень вредным суеверием о том, что влюбленность есть нечто близкое к любви и очень хорошее чувство, тогда как это и дурное и очень вредное, всегда мучительное по своим последствиям чувство. Можно предаваться ему, не признавая никакого религиозно-нравственного закона, но признание законности влюбления и любви как закона жизни несовместимы. Любовь только тогда любовь, когда она самоотверженна, не ищет своего удовольствия» (78.251).
Из письма 1910 года:
«Нельзя соединять внутреннюю, духовную, христианскую деятельность с личными, исключительными привязанностями, особенно привязанностью мужчины к женщине и женщины к мужчине. Такие привязанности всегда переходят в любовь, влюбление, чувство эгоистическое и потому самое противное христианскому идеалу самоотвержения и целомудрия. Такое соединение двух противоположных стремлений приводит всегда к тому, что не только не достигается ни внутреннее совершенствование, ни личное счастье, но является разочарование и в христианском идеале, и возможности личного счастья» (82.114).
Любовь-влюбление, безусловно, не основана на агапическом чувстве жизни и не выражает движения жизни высшей души человека, не являет ее. В полном согласии с будущим учением Льва Николаевича любовь-влюбление во втором романе Толстого сопровождалась несчастием «близких» людей и закончилась катастрофой. Ну а другая любовь, любовь Анны и Каренина, любовь мужа и жены, которая, как оказалось в роковую минуту, была основана на единении их высших душ? Разве такая любовь не есть любовь к определенному человеку? Разве могла она состояться без некоторого рода предпочтения, без избрания (пусть даже не специального, избрания самой жизнью), сближающего двух людей на уровне их высших душ? Пусть в сцене у постели рожающей Анны действуют уже не люди, а «высшие существа», как говорил Достоевский, но каждый из них имел свое лицо и обращался к другому, тоже имеющему определенное и любимое лицо. И Анна, и Каренин, и даже Вронский в минуту эту жили на духовных вершинах своей жизни, жили жизнью своих высших душ. Проявившаеся в них любовь была любовь высшей души, и вместе с тем это была, несомненно, избирательная любовь, исходившая от определенной личности и направленная к определенным личностям. То была избирательная любовь высших душ.
Толстой не утверждает, что истинная любовь – это непременно беспредметная или безличностная любовь. Он говорит, что она должна быть основана не на чувстве жизни животной личности, а на агапическом чувстве жизни. И «только на этом общем благоволении может вырасти истинная любовь к известным людям – своим и чужим». Хотя, конечно, это все же не любовь к людям, специально избранным для любви. Нельзя сказать, что Толстой окончательно отвергает такую любовь. Как это и ни покажется странным, он не верит в возможность ее осуществления в реалиях земной жизни человека.
«Только если бы люди были боги, как мы воображаем их, только тогда они бы могли любить одних избранных людей; тогда бы только и предпочтение одних другим могло быть истинной любовью. Но люди не боги, а находятся в тех условиях существования, при которых все живые существа всегда живут одни другими, пожирая одни других, и в прямом и в переносном смысле; и человек, как разумное существо, должен знать и видеть это» (26.386). И далее: «В той давке и борьбе животных интересов, которые составляют жизнь мира, человеку невозможно любить избранных, как это воображают люди, не понимающие жизни» (26.387).
Учение Толстого в немалой степени выросло из ужаса перед жизнью людей, ужас этот преодолен им, но он не исчез совсем и продолжает определять жизневоззрение Льва Николаевича. Да ведь и свитость высших душ супругов Карениных объявила о себе на краткое время и как-никак оказалась нежизнеспособной. Так что ж: «высшие существа» в центральной сцене «Анны Карениной» – не более чем плод творческого воображения, не имеющего отношения к процессам в реальной жизни? Такой приговор столь суров, что способен выбить почву из-под ног любого, кто проникся величием происходившего у изголовья умирающей Анны. А как быть с Левиным и Кити, чья глубинная супружеская любовь противопоставлена любви Анны и Вронского и созвучна тем духовным процессам, которые незримо свершились в душах Анны и Каренина, и громко заявила о себе на пороге ее несостоявшейся смерти? И это – воображение, не реальная жизнь? Что ж тогда остается от той «мысли семейной», ради которой и написан роман Льва Толстого?
Пока человек «не поймет жизни и не изменит свое отношение к ней», учил Лев Николаевич, он ничего подлинного в жизни сделать не сможет. «Если бы даже человек, не понимающий жизни, и захотел искренне отдаться деятельности любви, он не будет в состоянии этого сделать…» (26.391) Хотя бы только потому, что перед ним непременно станут «совершенно неразрешимые» вопросы – «во имя какой любви и как действовать?» (26.386).
Для человека, не понимающего жизни, считает Толстой, нет ответа на вопрос законника Христу: «Кто ближний?» То есть: кого любить надо, а кого не надо? Все люди суть создания одного Бога, так что ближний, теоретически говоря, – это человек вообще, ближний по Единому Богу; практически же ближний тот, кто одной с тобой Веры, кто ближний по Вере и Общей душе. На вопрос о ближнем Иисус отвечает притчей о человеке, попавшем в беду и истекающем кровью на дороге; евреи шли, прошли мимо, только самарянин, то есть безусловно «дальний» для иудея, помог ему. И оказался ближним. И поэтому не надо думать, что ближний – это всегда собрат по вере и крови… Смысл притчи, по толстовскому комментарию, в том, что «рассуждение о том, кто мой ближний, – ловушка, отманивающая от истины, и чтобы не попасть в нее, надо не рассуждать, а делать» (24.606).
Для понявшего жизнь человека вопрос «кто ближний?» – соблазн. Вопрос не в том, кого надо и кого не надо любить, а какой любовью любить. Любовь есть жизнь, и какой любовью любишь, такова и жизнь в тебе. Свойственная животной личности пристрастная любовь не подлинная жизнь. Свойственная высшей душе любовь-благоволение, основанная на агапическом чувстве жизни, – жизнь истинная. Истинная любовь – это «то стремление к благу того, что вне человека, которое остается в человеке после отречения от блага животной личности» (26.394). После отречения от блага животной личности остается благо высшей души, благо того, «что есть Бог в тебе». Практически это означает, что истинная любовь – это та любовь, которая образует единство людей на уровне их высших душ. Это может быть как единство двух людей, так и духовное единство неопределенного множества людей.
В отношении заповеди любви к ближнему возникают три взаимосвязанных, но отдельных вопроса: Какой любовью любить? Что значит любить «как себя»? Кто ближний?
Вопрос «Кто ближний?» задан в Евангелии при обсуждении закона любви к ближнему. Прежде чем исполнять данный свыше закон, надо знать, в отношении кого он действует и не действует. По притче этого места Евангелия, ближний не обязательно иудей иудею, ближним может быть и всякий человек. По Толстому, вопрос о ближнем провокационен по своей сути и не должен стоять вообще, так как агапическая жизненность высшей души проявляется в благоволении ко всем. Дело не в том, кто ближний, а какой жизненностью жить и как любить. Если же задать вопрос о ближнем безотносительно к законодательству о любви, то все просто: человек любит той или иной любовью и тот, кого он любит, и есть ближний для него.
Но что значит любить «как самого себя»? Здесь не один, а два вопроса: о любви к ближнему в душевной жизни отдельно взятого человека и о любви к ближнему в коллективной (общедушевной, общенародной, общественной) жизни.
Собственно говоря, отношение к человеку своего народа «как к себе» есть не заповедь, а констатация существующего отношения. Он такой же, как я, русский, немец, англичанин. Отношение к нему, как к себе, в определенном смысле предопределено, и заповедь любви только возводит такого рода отношение в ранг «любви к ближнему». Лично к другому человеку своего этноса (или церкви, или воинства) ты можешь относиться, как тебе угодно (в том числе и враждебно), но его же как соотечественника, или одноверца, или соратника ты обязан любить как самого себя.
Каждый любит самого себя с той или иной силой себялюбия. С общедушевной точки зрения устанавливать отношение к другому человеку с силой себялюбия возможно тогда, когда прежде установлен «ближний» как обобщенный объект такой любви. Тут нет требований любви как таковой, а есть указание на высшую степень сплоченности в некоторой общности. В качестве такой сплоченности можно вообразить все человечество и установить моральные или правовые общегуманистические нормы жизни людей. В состав сплоченности можно включить не только людей, но и животных, и даже все живущее и выработать соответствующие требования. Эти отвлеченные, максимально расширенные требования для предельно понимаемой сплоченности не суть высшие нормы или идеалы, так как при расширении объекта любви любовь остается любовью только до известного предела. Реально идеал любви как к себе работает в реально действующей сплоченности – народе, партии, церкви, секте, армии и пр.
В любви родителей к детям и детей к родителям определение «как к себе» может быть приложимо только условно. Любовь «как к себе» в этом случае заказана природой, подавляющей себялюбие ради, скажем, чадолюбия, то есть любви, ставящей благо чада превыше родительского блага. Обусловленная природной необходимостью неизбежная и несвободная любовь родителей и детей вовсе не обязательно затрагивает высшие пласты человеческой души.
Совсем побороть в себе свое «эго» никто не может. Можно только войти в такую стадию жизни, в которой низшая душа из объекта служения становится, и вполне активно, объектом преодоления. Самость побеждается, когда сознание диктует, а воли высшей души реально руководствуются самоотречением – не героическою поэзией жертвы (в которой превозносится загримированная под самоотречение самость), а ношение телесных и душевных не своих немощей, как немощей своих.
Для этого надо «полюбить ближнего как самого себя». Но это, разъясняет Толстой, «не значит то, что ты должен стараться полюбить ближнего. Нельзя заставить себя любить. «Люби ближнего» значит то, что ты должен перестать любить себя больше всего. А как только ты перестаешь любить себя больше всего, ты невольно полюбишь ближнего, как самого себя» («Путь жизни» ХХV,1V, 4).
Всегда были и будут люди, которые с молодых лет посвящают свою жизнь защите угнетенных, борьбе с общественным злом или всякого рода трудами «на благо всех». Бывает, что они приносят себя в жертву, но при этом не «перестают любить самого себя больше всего». Они любят не «ближнего», а свое дело (например, дело революции или национальной победы над врагом, или дело своего сообщества, секты и пр.), или свою идею, или своего вождя. Двигающие ими даже самые «высокие» побуждения лишь отрицают какую-то одну сторону «животной личности», чтобы возвести на пьедестал другую ее сторону. Пишу это не в осуждение и не в обличение, а для того, чтобы яснее дать понять: преодолеть свою самость, так, чтобы не любить себя больше всего, чрезвычайно сложно на всех этапах своего духовного развития.
Любить «как себя» вовсе не означает любить кого-то столь же сильно, страстно и энергично, как любишь самого себя. Мало того, что в общем случае это невозможно, но и каждый человек по страстности любит себя различно и в одно время сильнее, в другое слабее, а в какие-то минуты и вообще ненавидит себя. Многие люди любят себя вяло и, надо полагать, имеют на то причины. Дело, наверное, не в энергии чувств, а в том, чтобы своей душою служить другому «Я» так же, как себе, своей личности, т. е. видеть свое «Я» в другом, перенести центр тяжести своей жизни из себя в другого, иметь другое «Я» в качестве центра своей души и принадлежать ему (любить) так же, как если бы это был центр сознания своей души.
В индивидуальной жизни «личности» есть такие проявления любви, к которым требование «любить как себя» принципиально неприменимо. Например, любовь-вожделение. Но не только. Далеко не в каждом проявлении любви человек стремится отдавать себя любимому. Самость обычно любит для того, чтобы увеличить полноту той жизненности, которой она живет. Животная личность у Толстого «предпочитает», а не любит. Впрочем, к любви-предпочтению у Толстого отнесена не только психофизиологическая любовь, но и самая возвышенная, восторженно поднятая над миром («небесная»), сексуально бескорыстная любовь. Влюбленный вдохновлен любовью, поднят ею над собой и воспринимает образ того, кого любит, не как психофизиологическую реальность, а как видение сверхземного образа, обитающего где-то выше себя, над собою, на вершинах существования. В такой любви и мужчина и женщина готовы к самопожертвованию, но это – готовность отдать свою жизнь куда-то ввысь. Весь накал такой любви определяется стремлением перенесения себя в горнюю сферу жизни воображаемого высшего существа любимой или любимого, вливание себя в неё и служение ей. Любовь к тому, кто столь высоко поднят над собою, никак не может быть любовью «как к самому себе».
Отдельной личности, направленной на другую отдельную личность, любить «как себя» нельзя. Личность человека сознает свою жизнь в отделенности от других личностей. Сознание отделенности – характеризующая черта человеческой личности и ее состояние жизни. Любить как самого себя при таком сознании себя живущим практически невозможно. Полный смысл любовь к ближнему как к самому себе обретает только в жизнедеятельности высшей души самой по себе.
Сияющая любовь-благоволение свойственна детству. Но с возрастом разрастается самостная животная личность, она завладевает человеком и забивает детское агапическое чувство жизни. Оно уже невозвратимо. Поэтому нельзя ставить задачу возвращения к состоянию детства через «вычитание» животной личности из себя, чтобы остаться вновь с детским чувством благоволения. И Толстой, конечно, не учил этому.
«Отрекаться нельзя и не нужно отрекаться от личности, как и от всех тех условий, в которых существует человек; но можно и должно не признавать эти условия самою жизнью. Можно и должно пользоваться данными условиями жизни, но нельзя и не должно смотреть на эти условия как на цель жизни. Не отречься от личности, а отречься от блага личности и перестать признавать личность жизнью: вот что должно сделать человеку для того, чтобы возвратиться к единству, и для того, чтобы то благо, стремление к которому составляет его жизнь, было доступно ему»(26.378).
То, что предлагает Толстой человеку, не есть самоотрицание, действие отрицательное. Толстовское «отречение от блага личности» – положительное действие. Для выполнения его необходимо обладать мощной назначающей волей, способной овладеть животной личностью и поставить вместо ее блага свое благо. Детская сила агапической жизненности, высшая душа ребенка, даже если она опять могла бы быть задействована в человеке, разумеется, по слабости своей не была бы способна подчинить себе даже специально ослабленную животную личность. Есть детское состояние жизни высшей души, и есть состояние жизни высшей души взрослого человека. Взрослая высшая душа взращивается в духовном росте, наживается многими трудами, волнениями и страданиями. Зрелая высшая душа обладает такими силами и такими возможностями, которых детская высшая душа, при всей яркости свечении любви-благоволения в ней, не имеет.
Высшая душа сознает жизнь в себе в нераздельности или единстве с другими высшими душами и Богом. Сознание нераздельности – характеризующая черта высшей души и ее состояние жизни. Любовь высшей души осуществляет со-жизнь, в которой центры жизни двух или многих складываются и образуют общий и единый центр, не отменяющий составляющие его центры. Это – высший тип жизненности, непосредственно доступный человеку.
Агапическая жизненность связана с любовью делать Добро, с благожелательностью в прямом и точном смысле слова. Делай другому то, что желаешь себе, – принцип благожелательности как таковой, принцип, выражающий устремленность сил агапической жизненности.
Любить «как самого себя» в общем случае означает относиться ко всем и каждому с той же благожелательностью, с какой относишься к себе. Это может стать желаемым правилом внешнего поведения. Но может быть и агапической заповедью, по которой человек старается быть обращенным к другим людям своей высшей душой. Такая заповедь непосредственно обращена к душе человека, требует поворота в нем (к высшей душе) и не имеет специального отношения к кому-то, кто вне внутреннего мира человека, в том числе и прежде всего – к «другому» человеку, к «другому Я».
Если быть точным, то тут ясно прослеживается не одна любовь, а ДВА РАЗНЫХ ТИПА ЛЮБВИ высшей души. Первый род любви высшей души – агапическая любовь – обращена к «ближнему» через Бога. К ней применима толстовская интерпретация библейской заповеди: люби ближнего как Бога Самого. Заповедь же «люби ближнего как самого себя» обретает значение только в том случае, когда она означает стремление свиться своей душою с душою другого человека так, чтобы он для тебя перестал быть «другим человеком», «другим Я», а стал бы «другим своим Я». К такому – не агапическому, а другому – роду любви всегда влечется зрелая душа взрослого человека. И в общем случае влечется куда яснее и сильнее, чем к агапической любви.
Высшая душа одного человека стремится – и избирательно стремится! – совместить себя с высшей душой другого, слиться с ней в единое (двуединое) существо, образовать из «Я» и из «Ты» новое единство жизни, обладающее большей одушевленностью и большей полнотой жизни, чем каждый из них обладает по отдельности. Если животная личность увеличивает свою энергию жизненности за счет другого, то высшая душа приращивает свою жизненность при создании новой душевной целостности в единстве двух или многих.
Заповедь любви к ближнему как самому себе обращена к высшей душе и обязывает человека активно задействовать высшую душу и жить её жизненностью. Любить ближнего как себя не означает любить его так же страстно, как себя. Это не сострадательное или альтруистическое переживание. Любить как самого себя значит любить так, словно он, ближний, – ты сам, словно он уже не «он», а еще одно твое «я». Любить библейской любовью к ближнему значит в душе и душою делать себя им и его собою – делать «свое Я» и «другое Я» сторонами двуединого (или многоединого) существа, живущего в поле жизненности, отличающегося от поля агапической жизненности.
Для обозначения избирательной любви высшей души надо найти название. Мы пользуемся беспризорным понятием сторгической любви. Стергия в греческом языке означает терпеть, переносить, уступать, соглашаться, просить, любить того, кто почему-либо пришелся по душе, например, того, кто сообщил приятное известие. Комментаторы приравнивают стергическое чувство к семейной, родственной привязанности. Мы берем это слово в другой модификации (сторгия) и даем ему смысл чувства, в силу которого «Я» другого человека становится «своим другим Я». Это чувство мы называем сторгическим чувством. Жизнь же новой душевной целостности назовем сторгической жизненностью.
5
Любовь-благоволение вроде бы уравнивает каждого в едином круге любви. «Да, лучшее средство к истинному счастью в жизни – это: без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви и ловить туда все, что попало, и старушку, и ребенка, и женщину, и квартального» (47.71), – писал 28-летний Толстой. Агапическая жизненность изливается высшей душою одного человека и выливается на всех; она, кажется, способна залить всякого, кто попадет в ее поток. На самом деле живые воды агапической любви поступают только изнутри колодца данной высшей души. Залить этот колодец внешними водами никак нельзя. Можно только, и то с огромным трудом, побудить высшую душу другого (и не всякого) человека агапически явить себя.
«Любовь есть проявление в себе (сознание) Бога, и потому стремление выйти из себя, освободиться, жить Божеской жизнью… Главная мысль моя в том, что любовь вызывает любовь в других – Бог, проснувшийся в тебе, вызывает пробуждение того же Бога и в других» (53.25).
И все же для такого пробуждения Толстой полагается на мощь «разумного сознания» (не рационального убеждения, а проявления в себе сознания Бога, Разума Жизни как таковой) куда более, чем на непосредственное воздействие силы агапического чувства жизни одного человека на другого. Но и «разумное сознание» той высшей души, которая более или менее активно живет агапической жизненностью, давая руководство к действию, само по себе еще не обеспечивает полноценное включение высшей души в работу внутреннего мира человека и, следовательно, не обеспечивает главенство агапического чувства жизни в его целостном чувстве жизни.
По Толстому, высшая душа пробуждается к активной жизни под воздействием своего «разумного сознания», поддержанного всей страдающей и гибельной жизнью человека. «Страдания и смерть, как пугалы, со всех сторон ухают на него и загоняют на одну открытую ему дорогу человеческой жизни, подчиненной своему закону разума и выражающейся в любви» (26.435). Действенным оказывается не разумное сознание как таковое, а разумное сознание человека, познавшего страдания и смерть, то есть человека уже во всех отношениях взрослого.
Жизнедеятельность высшей души в человеке всегда ценна сама по себе, вне зависимости от того, какой результат – всеобщий или частный – может быть получен в ней. Агапическая любовь склонна расширять поле самоизлияния, беспредельно множить объекты любви. Сторгическая любовь, напротив, всегда точечная и ведет к локальному единению высших душ субъектов любовного взаимодействия. Хотя сторгическая сплоченность существует и в Общей душе народа, но это особая тема.[24] Во всяком случае, общедушевная сторгия куда слабее выражена, чем сторгия приватной духовной жизни.
«Любовь нельзя сделать в себе, а отрешение от себя можно. И стоит отрешиться от себя, возникает любовь» (53.196) – агапическая любовь. Для сторгической любви одного самоотрешения мало. И ее можно «сделать».
Возможности агапической любви варьируются от готовности к милосердию до любви к врагу. Возможности сторгической любви варьируются от душевной привязанности, образованной длительным житейским соприкосновением тел и душ, до таинственной свитости душ на самом глубинном их уровне.
Человек впервые видит человека – и вполне может воспринять его агапически и соответствующим образом отнестись к нему. Но в общем случае он не в состоянии воспринимать его сторгически, даже если в каком-то отношении считает его себе «ближним». Хотя высшая душа, живущая сторгической жизненностью, склонна чувствовать – и иногда не может не чувствовать! – другое Я по своим таинственным каналам, посредством которых высшие души изнутри сообщают друг другу о себе. Сторгическим ближним вам становится тот, от кого до вашей души донесся зов, вызвавший в вашей душе ответное сторгическое стремление или переживание. Другое дело, что и зов этот, и ответное переживание могут оказаться мнимыми.
Сторгическое стремление требует от человека взять на себя ответственность за сторгического ближнего – такую же, что и за себя. В том числе и за его судьбу, неразрывно совмещенную со своей судьбою. Это не моральная ответственность, не долг и не чувство справедливости. Сторгическая ответственность перед своим другим Я – ровно такая же, как перед собой. Это в полном смысле ответственность по любви как к себе. В силу чувства сторгической любви высшие души стремятся жить вместе, две как одна. Здесь не сложение одного с другим, а, как мы сказали уже, взаимоусиление высшей душевной жизни каждого.
В сторгической связи высшая душа дополнительно обретает большую полноту и жизненность. От одного того, что два человека сторгически объединились, происходит то, что каждый из них внутренне возвысился, стал душевно выше и глубже самого себя, на порядок одухотвореннее, стал полнее и глубже переживать жизнь.
Сторгическое действие буквально на глазах оживляет человека, делает его более живым. Это приращение жизненности переживается как сторгическое благо и придает особые силы той высшей душе, которая переживает это благо. Выходить на поле духовной (или духовно-творческой, а то и просто творческой) брани одному, без поддержки супружеской, дружеской или какой-нибудь еще сторгии – значит не биться в полную силу и если и одержать победу в этой битве, то половинную. Это знает каждый, кто когда-либо ставил перед собой задачи на пределе своих сил.
Агапия (во всяком случае, ее ближайшее проявление в человеческой жизни) – это всегда любовь-добро,[25] которая, собственно говоря, не обязательно подчинена требованию «любви к ближнему». Это определенно выразил Толстой в дневниковой записи начала 900-х годов:
«Очень неверно, неточно, неопределенно сказано: люби ближнего. Это сказано в Библии; в Евангелии же только повторено, выбрано самое важное из всего. Любить велеть нельзя, любовь есть высшее проявление души и потому ничем не может быть вызываемо. Оно вызывает все другое. Любить можно велеть только Бога, потому что это свойственно человеку: как только он свободен от соблазнов, он невольно больше всего любит Бога, т. е. истину, добро, любовь. Надо сказать: не то, что люби ближнего – этого нельзя, а будь добр к ближнему (люби Бога). Это всегда можно» (54.100–101).
Сторгия – это всегда любовь-соединение. Для агапического действия соединение душ – одно из приложений. Для сторгического действия Добро – приложение.
«Зло есть материал любви. Без зла нет и не может быть проявления любви. – Бог есть любовь, т. е. Бог проявляется нам в победе над злом, т. е. любви» (53.216). Победа над злом есть дело добра, дело агапической любви. Сторгия к победе над злом земной жизни столь непосредственного отношения не имеет.
Агапическая любовь, как утверждал Толстой, есть чистейшее самопроявление той жизненности, в которой живет высшая душа человека. Агапическое чувство жизни – чувство жизни высшей души самой по себе.
Сторгическая любовь, быть может, есть самопроявление кого-то, кто начинает жить в поле жизненности высших душ. Сторгическое чувство жизни – чувство жизни кого-то, какого-то нового духовного существа, которое оживает в глубинной свитости высших душ людей.
В сторгическом единении высших душ одного и другого человека возникает новое духовное существо, которое не есть высшая душа того или другого или их сложение. Это духовное существо изначально не дано в земной человеческой жизни, возникло (рождено, создано, сформировано) в нем вновь и потому не подлежит уничтожению при отживании плотского человека. Тут есть веские предпосылки для решения вопроса бессмертия человека.
Сторгическая духовная жизнь избирательно обращена к другому человеческому «Я», к еще одному своему «Я», к другой высшей душе, чтобы воссоединиться с ней и в этом воссоединении создать новое, еще не бывшее в существовании.
В агапическом соединении (через Бога) нет первых и вторых, все равны. В сторгическом узле двух душ может быть как ведущий, так и ведомый.
Степень свободы сторгической жизни и полноты ее проявлений выдерживает сравнение со свободой и полнотой агапической жизни. Сторгическое чувство жизни столь же высшее проявление чувства жизни человека, сколь и агапическое чувство жизни. И потому вопрос смерти человека и его несмертной «истинной жизни» достаточно определенно решается в сторгическом соединении высших душ. Сторгическая жизнь – в полном смысле духовная жизнь, так как в ней оживает вновь рожденное духовное существо, в которое человек, участвующий в его зарождении, не только вполне может, но не может не перенести свою жизнь. Но, повторим еще раз, эта духовная жизнь иного рода, чем агапическая духовная жизнь.
Есть две различные струи духовной жизни высшей души, два рода жизненности, одна из которых оживлена агапической любовной духовностью, другая – сторгической любовной духовностью. Первая, по заключению Толстого, всецело принадлежит вселенской духовной жизни. Вторая принадлежит приватной духовной жизни земного человека.
Сторгическое и агапическое суть разные любовные духовности, трудно сводимые друг к другу. Сторгия не предполагает агапию. И агапия не обязательно предполагает сторгию. У Толстого, при его духовном рождении, в чем-то одна даже замещала (а то и разрушала?) другую. Тот, кто высоко одарен агапической любовной духовностью, у того может быть ослаблена воля сторгического действия. И наоборот: у человека могучей сторгической воли ослаблено агапическое благоволение к жизни, пусть даже он, будучи в лоне христианских представлений и чувствований, и должен толковать об этом предмете.
Агапия не направлена на личность, ей вообще не нужен объект переживаний, а тем более личностный объект. Враг – соответственное личное восприятие и восприятие личности. Врага можно любить, только исключив из переживания любви все личностное или пристрастное. Сторгия, конечно, носит личностный характер. Но это, подчеркнем особо, никак не характер психики животной личности, а лично-духовный характер высшей души.
Чтобы состоять в сторгической паре и чувствовать другое Я как свое, хорошо бы прежде как можно яснее сознавать свое собственное Я и знать, что личностно ему нужно. Сторгия – начало индивидуальности высшей души, создающее своеобразие ее проявлений. Без сторгии высшая душа единообразна, одна и та же во всех. Проповедь Льва Толстого построена на утверждении одной – агапической – высшей души во всех людях. Не потому, что он не признавал сторгическое действие в высшей душе, а потому, что он не верил в него. И имел на то веские основания в своей личной духовной жизни. При этом сторгические движения не отвергаются Толстым, а как бы включаются в агапические движения и даже поглощаются последними.
«Любовь есть стремление сознавать жизнь другого так же, как я сознаю свою – войти в другого, быть им. И когда любишь, то стремишься быть не собой одним, а всем, стремишься быть тем, что Бог, и познаешь Бога. – Это одно. Другое же то, что, если свята любовь, то как же я не люблю NN? И я вспоминаю, кого я не люблю, и стараюсь войти в его душу, говорю себе, что буду стараться войти в общение с ним, искать его, сближаться с ним, вызывать его на высказывания себя» (87.40).
Я думаю, что агапия без сторгии могла бы отдавать умозрительностью даже у Толстого. Если этого не происходит, то потому, что он то и дело переводит сторгию в агапию и наоборот. Толстой постоянно стремится расширить пространство сторгии с одного лица (естественное сторгическое пространство) на всех людей. Толстой считал, что всякого человека можно любить сторгически (как любишь ближайшего человека), и сам, успешно или неуспешно, стремился любить так.
Агапическая струя духовной жизни общедушевно востребована христианством. Сторгическая река любовной жизни в чистом виде религиозно невостребована, нигде не ставится в центр религиозной жизни, хотя именно эта река любви течет практически в каждом и заполняет большую часть общего жизненного поля людей. Это объясняется религиозной невостребованностью той духовной жизни, для которой сторгия имеет основополагающее значение.
6
Личные межчеловеческие сторгические мотивы человеческой жизни для Евангельского жизнечувствования по меньшей мере неактуальны.[26] В Евангелии не только нет сторгической проповеди, но и нет сторгических переживаний. Забвение сторгических связей – характерная черта христианства, которую Церковь пытается компенсировать конфессиональным братством. Евангелие не сторгично, а исключительно агапично. Христос любит агапической любовью и так заповедует любить людям. И когда говорит, что «все же вы – братья» (Мф. 23:8), то имеет в виду не сторгических братьев, а братьев во Христе.[27] И у Иоанна: «Братья, любите друг друга» – не сторгический призыв, а агапический призыв, так как Иоанн обращался к собратьям по вере и для него «все люди – братья». Он же указывает на высшую ступень взаимной любви в братстве Христовом: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:13). «Положить» здесь – значит пожертвовать собою за друзей. Толстой переводит: «Самая истинная любовь есть та, чтобы отдавать свою душу тем, кого любишь» (24.734).






