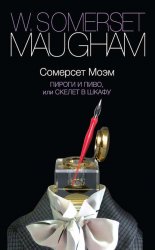Куда смотрит прокурор? Звягинцев Александр
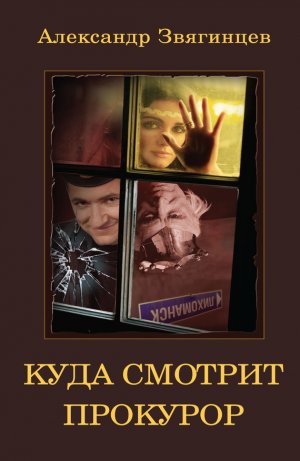
Шламбаум снова погрузился в бумаги.
– Неустановленное лицо с неустановленной целью, – наконец доложил он.
– Вот видишь, а ты говоришь, досконально установил…
– И установил, – непреклонно уперся Шламбаум. – У них там на фабрике полный Содом с геморроем! Все насквозь прут. С пустыми руками никто с работы не уходит. У них это западло считается – рука руку знает. Вот и проловку уперли или по привычке, или чтобы в огороде что-то починить. Машину к забору подогнали, проловку перекинули и сразу по соше погнали…
Шламбаума Мурлатов заприметил, когда тот еще служил в ГАИ. Он брал взятки, как и все гаишники, но брал как-то по-человечески. Во-первых, радостно, как ребенок принимает подарки. А во-вторых, не из жадности, а согласно убеждениям. Убежден же он был в том, что все дают ему по собственной воле и что так заведено испокон века. А раз сами дают, значит, уважают, так зачем людей обижать? И брал он по совести, не грабя, причем свой принцип излагал так: «Мне лишнего не надо, лишнее можете себе оставить. А валять дураков – не грех, а благое дело. Так что держи карман в ширину!»
Мурлатов наметанным глазом сразу оценил, что Шламбаум, при всей своей детской привязанности к поборам, человек неиспорченный и верный, которого удобно иметь под рукой. И когда тот попал в беду – его напоили текилой с солью до полусмерти какие-то бугаи из новых русских, которых он доверчиво остановил, и бросили на дороге, сняв, для смеха, с него форму, – Мурлатов взял его к себе. Мало того, умудрился сделать его в перестроечной суматохе лейтенантом. С тех пор Шламбаум, никогда и не мечтавший об офицерской должности, был верен ему как пес хозяину. Глядя на Шламбаума, который и в новом чине быстро наладился регулярно принимать подарки в виде «обусловленной вежливости», капитан часто вспоминал слова Петра I, сказанные царем-реформатором в адрес полицейского ведомства: сию собаку я создал, сама себя она и прокормит.
– Ладно, Титыч, ты бумагу мне оставь, я подчищу ее малость. А то ведь сам Туз ее читать будет, а ругаться с ним по мелочам нам ни к чему, – сказал капитан. – Там у него в прокуратуре новый работник объявился, ничего о нем не слышал?
– Только видел. Дробненький какой-то! Негде пробку вставить. Только в подметки годится.
– Ишь ты, храбрый какой! Худенькие – они знаешь какие жилистые бывают!.. Так что ты там поузнавай, что он да как. Нам надо держать руку на пульсе прокуратуры! – хохотнул Мурлатов.
Вот в такой ситуации несколько лет назад Герард Гаврилович и приступил к службе. Поначалу как молодого сотрудника его окунули в загадочный мир жалоб, доносов и прочих невообразимых документов, которыми была завалена районная прокуратура. К тому же помощник Туза был в отпуске, и Гонсо пришлось исполнять и его обязанности.
По наследству ему достался чудный документ по делу, суть которого излагалась в следующем послании:
«Гор. Лихоманск
Гражданке Грамотешкиной А.А.,
проживающей по адресу: ул. Чистые Грязи, д. 17
Уважаемая Анжелика Афиногеновна!
По поручению прокурора района мною была проведена проверка по сути Вашего письма, присланного на его адрес.
Ваше письмо, присланное по поводу оказания Вам помощи – убедить гр-на Борисенок П.А., ныне работающего директором спецбазы, в необходимости совместного проживания с Вами, безусловно, заслуживает внимания.
Встреча сотрудника прокуратуры в моем лице с гр-ном Борисенок П.А. состоялась. При беседе о его чувствах к Вам выяснилось, что такие чувства он отрицает. И не признает родную дочь, несмотря на то, что суд присудил с него алименты в Вашу сторону.
Ваше письмо в прокуратуру, конечно, очень трогательное, из него понятны Ваша любовь, нежные отношения с гр-ном Борисенок при первых встречах. Поэтому ныне можно только посочувствовать Вам и пожалеть. Но все это, если было на самом деле, теперь стало только грезами. Вам, как я понимаю, хорошо известны мужчины. Увы, они эгоистичны, многое говорят, а на деле мало выполняют.
Вам, еще молодой женщине, у которой все впереди, надо всегда помнить стихотворение писателя Писемского, который писал:
- Ты молода и все хохочешь,
- В головке бродит ветерок,
- Но если мужу ты не веришь,
- Не верь мужчинам, мой дружок!
Но Вы его забыли или не знали. И Вы поверили не мужу даже, а постороннему мужчине, с которым не регистрировались, который только и жаждал Вашего тела, как ворон крови. Вы поверили, а теперь все ушло…
В своем письме Вы спрашиваете: Могу уверить, прокурор района смотрит в нужную сторону, но во все дырки он заглянуть не может. Тем более Вы с гр-ном Борисенок официально не зарегистрировались.
Сообщите, получаете ли Вы алименты с гр-на Борисенок. Если не получаете, сообщите, где находится исполнительный лист. Вышлите его в прокуратуру, и мы примем меры к взысканию всех причитающихся Вам сумм. Но станете ли Вы от этого более счастливой?
С почтением к Вам помощник прокурора района,юрист I классаТ.Р. Греховодников»
Надо честно сказать, письмо помощника прокурора Греховодникова произвело на Герарда Гавриловича сильное впечатление. Конечно, написано оно было не совсем на русском языке и отсылать его на официальном бланке прокуратуры не было никакой возможности, но Герард Гаврилович увидел в нем главное – неравнодушное отношение к своим обязанностям. И желание не сковывать себя строгими служебными рамками, подходить к работе творчески. Правда, у него возникли сомнения по поводу стихов писателя Писемского, но сути дела это не меняло. Видимо, в прокуратуре под руководством Туза было принято работать не формально и, что называется, «с огоньком».
Следующим документом в папке, оставленной отпускником, была копия частного определения городского суда, направленная в прокуратуру. Герард Гаврилович, учившийся добросовестно и даже с рвением, тут же напомнил себе, что частное определение, кроме всего прочего, обращает внимание соответствующих инстанций или должностных лиц на установленные при рассмотрении дела факты нарушения закона, способствовавшие совершению преступления и требующие принятия соответствующих мер…
ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Заведующий производством столовой № 2 районной Потребкооперации Железков Ю.Г. в мае месяце текущего года вступил в сожительство с пом. шеф-повара Пристяжнюк Е.З. Причем первое время сожительство это проходило непосредственно в помещении столовой, а впоследствии с наступлением летнего тепла и жары в холодной кладовой, где хранятся продукты приготовления пищи, что является не только крайне антисанитарным, но и выходит за рамки культурного обслуживания потребителей.
Данные факты достоверно установлены судебным следствием, хотя Железков Ю.Г. это и отрицает. Суд считает, что Железков Ю.Г. после такой компрометации пищевых органов Потребкооперации и себя лично как повара должен понести заслуженное наказание и не может в дальнейшем работать в этой должности. Гражданке Пристяжнюк Е.З., не устоявшей на рабочем месте перед его домогательствами, должно быть указано на неполное служебное соответствие.
«Экие тут у них страсти кипят на каждом шагу», – подумал Герард Гаврилович. И даже зачем-то попытался представить себе гражданку Пристяжнюк Е.Г. Интересно, молодая она или уже в зрелом возрасте?
Наверное, полная блондинка в белом халате, лопающемся на пышных бедрах…
Уже в самом конце рабочего дня он случайно наткнулся на папку, в которой хранился один-единственный листок бумаги. На нем от руки было записано длинное стихотворение, называвшееся «Дочь прокурора», и Герард Гаврилович с изумлением прочел пылавшие дикими страстями строки:
- Там, в семье прокурора, бесконечная драма.
- Жила дочка-красотка с золотою косой,
- С голубыми глазами и по имени Нина,
- Как отец, горделива и красива собой.
- Было ей восемнадцать. Никому не доступна.
- И напрасно мальчишки увлекалися ей.
- Не подарит улыбки, не посмотрит, как надо,
- И с каким-то презреньем все глядит на парней.
- Но однажды на танцах не шумливый, но быстрый,
- К ней прилично одетый паренек подошел.
- Благородный красавец из преступного мира,
- Поклонился он Нине и на танец увел.
- Сколько чувства в них было! Сколько ласками грели!
- Воровская любовь коротка, но сильна.
- Не напишут романа про любовь уркагана —
- Воровская любовь никому не нужна.
- Но однажды во вторник —
- День дождливый, ненастный —
- Завалил на бану он ее и себя.
- И вот эта вот Нина – дочь прокурора —
- На скамью подсудимых за жиганом пошла.
- А за красным столом, одурманенный дымом,
- Воду пил прокурор за стаканом стакан.
- А на черной скамье – на скамье подсудимых —
- Сидит дочь прокурора и какой-то жиган.
- Моя милая дочь, ты б сказала мне раньше,
- Я бы мог оправдать в крайней мере тебя.
- Но она отвечала горделиво народу:
- «Воровали мы вместе, с ними пойду в лагеря».
- На прощание жиган попросил у судейства
- Попрощаться со своею молодою женой,
- И уста их слились в поцелуе едином,
- Только горькие слезы проливал прокурор.
Упоительно безграмотные и безоглядно пошлые слова старинной блатной песни произвели на Герарда Гавриловича неожиданно сильное впечатление. И вдруг вспомнилась заря его юности, когда стайка стремительно взрослеющих мальчишек, в которую он входил, уже мучимая и палимая подростковыми прыщами, комплексами и нечистыми желаниями, собиралась каждый вечер в темном закутке двора и изнывала от неясных предчувствий новой жизни. Королем компании был цыганистый парень с гитарой по кличке Чубарь. Пел он такие же пошлые и малоскладные блатные песни, в которых им тогда почему-то виделись большие страсти и настоящая мужская жизнь.
Особенно запомнилась одна – до невозможности жалостливая история про какого-то закованного в цепи преступника, который шагал по пыльной дороге… Как там было дальше? Ах да! «Он руки скрестил на могучие плечи и тихо о чем-то конвою сказал!» Просьба была та еще. Что-то вроде: постой-погоди, отдохнем хоть немного, нет сердца у вас, у вас, палачи. А затем вдруг – я вам расскажу, расскажу все сначала, за что заковали меня в кандалы.
«Типично бандитская психология, – усмехнулся Герард Гаврилович, – сначала – палачи и изверги, и тут же – все расскажу, во всем покаюсь, если скидка будет…» Дальше, разумеется, про то, что он вырос в деревне у бедной старушки, но в город работать он рано ушел, а в городе много было нищих, убогих, но место лакея у графа нашел… Вот такие повороты судьбы!
Так, а что там было дальше? Ну, разумеется, как и в «Дочери прокурора» – у графа того была дочь Жозефина, любимица графа и графских гостей… Остальное ясно: и часто шептали уста Жозефины: «Сыграй мне на скрипке, мой милый лакей». Черт его знает, где сиротинушка, выросший у бедной старушки, выучился играть на скрипке, инструменте чрезвычайно трудном для овладения, но это тогда никого не удивляло. А слова «мой милый лакей» доводили бедных пацанов до судорог…
Дальнейший текст блатного шедевра совершенно забылся, но реконструировать ход мысли ничего не стоило. Натурально, любимица графа и графских гостей воспылала жгучими чувствами к безродному скрипачу с почему-то могучими плечами и отдалась ему в закоулках графского замка… Но граф, не будь дурак, их однажды застукал, и вот тут-то выяснилось, зачем сиротинке понадобились могучие плечи – строптивого графа он тут же укокошил на месте. И отправился по пыльной дороге, закованный в цепи… О судьбе любительницы музыки Жозефины вспомнить Герард Гаврилович ничего уже не смог. Но по блатной логике выходов у нее было два – помереть от тоски по плечистому скрипачу-разбойнику или выйти замуж за подвернувшегося богатого красавца-барона.
Впрочем, какая разница, думал Герард Гаврилович, шагая домой после окончания первого рабочего дня. Важно, что эта белиберда почему-то волновала и трогала до слез в те мучительные подростковые годы… И он пропел про себя: «И часто шептали уста Жозефины…» Тут же он вспомнил и трагическую историю «Дочь прокурора» и, так как приучал себя быть наблюдательным и искать истинную подоплеку даже вроде бы случайных фактов, подумал: не случилось ли у помощника прокурора похожей истории с дочерью? Или у кого-то другого в прокуратуре? Не из любви же к искусству переписывались слова блатной песни? «И вот эта вот Нина, эта дочь прокурора…» Интересно, кто же ее реальный прототип сегодня?
Дурацкие эти слова про «эту вот Нину, эту дочь прокурора» привязались к нему намертво. И он обреченно повторял их про себя даже в краеведческом музее, куда заглянул с целью подробнее ознакомиться с прошлым города, в который его занесла судьба. Музей ему понравился, оказалось, что в прошлом в Лихоманске жили люди, дарившие городу разные художественные произведения, приобретенные за собственные деньги. Особенно отличался в этом плане оборотистый купчина Краснобрюхов. Небось грехи замаливал, подозрительно подумал Герард Гаврилович. И тут же в какой уже раз пропел про себя идиотские слова: «И вот эта вот Нина, эта дочь прокурора…»
Откуда Герарду Гавриловичу тогда было знать, что прокурор Туз не рассказал ему того, что волновало его последнее время больше всего на свете, что приводило его то в трепет, то в ярость. Прокурор Туз не рассказал, что его единственная дочь, несравненная Василиса, судя по всему, увлеклась его злейшим врагом адвокатом Шкилем…
Глава 3
Прокурорские страдания
Цель – определить стоимость обуви по оставленным в грязи следам.
Из постановления о назначении экспертизы
И тут, Жан Силыч, судья спрашивает: «А проводился ли следственный эксперимент?» Я говорю: «Какой эксперимент?» А он: «На предмет установления, в состоянии ли был обвиняемый инвалид догнать потерпевшую бегом в том случае, когда у потерпевшей трусы находятся лишь на одной правой ноге?» Прокурор Туз с отвращением посмотрел на своего тщедушного и неудержимо лысеющего в последнее время заместителя Драмоедова, который докладывал о своем неудачном выступлении на вчерашнем судебном заседании. Рассматривалась попытка изнасилования и нанесения побоев инвалидом второй группы диспетчерше автобазы, не пожелавшей «вступать с ним в половые контакты на добровольной основе за деньги». Дело было смутное – сначала инвалид с диспетчершей вроде бы обо всем договорились, уже и трусы оба почти поснимали, а потом та вдруг заартачилась, стала говорить, что она не знала раньше про протез, а когда протез увидела, так ей прямо не по себе стало, и поэтому пусть инвалид еще денег добавляет. Инвалид разъярился, потому что был уже в состоянии сексуального аффекта, и сказал, что добавить он, конечно, может, но только кулаком по морде… Причем не один раз.
И рожа у него при этом была такая, что диспетчерша бросилась от него бежать в «недоснятых», как было отмечено в протоколе, трусах. А инвалид в неснятом протезе, но без трусов, поскакал, как козел, за ней, потому что у него уже там все дымилось… Ну и доскакался. Диспетчерша поскользнулась и сверзилась в какую-то колдобину, да так, что сломала руку и ногу и три месяца пролежала в гипсе без возможности работать. Мало того, перелом оказался такой сложный, что теперь ей самой приходится инвалидность оформлять. Ну, естественно, теперь она как человек, смотрящий регулярно телевизор, требовала, чтобы ей возместили и утрату трудоспособности, и моральный ущерб. А адвокат инвалида теперь доказывал, что догнать он ее на своем протезе вообще не мог ни в коем случае, в трусах она была или без трусов. И потому, получается, бежала она куда-то в недоснятых трусах по какой-то своей надобности, и инвалид тут совершенно ни при чем… – Ну а ты что? – спросил Туз, который, глядя на зализанные белесые волосики Драмоедова, представлял себе, как гогочет зал городского суда над двусмысленными подробностями, которые вытаскивает из глупой гусыни-потерпевшей ловкий адвокат Шкиль.
– А что я? Сказал, как было. Не делался такой эксперимент, потому что никто из женщин не желает бегать от инвалида в трусах на одной ноге. Даже для следственного эксперимента.
– А судья что?
– Говорит: как же нам в таком случае судить?
– А адвокат?
– А адвокат говорит: гражданин прокурор, вы же понимаете, что нам для выяснения истины и вынесения справедливого приговора надо узнать об изнасиловании как можно больше – где, когда, как? Было это вообще? А может, этого и вообще не было? Как же мы можем это узнать без следственного эксперимента? Тем более если обвиняемый вами инвалид утверждает, что «страдает половой слабостью по месту жительства»?
– Это как это – половой слабостью по месту жительства? Что, дома не может, а на улице – сколько угодно?
– Да нет, Жан Силыч, это я просто выразился так для краткости… В том смысле, что у него об этом справка есть, выданная в поликлинике по месту жительства…
– Ну ты, знаешь, сокращай-то поаккуратнее, а то уж больно у тебя заковыристо получается, без бутылки не допрешь…
Драмоедов подобострастно закудахтал что-то.
Туза невольно передернуло. Бред какой-то получается. Инвалид, страдающий половой слабостью по месту жительства. Баба, снявшая наполовину трусы, а потом испугавшаяся прежде не виданного протеза и побежавшая в трусах на одной правой ноге по какой-то своей надобности…
Но во всем этом бреде ясно чувствовалась направляющая рука. И Туз прекрасно знал, чья это рука. Тут был виден почерк адвоката Шкиля. Он явно решил превратить все в посмешище – и дело, и суд, и прокуратуру. Причем в особо циничной форме. И под все эти хиханьки да хаханьки выиграть дело.
– Я ему, адвокату этому, Жан Силыч, хотел там ответить, срезать так, знаете, сказать все, что о нем думаю, на место поставить… Да потом подумал, что в зале пресса, стоит ли связываться?
– Я себе представляю, – усмехнулся Туз и даже поерзал своим громоздким телом в просторном кресле. – Тебе, Драмоедов, с ним связываться, особенно в присутствии прессы, – это как раз то, что ему и надо. Так что хорошо, что не связался. А то бы ты тоже побежал по своей надобности в недоснятых трусах на одной ноге…
Драмоедов обиженно надулся. А что поделаешь, не таким, как он, такого адвоката, как Шкиль, осаживать.
Прославился Драмоедов тем, что наглый адвокат Шкиль, тогда только объявившийся в городе, в суде его чуть до слез не довел. Это в советском-то суде! Пусть уже и продуваемом насквозь ветрами перестройки, но советском же еще!
В те годы как раз родилась идея о привлечении КГБ к борьбе с экономической преступностью. Прокуратура области, как это и положено, должна была за следствием надзирать и в суде обвинение поддерживать. Но поскольку район находился далеко, область в порядке исключения поручила это дело Тузу как многоопытному и проверенному товарищу. А Туз, надо прямо признать, поступил неосмотрительно – бросил почему-то на эту работенку Драмоедова, рассчитывая, что ушлые и высокомерные чекисты сами со всем справятся, а Драмоедов при сем лишь поприсутствует. Но чекисты оказались ребятами хотя и решительными, но привыкшими работать, не обращая особого внимания на разные тонкости Уголовно-процессуального кодекса. Драмоедов же вместо того, чтобы хоть какие-то приличия при оформлении дела соблюдать, смотрел на них с открытым ртом, как на комиссаров в пыльных шлемах, и слово неодобрительное произнести был не в состоянии.
Чекисты же, умники, не придумали тогда ничего лучше, как сделать главной обвиняемой по делу о хищениях в тресте ресторанов и столовых женщину с оравой ребятишек. Та как начала в суде рыдать – потом выяснилось, что проклятый Шкиль ее специально этому научил, – так весь процесс и проплакала, доведя судью Сиволобова до полного изнеможения.
Сам же Шкиль на протяжении всего судебного рассмотрения постоянно мордовал суд различными ходатайствами по поводу допущенных в ходе ведения следствия нарушений. Чуть ли не каждую минуту вскакивал – и караул! И обязательно, язва такая, присовокупит: невозможно понять, как многоуважаемый прокурор, который здесь, между прочим, присутствует, мог такое допустить! А может, он и к делу-то допущен не был?
Драмоедов дулся-дулся, а потом не выдержал и скулящим голосом стал судью Сиволобова умолять:
– Товарищ судья, да остановите вы наконец это издевательство над прокурором! Чего он все время:
«Прокуратура такая, прокуратура сякая!» Он что, не понимает, что прокурор не может по пятам за следователем ходить? Прошу вас, товарищ судья, запретить ему без явной необходимости употреблять слово «прокуратура» впредь вообще!
Шкиль ядовито улыбнулся, а Сиволобов только плечами пожал. Он-то уже тоже видел, куда перестроечные ветры дуют и что с адвокатами теперь так просто нельзя.
Безжалостный Шкиль через минуту вскочил и залепил:
– Товарищи судьи, здесь снова грубо нарушен закон. А из этого можно сделать один-единственный вывод: должный надзор за законностью расследования не осуществлялся…
Тут он издевательски помолчал, посмотрел на Драмоедова, закатил глаза к небу и, когда все в очередной раз готовы были услышать слово «прокуратура», неожиданно закончил:
– …не осуществлялся, как положено, трестом столовых и ресторанов, в котором работает моя подзащитная!
Зал, конечно, издевательскую шутку адвоката оценил.
Услышав про тресты и рестораны, Драмоедов, который в бессильном ужасе ждал, когда адвокат снова начнет полоскать прокуратуру, вскочил, схватил бумаги и, чуть ли не рыдая у всех на глазах, проблеял:
– Меня тут… оскорбляют! Так нельзя, граждане!
Вид у него был такой, что даже обвиняемая плакать перестала. А Драмоедов схватил портфель и был таков.
Обомлевший от столь необычного поведения прокурора судья Сиволобов тут же объявил перерыв, помчался в свой кабинет, позвонил Тузу и сказал, умирая от смеха:
– Силыч, ты где таких пидоров подбираешь? Тоже еще чудо в перьях – прокурор со слезами на глазах! Он там у тебя не обоссался случаем? Может, вам в прокуратуре теперь на процессы подгузники надевать надо?
На следующий день Тузу пришлось самому идти в суд и в свирепой борьбе с адвокатом, гавкая и рыча на каждую его остроту, честь своей прокуратуры отстаивать.
Наверное, тогда он вполне мог от Драмоедова избавиться, но делать этого не стал. Не потому, что ему этого слизняка жалко было, а просто Жан Силыч, мужик тертый, хитрый, к тому времени уже все про систему, в которой живет и работает, знал. И понимал даже не разумом, а нюхом, что делать надо, а что не надо, и где лучше перетерпеть. За Драмоедова хлопотали серьезные люди, которые для прокуратуры много полезного могли сделать, а многоопытный Туз такими возможностями не разбрасывался. Он давно уже понял, что жизнь богаче всех законов и многообразнее любого из документов партии и правительства, даже самого исторического.
В общем, к началу девяностых, когда в стране все переменилось, он советскую систему принимал без всяких иллюзий, но сам лично перестраиваться не захотел. Не то чтобы он испугался новых правил, боялся, как говорили, не вписаться или выпасть из новой жизни… Нет, Туз при любых отношениях, хоть рыночных, хоть рабовладельческих, своего бы не упустил, потому что он знал самые важные законы жизни: где можно, а где нельзя, с кем можно, а с кем не стоит, как получится, а как ни за что не удастся… При этом четко усвоил для себя важнейший принцип: важно – не «что», важно – «с кем».
Просто с наступлением новых времен Жан Силович ясно почувствовал: для него они чужие. И его личное достоинство, которое он никогда не терял, не позволяет ему, задрав штаны и закусив удила, скакать в новые светлые дали. Которые оказались расположенными в прямо противоположном прежним далям направлении.
Новая жизнь не внушала ему доверия. Вот, скажем, праздников стало столько, что никто не знает, что и зачем празднуют. У язычников праздники и то были с идеей. Какие-нибудь игрища по поводу сбора урожая, удачной охоты, превращения мальчиков в мужчин. У религиозных торжеств дух и идеи были на первом месте. А у советских праздников! Идеология была твердокаменная. Пусть принудительная, выдуманная, тупая, как День работника коммунального хозяйства, но была.
А ныне? Ничего. Ну в полном смысле ничего. Праздники теперь – одна праздность. И только. Бессмысленное ничегонеделание. Многодневное и отупляющее. И – пиво, пиво, пиво, пока брюхо не лопнет… Что День конституции, что День независимости – все едино. Все только повод для выпивки и тупого безделья.
Вот германцы на своих пивных торжествах не просто пивом наливаются, натянув дедовские кожаные штаны, но и дух тевтонский при этом вызывают, проникаются им. И французам праздник вина Божоле нового урожая нужен для того же, а не ради кисленького, недобродившего винца. И у татар сабантуй не просто для питья кумыса.
Праздники должны объединять, а тут каждый разделяет. Одни эту самую солидарность отмечают, другие – весеннее безделье.
Нет, Туз не был тем, кого теперь презрительно называли «совком», но посчитал, что раз Господь распорядился так, чтобы жизнь его совпала с советским временем, пробираться, протискиваться бочком в новые времена он не станет.
А поняв это, Жан Силович стал потихоньку подбирать себе преемника, потому что бросать ставшую родной за долгие годы службы прокуратуру на какого-нибудь Трюфеля-Бибика или Драмоедова-Забабашкина не хотелось.
Тем более что у Туза уже несколько лет в городе был неприятель, с которым он вел изнурительную борьбу, и сдаться было невозможно по многим обстоятельствам.
Неприятелем этим был адвокат Артур Шкиль.
Шкиль объявился в Лихоманске с началом перестройки и гласности, как черт из табакерки. Получил разрешение на адвокатскую деятельность и быстро-быстро с иезуитской улыбочкой стал разрушать всю ту систему, что в городе прокурор Туз с судьей Сиволобовым долгие годы отстраивали.
И вот с точки зрения сохранения этой системы Тузу сразу приглянулся Герард Гаврилович Гонсо. Ибо была в нем романтическая увлеченность делом и убежденность, что в прокуратуре много хорошего сделать можно. А это в среде нынешних прокурорских редкость. Проклятая служебная лямка и круглосуточное обращение среди всех мыслимых и немыслимых мерзостей жизни из большинства работников романтические убеждения выбивает быстро и неотвратимо. А в Герарде Гавриловиче с его честным усердием Туз как-то сразу почувствовал родственную душу. И потому-то и поручил ему лично заниматься расследованием дела об украденной в церкви утвари. Очень уж он рассчитывал в случае успеха «засветить» его перед начальством.
Глава 4
Адвокат берет свое
Надеюсь, суд вынесет такую меру наказания, которая не усугубляла бы уже имеющийся смертельный исход.
Из речи адвоката
Артур Сигизмундович Шкиль, ставший с некоторых пор ночным кошмаром прокурора Туза, лежал в душистой ванне и думал о будущем. Несколько лет назад начинающий юрист Шкиль точно угадал, какие наступают времена, какие перспективы они открывают, и потому добился в жизни многого. Теперь чутье опять подсказывало Шкилю приближение перемен, и он всерьез размышлял об их смысле и сути. А также о том, что конкретно он, адвокат Шкиль, должен в связи с этим делать. То есть надо было опять попытаться заглянуть за линию горизонта, где копились тяжелые снеговые тучи и брали начало ветры неотвратимых перемен. Артур Сигизмундович вовремя почувствовал, что перемены, затеянные незадачливым коммунистическим вождем, остановить уже невозможно, так что надо действовать исходя именно из этого обстоятельства. Смысл же происходящего Шкиль сформулировал для себя очень просто: лопнул коммунистический панцирь и обнаружилось, поперло наружу то, что этот панцирь долгие годы сковывал…
Наружу вылезло человеческое нутро. Опять оно, уже без всяких там идеологических оков, стало править бал на бесконечных просторах развалившегося государства Российского.
И сколько бы ни морочили голову простому народу демократией и либеральными ценностями, теперь снова каждый за себя, кто смел, тот и съел, у сильного всегда бессильный виноват, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать…
Ничего нового. Люди остались людьми, какими были за тысячи лет до коммунистического эксперимента.
А значит, надо жить по законам современных джунглей. И ничего изобрести тут не удастся. То есть не надо и пробовать. Как в той же Америке, одним из хозяев жизни в джунглях теперь становится lawyer – адвокат, крючкотвор, законник, способный вывернуть закон наизнанку, умеющий кого угодно отмазать, а кого угодно разорить и посадить. А это уже дает самое главное, что может иметь человек, – власть. Реальная власть, которую признают все – и государство, и прокуратура, и бизнес. А раз признают и испытывают в ней нужду, значит, и платят по полной программе.
Поэтому свою деятельность в Лихоманске адвокат Шкиль начал не с делания денег, а с создания репутации. Будет у него репутация, что он способен выиграть любое дело, деньги ему сами принесут.
Артур Сигизмундович добавил в ванну горячей воды и душистого шампуня на натуральных лесных травах. Свое тело он любил и берег. Тем более что скоро оно ему очень даже понадобится…
Так вот о репутации.
Шкиль поначалу брался за любые дела, в отличие от других осторожных коллег совершенно не боясь связываться с городской прокуратурой, в которой восседал легендарный Жан Силович Туз. Потому что он знал, что обладает оружием, которое не по зубам застрявшей в советском прошлом прокуратуре.
Шкиль умел и любил превращать судебный процесс в спектакль, в зрелище, в шоу. Он устраивал представления со слезами, покаяниями, истериками и неожиданными признаниями, которые безошибочно действовали на публику. А в прокуратуре по-прежнему работали советские люди, изрядно развращенные годами потакания, ложными представлениями, что они все еще надзирают за судом и там автоматически проштампуют представленные ими дела.
И еще одно оружие бесстрашно обнажал в суде Шкиль – непристойные, физиологические стороны жизни. Он давно убедился, что русский человек пуще всего на свете стесняется именно этих сторон жизни, стыдится их и готов пострадать, только бы они не были выставлены перед другими наружу. Это самовлюбленный американец или европеец совершенно спокойно рассказывает в суде, что у него со стулом и каковы были последние анализы кала и мочи. А русский человек буквально исстрадается, измучается весь, когда дело доходит до дерьма или спермы. Может, он в душе себя бесплотным и непорочным ангелом считает? Вот Артур Сигизмундович их самым обыкновенным дерьмецом-то и доводил до судорог и безоговорочной капитуляции.
Первым, на ком он испытал это оружие, был бессменный директор местного техникума, член горсовета, упертый коммуняка Кременюк, возомнивший себя одним из отцов города. Почему-то Кременюк вообразил, что именно ему должно указать адвокату Шкилю, который быстро стал одним из лидеров демократической оппозиции в городе, его законное место – у параши. Пока другие демократы жаловались друг другу на самоуправство и тупость коммуняк, Шкиль искал дело, по которому можно было хорошенько прищемить Кременюку яйца.
И нашел. Секретарша Кременюка за торт и бутылку легендарного в те годы ликера «Амаретто» согласилась сделать копии нескольких жалоб и рапортов, поступивших на имя Кременюка, – и в качестве директора, и в качестве члена горсовета. Артур Сигизмундович стал обладателем чудных бумаг, которые вопиющей безграмотностью и чудовищной бессмысленностью потрясли даже его ко всему привыкший разум.
«Так как я к демократам не отношусь, решил обратиться прямо к вам…»
«За хорошую работу приказываю наградить товарища Персикова Д.Н. почетной доской…»
«До работы в вашем техникуме я не знала, что такое болезнь, была что вдоль, что поперек…»
«Товарищ Зимина В.П., прошу принять на работу гр. Иванова Ю.В., несмотря на то, что по национальности он армянин… Кременюк».
«Наблюдаются элементы зазнайства и сибаритства, в результате чего допускает опоздания на работу…»
Слегка очумев от этого словесного и умственного изобилия, Шкиль наконец наткнулся на документ, представлявший несомненный интерес. Другой бы тут ничего перспективного не увидел, но на то Артур Сигизмундович Шкиль и был lawyer милостью божьей.
«Товарищу Кременюку Г.В.!
Настоящим рапортом рапортую, что, несмотря на то что лично мною уже были поданы три рапорта о том, что необходимо повесить крючки на дверях уборной во дворе, таковых привешено не было.
Между прочим, отсутствие таковых приводит к скандальным происшествиям в уборной, куда ходят кроме студентов еще и служащие соседней типографии, у которых своей уборной нет и не предвидится.
27 декабря студенты, как всегда на переменах бывает, бежали как бешеные через двор в уборную. А там уже сидели по своим надобностям в кабинках граждане из типографии, некоторые даже инженеры. Ввиду отсутствия крючков, на что я неоднократно предупреждал, указанные граждане сидят на унитазах в кабинах и руками держат двери за ручку. Причем из-за отсутствия сидений сидят орлом, что очень неустойчиво.
А студенты, как обычно бывает, ворвались в туалет, как дикие звери, и стали рвать двери кабинок на себя. В результате этого они стащили гражданина Пирожкова А.П. с унитаза. А так как он держался за ручку изо всех сил, его выволокло из кабинки и бросило вниз под писсуары, где он ушиб колени, разбил в кровь лицо и очки, вымазал и замочил экскрементами до полной негодности свой костюм. Вот в таком обидном виде он при прочих гражданах и студентах находился под писсуарами, пока не пришел в себя…
Прошу урезонить студентов, которые ведут себя недостойно и выволакивают с унитаза уже третьего оправляющегося по надобности гражданина. Крючки к дверям так и не повешены, а ругают меня как коменданта некультурными словами.
К сему,комендант О. Квастушенко»
Убедившись, что бумага совсем свежая, Шкиль на следующий день разыскал гражданина Пирожкова А.П. и с удовлетворением убедился, что следы падения с унитаза и продолжительного лежания под писсуарами налицо. Пирожков оказался свой брат демократ, и они тут же направились в поликлинику, где еще один близкий по духу человек демократических убеждений выдал Пирожкову справку о полученных травмах и при этом чуть сгустил краски. Так что травмы стали, конечно, совместимы с жизнью, но с большим трудом. А потом они направились в прокуратуру, где Пирожков А.П. под руководством своего адвоката Шкиля А.С. потребовал привлечь к ответственности директора техникума Кременюка Г.В. за халатность, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, а также возместить нанесенный ему материальный и моральный ущерб. Пирожков, оказавшийся демократом на все сто, при написании заявления прошептал: «Это вам, коммуняки, за мою погубленную молодость!» По наущению Шкиля он свой изгаженный костюм стирать не стал, а бережно упаковал в целлофан, сохраняя для следствия и суда.
Конечно, прокурор Туз попытался историю замять, старого знакомца Кременюка выручить, но после нескольких инспирированных Шкилем выступлений так называемой демократической прессы сдался и дело дошло до суда.
Ну уж в суде Артур Сигизмундович постарался и развернулся. Красок и подробностей он не жалел. А так как и Кременюк, и прокурор Драмоедов при словах «каловые массы» отводили глаза, суд превратился в его бенефис. Перебил его торжество разве что комендант Квастушенко, когда стал «разъяснять в деталях», как граждан сволакивали с очков, которые они занимали в порядке законной очереди, и как он вел смертный бой с руководством техникума за выделение средств для соответствующего нормативам оборудования туалета.
Очумевшего от стыда Кременюка в результате приговорили к штрафу, а частное определение о недобросовестном исполнении им служебных обязанностей ушло в областное управление образования.
И товарища Кременюка не стало. Он как бы испарился. Сначала от пережитого слег с психическим расстройством, а потом, не перенеся пытки, с придуманным для него Артуром Сигизмундовичем прозвищем Очкодав, и вовсе убыл в неизвестном направлении. Тогда всем в городе стало понятно, что с адвокатом Шкилем связываться – себе же самому «Содом и геморрой», выражаясь словами Шламбаума, наживать.
Да, чисто было сработано, с удовольствием вспомнил Артур Сигизмундович, взбивая пену еще пышнее. И самое приятное, что никто другой не увидел бы в идиотском рапорте коменданта таких перспектив. Между тем настоящий lawyer тем и отличается от обычного адвокатишки, что не ждет, когда кто-нибудь принесет ему на блюдечке выигрышное дело. Он ищет его сам, находит, а потом придает нужное направление работе. Это уже стиль и высокий класс.
Вот и сейчас Артур Сигизмундович думал над триединой задачей, которую поставила перед ним бурно развивающаяся жизнь.
Обладавший чутьем на перемены, он ясно чувствовал, как меняются времена. Эпоха демократического бардака явно заканчивалась, народ в тайных своих мыслях жаждал наведения порядка и установления твердой и понятной власти. Так как демократы за редким исключением для этого не годились, потихоньку на первые места стали возвращаться советские руководители и те, кого их взгляды и подходы к делу не смущали.
Словом, возвращалась властная лестница, иерархия, в которую надо было умело встраиваться. Адвокат Шкиль с репутацией гонителя и опускателя начальников всех мастей в нее явно не вписывался. Значит, надо было исправлять репутацию, подчищать кредитную историю.
И здесь Шкилю пришел на ум гениальный ход.
Дело в том, что у прокурора Туза была дочь Василиса. Давно уже Артур Сигизмундович ощущал некоторое гудение в голове и тесноту в груди при виде ее. Василиса была именно то, что имеется в виду при словах «русская красавица» и «спящая царевна». Она была большая и сильная, как сам Туз, но без всякой грубости, неуклюжести и мужиковатости. Она несла свое дородное тело с ленивой легкостью и расслабленной грацией тигрицы. У Шкиля буквально захватывало дух, когда он ее видел. К тому же он понял, что супружество с Василисой дает ему такие дивиденды, какие в Лихоманске больше ничто обещать не может.
Прежде всего обладание такой красавицей сулило неземные наслаждения, а Шкиль был поклонником женской красоты и ценителем доставляемых ею удовольствий.
К тому же стать зятем легендарного Туза означало вознесение на самую городскую верхушку. А может, и областную… Со всеми вытекающими последствиями.
Разумеется, Артур Сигизмундович знал, как относится к нему Туз. Он не питал никаких иллюзий. Потому что у него был в прокуратуре свой агент-информатор – не кто иной, как заместитель прокурора Драмоедов. Да-да, тот самый Драмоедов, которого Шкиль доводил до слез и судорог в суде. Но зато стоило разок-другой проявить некоторое участие, выручить в нескольких щекотливых ситуациях, пообещать содействие в продвижении по службе, как унижаемый Тузом заместитель Драмоедов тут же превратился в информатора. Причем информатора инициативного, восторженного, опаляемого изнутри задушевной ненавистью и завистью к Тузу. Драмоедов с восторгом передавал Шкилю, что говорит о нем этот грубиян и скотина Туз.
Так что Шкиль не заблуждался, но и не считал ситуацию безвыходной. Хотя, по сведениям Драмоедова, в последнее время Туз всячески пытался посодействовать сближению Василисы и его любимчика следователя Гонсо. И вроде бы даже не без успеха.
Рассуждал Шкиль так. Туз любит свою дочь отчаянно. Если Артур Сигизмундович своими несомненными достоинствами окончательно покорит сердце умной Василисы, с которой они уже не раз встречались и в разговорах поняли несомненную близость своих душ и интересов, то Туз перечить дочери просто не сможет. И никакой Гонсо ему не поможет.
К тому же ничего не стоит «опустить» восторженного Гонсо в глазах как Туза, так и Василисы.
И потом, вполне можно найти мягкую узду и на самого Жана Силовича. Он так давно крутится в руководящей должности, такие передряги прошел, что наверняка у него за спиной грехи, которые он не пожелал бы вытащить на свет. Если эти грехи раскопать да предъявить, то наверняка и грозный Туз станет сговорчивее. Он хоть и грозный, но мужик смекалистый и, если поймет, что иного выхода нет, упрямиться не станет. А грехи, по-нынешнему «компромат», изготовляются сегодня только так.
Оставалось решить, с чего начать. Дело самого Туза было наиболее трудоемким и требовало тщательной подготовки. А вот начать работать с этим правдорубом-романтиком Гонсо можно сразу. Прямо сейчас. Нужен только подходящий материал. Можно было бы, конечно, наехать на него за недавнее незаконное задержание Пирожкова с применением грубой физической силы и нарушением прав человека, но… Во-первых, этот самый свихнувшийся либерал Пирожков давно уже осточертел Шкилю со своим нытьем по поводу возвращения тоталитаризма, так что связываться с ним не было никакого резона. А во-вторых, Гонсо в этой истории выглядит прямо героем без страха и упрека, а Шкилю этого никак не нужно. Так что нужно искать другой повод выставить этого романтика на посмешище.
Глава 5
Дело было…
По месту жительства он характеризуется отрицательно, по месту работы – положительно. Думайте, как вам будет угодно…
Из характеристики, представленной в прокуратуру
Прокурор Туз смотрел в своем кабинете по телевизору новости из столицы. В это время сотрудники прокуратуры старались его не беспокоить, потому что знали – для Жана Силовича это святое время, когда он осмысливает происходящее в стране и мире. Конечно, не столько сами новости интересовали Туза в процессе обдумывания происходящего. Ему, старому опытному следопыту, было любопытно все – порядок освещения новостей, расставляемые дикторами акценты, детали телевизионной картинки, случайно пропущенные в эфир слова, выражение лиц высокого начальства… Все ему было важно, все им учитывалось, бралось на заметку, сопоставлялось с теми сведениями, что поступали из других источников, а потом вписывалось в общую картину творившегося вокруг. И надо признать, Туз редко ошибался в своих умозаключениях.
Герард Гаврилович заглянул в кабинет Туза именно в эти неприкосновенные минуты. Туз недовольно покосился на Гонсо и только рукой махнул на стул – мол, садись да помалкивай.
Новости, судя по всему, шли к концу.
На экране появилось безбрежное поле колосящейся пшеницы, колышущейся под порывами теплого ветра. Просто картина художника Левитана из школьного учебника «Родная речь», подумал Герард Гаврилович. Или та самая картинка в букваре, с которой, как в песне поется, начинается родина.
И тут в кадре возник человек. Он вошел в волнующееся пшеничное море, задумчиво поглядел на далекий горизонт, потом сорвал несколько колосков и стал внимательно их изучать. Такие кадры Гонсо видел по телевизору сотни раз. Теле-корреспонденты не терзали себя муками творчества, выбравшись в сельскую местность. Они загоняли начальство в поле и заставляли теребить колосья. Все это называлось – «Труженики села вырастили богатый урожай зерновых».
Но с этим человеком что-то было не так, и Герард Гаврилович даже не сразу сообразил, что именно. Потом дошло. Человек был негром.
И тут диктор ликующим голосом сообщил, что сей молодой уроженец Африки после окончания института решил остаться в России и теперь работает агрономом в колхозе. А вот что он думает о таком волнующем всех российских граждан вопросе, как частная собственность на землю… Тут же уроженец далекой Африки с заметным еще акцентом и искренним воодушевлением поведал телезрителям о том, что земля не может принадлежать кому-то одному, ибо она божья и принадлежит всему нашему народу. «И священное это право на родную землю надо отстаивать и защищать изо всех сил, – с убеждением сказал африканец, – потому что коварные иноземцы только спят и видят, как бы скупить лучшие земли. И если их коварные планы сбудутся, российский человек сможет попасть на собственные земли только как наемный работник, батрак…»
– Ни хрена себе агроном, – прохрипел на этих словах Туз.
А Герард Гаврилович вздрогнул – Туз просто дословно угадал его мысли.
Но здесь неугомонный диктор сообщил, что телезрителей ждет еще один любопытный сюжет, на сей раз из старинного русского города. И снова на экране на фоне типично российского пейзажа появился совершенно черный человек, веселый и улыбчивый, говорящий уже практически без акцента. И говорил этот африканец удивительные вещи. Когда его, в частности, спросили, чем он намерен заняться в первую очередь, сообщил: больше всего на нынешний день его беспокоит подготовка города к зиме, то есть состояние городских котельных и теплосетей. Беспокойство африканского человека по поводу предстоящей русской зимы было понятно – пальтишко какое-никакое нужно, шапка, обувь подходящая.
– Эх, мама, мама, что мы будем делать, когда настанут зимние холода? – прохрипел Туз, и Герард Гаврилович опять поразился, как похоже они мыслят. – Котельные ему чего дались?
И тогда ликующий диктор сообщил, что котельные и теплосети волнуют молодого человека, работающего в больнице медбратом, вовсе не просто так, а потому, что демократические силы города выдвинули его кандидатом в мэры… А веселый медбрат, продемонстрировав во всем великолепии свою белозубую улыбку, клятвенно заверил уважаемых жителей старинного русского города, что в случае избрания не привезет из Африки на руководящие должности своих родственников и знакомых, а объявит честный конкурс на замещение вакантных должностей среди местных аборигенов…
– А родственников у него, видать, все племя, – пробормотал Туз, выключая телевизор. – Дожили, блин, до светлых дней!
Герард Гаврилович решил успокоить разволновавшееся начальство и примирительно сказал:
– Что делать, Жан Силыч, демографический кризис. Яма, как говорят ученые. Не хотим рожать, вот и приходится надеяться на иммиграцию. Либералы говорят, что нам нужно каждый год по миллиону человек ввозить, иначе экономика встанет.
– Ну, эти, конечно, знают! Эти посоветуют так посоветуют! – хмыкнул Туз. – Это что же – целыми племенами, что ли, из Африки завозить? А что с ними потом тут делать прикажешь?
– Воспитывать помаленьку, Жан Силыч, прививать им, так сказать, нашу культуру, наши ценности.
– Культуру! Иди привей ее миллиону человек, которые по-нашему ни бельмеса не понимают! Знаешь, я думаю, это не мы их Пушкина читать научим, а они нас быстрее обучат мумбу-юмбу на морозе плясать. Тем все и закончится, помяни мое слово! Мумбу-юмбу нам подавай! Пущай она за нас работает. Она наработает!.. Ладно, чего у тебя там? С панагиаром этим как дела? Нарыл что?
Герард Гаврилович, которому давно уже не терпелось поделиться с Тузом своими соображениями по особо важному делу, принялся докладывать.
Помня наказ Туза «Тщательный осмотр места происшествия – прямой путь к раскрытию преступления», Герард Гаврилович старался как мог. С экспертом-криминалистом они облазили всю церковь и окрестности. Но следов, увы, было как кот наплакал. И даже меньше. Удалось найти только отпечаток ботинка какого-то огромного размера. Причем непонятно было, кому он принадлежал. Эксперт сказал, что ботинок такой может принадлежать лишь верзиле-баскетболисту за два метра ростом. А перепуганный своей ошибкой с Пирожковым староста теперь вообще боялся что-либо молвить. Только и молотил про то, что бес попутал и ввел его в соблазн клеветы. К счастью, батюшка, молодой и вполне деловитый, повысил на него голос и сказал, чтобы отвечал на все вопросы господина прокурора как на духу, иначе… Только тогда очумевший от невзгод староста сказал, что злодей был роста вполне нормального, но лысый и с бородкой…
– И тут до меня дошло, Жан Силович! Вспомнил я! Староста говорил, что он застал преступника, когда тот пытался подслушать, нет ли кого в церкви!
– Ну и что? Что нам это дает? – не понял Туз радости Гонсо.
– Как что? Он же ухом прямо к замочной скважине приложился!
– Ну, приложился, – раздраженно сказал Туз. – Тоже событие! А если бы он задницей приложился? Ты бы тоже тут скакал от радости?
Но увлеченный своими соображениями Гонсо раздражения начальства даже не заметил. Не до того было.
– Жан Силович, так ведь доказано уже, что строение ушной раковины человека так же неповторимо и уникально, как и папиллярный узор пальцев! Контуры завитка, противозавитка, козелка отличаются абсолютной индивидуальностью! И почти не изменяются при соприкосновении с какой-либо поверхностью! Независимо от силы придавливания!
– Ну, это, я думаю, зависит от того, как придавить, – не желал сдаваться Туз. – Если по уху дубиной двинуть, так, думаю, изменения там произойдут!
– Ну, у нас-то дубины не было, Жан Силович! А то придавливание, которое наблюдается, когда прикладывают ухо к замочной скважине, индивидуальные характеристики не меняет. Так что эксперт сказал, что отпечаток замечательный! Дайте, говорит, живое ухо – мигом идентифицирую!
– Ну, правильно! Есть у тебя отпечаток со всеми козелками и завитками, а где ты само это ухо возьмешь? В натуральном виде?
– Так ведь у нас не только ухо есть, Жан Силович!
– Ну да? А еще что?
– Зубы!
– Чьи зубы? Откуда зубы? Он что, еще и дверь зубами грыз?
– Он же старосту укусил, Жан Силович! Оттиск зубов оставил – просто загляденье. И тут я вспомнил! Мне же врач зубной сказал, что он по зубам всех своих пациентов помнит.
– Ну, сказать-то он может!
– Там оттиск необычный. Очень характерный!
– Ну, в общем, все ясно. Следов – море. Уши с зубами да сапоги-великаны, неизвестно кому принадлежащие! И что ты со всем этим богатством делать будешь?
– Преступника искать! Для начала надо обойти все зубные кабинеты – кто-то из дантистов может вспомнить.
– Может вспомнить, а может и нет. Только это, Гаврилыч, ты не забывай, что ты прокурорский работник, а не опер начинающий. Я же вижу – сейчас сам побежишь по зубодерам с высунутым языком. Пусть Мурлатов тебе людей выделит для оперативно-розыскных действий.
– Ага, и сам преступника поймает! – проговорился о своих тайных мыслях в азарте Гонсо.
Туз крякнул, но ничего не сказал. Потом поинтересовался:
– Там адвокат этот… Шкиль… Он не возникал? По поводу невинно пострадавшего гражданина Пирожкова?
– Да нет, Жан Силович.
– Ну и хорошо, а то он нам в последнее время столько нервов истрепал… Умеет, собака!
– Ничего, Жан Силыч, на то и адвокаты, чтобы прокуратура лучше работала! – утешил руководство Герард Гаврилович, из которого энтузиазм бил фонтаном. – Будем тщательнее готовить дела, доказательную базу отрабатывать и закреплять по полной программе… Если дело крепкое, никакой адвокат его не развалит!
– Никакой, может, и не развалит, а эта зараза Шкиль в любом деле дырку найдет. Он же не правду ищет, а с какой стороны следствие поддеть, к чему придраться… Ты мне лучше скажи, вы с Василисой вчера встречались?
Гонсо залился краской. Всякое упоминание о Василисе вызывало у него душевный трепет и стеснение в груди. Гонсо, конечно, давно уже не был мальчиком, да и студенческая жизнь много чему его научила по женской части, но в Василисе чувствовалась столь необъятная женская сила, что Герард Гаврилович невольно робел. Глядя на нее, он даже думать боялся, что эту мощную и прекрасную, как античная скульптура, девушку можно освободить от одежд, ласкать ее тело и даже вступить в обладание ее могучими чреслами…
На этом месте фантазии Гонсо обычно и вовсе обрывались.
– Встречались, Жан Силыч, – доложил Герард Гаврилович виноватым голосом.
– Ну и что, встреча прошла в дружественной атмосфере? – усмехнувшись, спросил Туз. Он прекрасно знал, какое впечатление Василиса производит на мужчин.
– В кино ходили, потом в кафе посидели…
– Ладно-ладно, – остановил его Туз, – я от тебя отчета не требую. Посидели – и хорошо. Просто родителям, сам понимаешь, всегда интересно, что там у детей… И потом, Василиса… Она, знаешь, вроде бы такая, что к ней и подойти боязно, а с другой стороны – впечатлительная, как ребенок, нервная ужасно, ее обидеть ничего не стоит.
Туз, как всегда, говоря о дочери, вдруг сбился и потерялся от нахлынувших на него чувств. Герард Гаврилович этот факт давно заметил и потому деликатно молчал.
Жена умерла, когда Василиса училась уже в третьем классе, и для Туза началась муторная и хлопотливая жизнь с дочкой, которую смерть матери страшно переменила. Василиса замкнулась в себе. Жан Силович призывал на помощь многочисленных ее теток, других родственниц, нанимал приходящих нянь, но видел, что дочь никак не может отойти от впечатлений от смерти матери, чувствует себя несправедливо обделенной и непонятно за что жестоко наказанной. И потому Туз постоянно этими обстоятельствами терзался и чувствовал себя рядом с дочкой в чем-то безнадежно виноватым. Ему казалось, что дочь живет только воспоминаниями о прошлом и ничем больше не интересуется.
А потом подошло время всяких женских дел, прокладок и циклов, и он попросил одну из теток Василисы обстоятельно поговорить с ней на эту тему.
Тетка заперлась с Василисой в комнате, а через час вышла из нее с изменившимся лицом.
– Ну, объяснила? – встревоженно спросил Туз, который все никак не мог поверить, что его дочь, вся сотканная из пуха и перьев, должна теперь жить непростой женской жизнью.
– Объяснила? – мотнула удивленно головой тетка. – Это она мне все объяснила да растолковала. Я ничего такого раньше и не знала! Это надо же, сколько лет прожила темная, как корова!
На этом просветительская работа с дочерью была закончена. Тем более что после убытия потрясенной открытиями тетки Василиса насмешливо сказала: «Пап, не надо заботиться о моем просвещении, ладно? Я уже сама все знаю».
А потом последовал звонок от классной руководительницы, которая попросила Туза зайти в школу. Выглядела она взволнованной, хотя Туз ее встревоженности сначала не понял. Подумаешь, Василиса в сочинении на тему «Мой любимый герой» написала, что ее героиня – гимназистка Оля Мещерская из рассказа знаменитого русского писателя Ивана Бунина «Легкое дыхание»… Что из того? Подумаешь, гимназистка! «А вы рассказ-то помните, Жан Силович?» – укоризненно спросила учительница. В ответ Тузу пришлось молоть чепуху про чрезвычайную занятость на работе и рост уровня преступности в районе в связи с историческим переломом, который постиг страну. «Я все понимаю, Жан Силович, – с грустным сочувствием произнесла учительница. – И про уровень преступности, и исторический перелом. Но рассказ вы все-таки почитайте. И тогда мы с вами вернемся к нашему разговору».