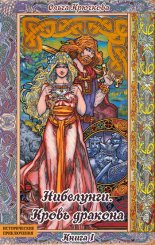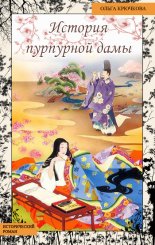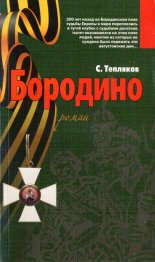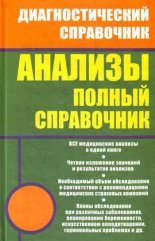Холодные и теплые предметы Кисельгоф Ирина
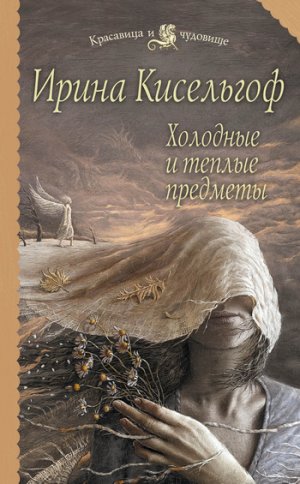
– Учись, – говорит он.
В его голосе жалость к такой бедолаге, как я. Но это добрая жалость. Даже не жалость, а что-то особенное. Вам не понять.
Вы когда-нибудь пробовали бараньи ребрышки, тушенные в пюре из айвы? Это божественно! Слюнки текут только от запаха трав и айвы! А вкус! Мясо можно проглотить вместе с косточками. Даже не знаю, кто до этого додумается, кроме Игоря. У него фантазия без конца и края.
Он показывал мне фотографии, которые делал для себя. Просто так. Люди на улице, на рынке, на работе, в подземных переходах, в больницах, в домах. Люди разные. Смеющиеся, плачущие, разъяренные, уставшие донельзя. В тоске, в боли, в счастье, в отчаянии. Старые и молодые. Успешные и выброшенные из жизни, как ненужная вещь. Фотографии подсмотренной чужой жизни. Даже в этом мы похожи. Но это не стыдно, потому что в них интерес художника. Все художники подсматривают за чужой жизнью, изменяя ее своим воображением. Все писатели записывают чужую жизнь, перемалывая ее своим воображением. Для того чтобы брать жизнь за хвост по-настоящему, нужен талант или гений. Игорь – гений.
– Я люблю быть один. Но один почти не бываю. Все время люди вокруг. Я отдыхаю от них в стороне. Сажусь, выключаю звук и наблюдаю за ними. С выключенным звуком люди становятся понятнее.
– Какие они?
– Это прозвучит смешно, но у судьбы есть клейма. Она ставит клеймо на человеке на всю жизнь. У каждого есть свое родимое пятно, свой знак. Он зашифрован, но ключ найти можно. Если постараться. Иногда это видно сразу. Человек смеется, а в его глазах горечь. Или он плачет и улыбается. Грибной дождь или бабье лето – вот что такое человек, как я его понимаю.
– А мой ключ где найти?
– В твоих глазах, – улыбается он.
– Разгадал?
– Я и не пробовал. Я об этом даже не думал. Я с тобой вообще ни о чем не думаю.
Он смеется, а я вижу его ключ. Я давно его разгадала. Не глаза, а руки. Руки, которые носят тяжелые мешки тяжелой жизни. Мышцы нанизаны на кости, как гири, перевиты перекрученными, перекрещенными сухожилиями и венами. Руки рельефные, без капли жира, с тревожно пульсирующими артериями на запястье. Большие пальцы с коротким до мяса ногтем, как обрезанные ножом соколиные когти. Надежные и родные руки. Мои запасные крылья.
– Ты читаешь чужую судьбу. – Для меня это ясно как дважды два. – Находишь в людях то, что они скрывают или о чем забыли.
– Сумасшедшая! – смеется он и обнимает меня крепко-крепко.
Так бы и простояла всю жизнь!
– Тебе нужна своя фотогалерея. Ты должен выставить свои работы. Они великолепны! Я знаю точно. Таких лиц даже нарочно не заметишь. Для этого нужен острый глаз. Как у сокола.
– Кому это нужно? – рассмеялся он и смутился.
Он всегда смущается, когда я зову его соколом. Вот балда любимая!
Сокол мой ясный. Разве можно понять эту метафору, если у тебя деревянная голова и сердце из пластика?
Самое смешное, что сердце из пластика тоже может разбиться. На нем могут появиться зазубрины, трещины, вмятины. Нужен особый пластик, чтобы чужие каблуки, чужие грязные пальцы и чужие нескромные взгляды не оставили на нем ран. Нужен пластик с устойчивыми, огнеупорными, многоуровневыми степенями защиты, чтобы пластиковое сердце всегда оставалось целехонько.
Я снова перелистала фотографии, сделанные им. В каждой из них чувствуется автор, он в них живет, переживая удел неведомых и мне и ему людей. Разве этого мало?
– Все хотят знать настоящую жизнь. Узнать в другом самого себя. Я вижу движения мышц, капель пота, слез. Растянутые фотообъективом секунды жизни. Разорванные молекулы чьей-то судьбы. Это здорово! Очень здорово! Лучше не бывает!
– Я видел и лучше.
– Откуда тебе знать, что лучше? Кто это видел?
– Ты.
– Разве этого мало?!
– Тебя мне всегда мало.
И снова мы любим друг друга в солнечном коконе Аматэрасу.
Два дня пролетели, что я и не заметила. Опять тоска смертная! Такая тоска, что выть хочется. Снова глаза на мокром месте.
А я научилась готовить бараньи ребрышки с айвой. Все записала, от и до. Вот! Завидуйте!
Все-таки я ненормальная. У меня мозги набекрень. То плачу, то смеюсь. Вы это уже, наверное, заметили.
Глава 12
Димитрий привез мне очередные блестящие побрякушки. Может, клоны думают, что женщины – наивные папуасы? Они нам – бусы и зеркальце, мы им – сердце и тельце? Смешные они.
– Спасибо, – поблагодарила я. – Но мне бы лучше прокладки.
Напомнила на всякий случай. По лицу вижу, что помнит или понял. Неважно.
– Как вела себя?
– Слушай, ты! Ты можешь делать все, что угодно…
– Есть повод? – перебил он меня.
– Нет!
Я разозлилась от страха. Не за свою жизнь. Ерунда! Загрызу вместе с пистолетом. Вдруг влезет в мою личную жизнь своими грязными пальцами? Залезет грязными ботинками в жизнь дорогого мне человека?
– С-слушай! – Буква «с» выстреливает из моих сжатых зубов и влетает ему в лоб.
– Слушаю, – спокойно говорит Димитрий.
Спокойнее не бывает. Может, я ему уже надоела? Тогда к чему этот цирк? Развернуться и уйти восвояси…
– Ну.
– Если ты меня хоть раз заденешь… Чем угодно…
– Восстание рабов?
Меня охватило такое бешенство, что, если бы у меня в руке был «калашников», я бы всадила очередь в его башку. Меня трясло от гнева. Он захлестывал меня, как цунами. Раздирал на куски, как трещины земной коры при землетрясении. Он несся селевым потоком, сметая все на своем пути. Сжигал лавой взбесившегося вулкана. И он меня сжег. Дотла.
– Да ладно, брось, – Димитрий обнял меня. – ПМС – это хреново. По жене помню.
– Ты меня задел. Два раза.
Я сказала так же спокойно, как он. И подняла на него глаза. Димитрий обучен читать послания жизни. Особенно такие, как в пустыне Наска. Чем крупнее, тем лучше он понимает. И он понял. Конец. Ему сказали адью.
Бешенство заразно. Его вирус проникает в мозг и вызывает смерть клеток. Бешенство начинается исподволь, с беспричинной тревоги, депрессии, бессонницы и заканчивается буйным помешательством и агрессией. Взбешенный человек кричит, не помня себя, и не может проглотить и глотка воды. В его горле камнем застрял истерический комок. Возбуждение сменяется опустошением, параличом воли, желаний и мыслей. Тогда можно и умереть. Потому бешенство и назвали бешенством. Списали название с разъяренного человечества.
От бешенства могут спасти прививки. На них нужно ходить месяц. Он них болит живот, голова и душа. Долго. Но это лучше, чем умереть от паралича.
Димитрий смотрел на меня, как на врага. В его глазах были злоба и остервенение. Такие же огромные, как знаки в пустыне Наска.
– Я знаю, что у тебя есть мужик. Я это чувствую. Я чувствую его запах. От тебя им смердит! Воняет! Я еще не знаю, кто он. Но я его вычислю. И я его найду. Я раздавлю его, как клопа! Смердящего клопа! Падаль! Ногами затопчу!
Он говорил негромко, но каждым словом он забивал гвоздь в крышку гроба. Мне стало страшно, как никогда в жизни. Я даже не думала ни о чем. Страх стер мой мозг, оставив белый лист.
– Тварь! Грязная тварь! Убью! Хитрая, лживая сука! Убью! Я раздавил бы твою башку, как грецкий орех! Собственными руками!
Когда твой мозг кричит «спасайся», ты спасаешься, как можешь. Я закрыла голову руками, как бедная дурочка. Он рычал бешеным зверем. Он силой отодрал мои руки. Он смотрел мне в лицо бешеными глазами. В них не было радужки, вместо нее был огромный зрачок. Он разодрал радужку до краев, оставив потоки крови на склере.
– Гадина! Раздавлю! Растопчу! Измажу ноги в твоей крови! Я буду по горло в твоей крови!
Он давил мне шею руками, ломая хрящи гортани. Я сипела и отдирала его руки из последних сил. Зачем мне так хотелось жить?
– Ты сдохнешь? Сдохнешь ты наконец? – без конца повторял он, сжимая мою шею.
А я видела его глаза близко-близко, в них были слезы. Я увидела его слезы, а потом красно-черную темноту.
Я пришла в себя на кровати от собственного судорожного всхлипа. Он сидел, отвернувшись. Он давил руками свою голову, как грецкий орех. У него побелели даже пальцы. Даже не знаю, почему я так хорошо это помню. Все мелочи. Все детали.
– Как же я тебя ненавижу! – устало сказал он.
Я рассмеялась. Я кашляла, сипела и хохотала во все мое выжившее горло. Знаете почему? Нужно быть полными идиотами, чтобы спать вместе для того, чтобы ненавидеть друг друга. Вот так. Чтобы. Чтобы. Чтобы. По-другому не скажешь.
Я хохотала и не могла остановиться. Я перестала смеяться от боли и крови во рту. Он дал мне пощечину. С размаху. В принципе он поступил правильно. У меня была истерика. Самая настоящая. Так поступит любой врач. Пощечина стала медпомощью и мне и ему. Вовремя.
– Чуть не убил.
Он посмотрел на свои руки, они еще дрожали, и тогда он крепко сцепил ладони. Завязал свои пальцы узлом.
– Знаешь, как просто убить? Я видел сам, как мой кулак превращает твое лицо в кровавое месиво. Я слышал, как хрустит твоя переносица, твоя шея. Видел, как зубы высыпаются изо рта. Вместе с кровью. Белые зубы в потоке крови. Один за другим. Я чуял запах человеческой крови. Твоей крови. Соленый и сладкий. Соленый и сладкий запах твоего страха.
Он рассмеялся.
– Сломать твою шею. А что? Легко. Ты и не сопротивлялась. Раз – и добить жертву. Раз – и готово. Спросишь, почему не добил? Я бы мог изрезать тебя на куски. Истоптать. Сломать. Но ты стала бы другой. Зачем мне другая?
Он повернулся ко мне. В его глазах были слезы. Значит, мне не привиделось. Это было…
Было так страшно узнать человека с другой стороны. И так больно. Больно до красно-черной темноты в глазах. Я была раздавлена. Я раздавила саму себя своей виной.
– Ты знаешь, что такое жить с человеком, которому на тебя наплевать? Спать с бабой, которая хочет другого? И врет тебе каждый день, каждый час, каждую минуту.
Он отвернулся и замолчал. Его руки были сложены на коленях. Он тоже смертельно устал.
– Иди ко мне, – сказала я. – Нет у меня другого.
Он пришел ко мне, а я перецеловала каждую его слезинку, чтобы он забыл о них хоть ненадолго. Я не изменила Игорю. Дороже у меня никого нет. Но меня поймут женщины, у которых есть любящий муж и любимый любовник. Любовь – самая страшная вещь на свете. Лучше держаться от нее подальше, чтобы остаться в живых. Это написано черным по белому, крупными или мелкими печатными буквами. Их можно прочитать, увидеть, услышать где угодно. Ты проходишь мимо, не замечая, пока не придет твое время. Соленое и сладкое время.
Наверное, лучше вовремя сказать своему любимому, что ты его любишь, иначе можно не успеть и пропустить самое главное в своей жизни. Если бы Димитрий сказал мне об этом раньше, я, наверное, звала бы его Димой – и у меня никогда не появился Игорь. А может, Димитрий меня раньше не любил и полюбил только сейчас. Может, он и сейчас не любит меня. И ему это только кажется. Я знаю только одно: я совершила непоправимую ошибку, позвав его к себе. Нет – значит, нет. Но… Все бабы дуры.
Мне приснился сон. Песок, маленькие сопки, низкорослые кусты с крошечными зелеными листьями и красными ягодами. Звенящий зной и марево. Когда очертания далеких предметов дрожат и расплываются. Жара, ужасная жара. И песок обжигает. Обжигает мои ноги. Ноги маленькой серой ящерицы.
Я проснулась и поняла. Все будет плохо.
* * *
Мне позвонила Лена Хорошевская.
Я не успела выдрессировать свою совесть. И она выгрызла у меня кусок мяса. Из сердца. Из того места, где живет Шагающий ангел.
Намного легче уводить мужчину у гипотетической женщины, которую совсем не знаешь. Гипотетическая женщина – это фантом за пределами сознания. О нем можно и не вспомнить. Труднее забрать мужчину у женщины, которую знаешь. Можно утешить себя тем, что та женщина не комильфо в буквальном переводе с французского[1]. Такая женщина напоминает о себе, как голограмма. Она рядом, но ее будто нет. Пройди сквозь нее и забудь. Но что можно сказать о самой себе, если ты крадешь последний кусок хлеба? Воруешь последний глоток воды?
Лена вышла из особого сундука моей памяти так же тихо и грустно, как ее голос.
– Тебе, наверное, некогда, – сказала она. – Я понимаю.
Я молчала. Я ненавидела себя. Я ненавидела своих родителей, своего деда за то, что они воспитали меня с сердцем из настоящего мяса. А я-то думала, что оно из пластика.
– Я просто хотела услышать твой голос, – заторопилась она. – Я позвоню позже.
Она не позвонила бы никогда. Нужно было дать ей это сделать. Вместо этого я откашлялась и сказала:
– Нет. У меня есть время.
Господи! Зачем я это сделала? Я проклинаю себя!
– Я приглашаю тебя к нам, – обрадовалась она.
К нам! Возьми топор и отруби себе руку, дура несчастная! Вот что значит ее «к нам».
– Завтра. Ты сможешь завтра вечером? Игорь будет дома.
Игорь. Что мы будем делать? Как же быть? Что делать?
– Втроем нам будет веселее, – она добавила упавшим голосом. – Пожалуйста! Приходи. Я очень тебя прошу.
Невыносимо слышать ее жалкий, просительный голос. Она и так унижена и предана близкими людьми. Самым близким своим человеком. Жалость невыносима, как ультразвук. От нее лопаются барабанные перепонки. Я хочу заткнуть уши и бежать без оглядки.
– Постараюсь, – сказала я без выражения. – Может, получится.
Есть состояния, когда нет ни одной мысли в голове. Я называю их черным квадратом. Черный квадрат антивещества всасывает в себя мои нейроны, мои нервные центры, все отделы моего мозга, мою спинномозговую жидкость. Черный квадрат – это состояние анабиоза. Защитная реакция для выживания. Запредельное торможение коры головного мозга для предохранения нейронов от истощения. Человеческий мозг – отличная вещь, он бережет человека от самого себя. Спасибо за это господу богу.
Мы сидим с Игорем в моей машине. Сидим и молчим. Мы знали, что рано или поздно это случится. Но не хотели об этом думать. Вспоминать. Мы не позволяли себе этого. Так легче.
– У меня есть другой мужчина, – говорю я.
К чему врать? Правда все равно выплывет наружу, хочешь ты этого или нет. Надо ему сказать, чтобы было легче. Нам обоим. Пусть ему будет противно. Пусть он ненавидит или презирает меня. Так легче расстаться.
– Я знаю, – отвечает он.
И молчит. А мне важно узнать.
– Давно?
– Сразу.
– Почему ты не сказал?
– Боялся.
– Чего?
Он молчит и потом спрашивает странную вещь:
– Зачем я тебе?
– Как?
Я не могу его понять. Или мой мозг совсем перестал работать.
– Нам лучше расстаться. У нас разная жизнь, – говорит он. Холодно и отчужденно.
Зачем я сказала о другом мужчине? Кто меня тянул за язык? Господи, дура я несчастная! Ты же знаешь, нельзя расставлять флажки вокруг очевидных истин. Тыкать пальцем, наступать на мозоль, сыпать соль на рану. Говорить голому, что он голый. Он и сам это знает. Просто надеется, что ты этого не замечаешь. Или что тебе все равно.
У меня склонность к самоубийству. Она сидит в подсознании и заставляет меня делать непоправимые ошибки. Одну страшнее другой. Да за что мне это?! За что? За что? За что?
Я проклинаю бога и бьюсь головой о руль, сама того не замечая. Шагающий ангел бережно отнимает мои руки и прижимает меня к себе. Я снова в его руках и слышу его сердце. Оно бьется как сумасшедшее. Он поднимает мою голову и целует в лоб, очищая его от проклятий богу.
Я вижу его розу ветров, он – мою. Они выстраиваются в одну линию парадом звезд ветров, гирляндой ядовитых роз. И все. Мы снова пропали в пропасти наших радужек. Провалились в адскую темноту наших зрачков. Забыли обо всем на свете. Забыли обо всех на свете.
Можно нас осуждать? Кто хуже, он или я? Наверное, я. Если бы я не появилась в его жизни, он остался бы Шагающим ангелом слепой женщины и целовал ей руки, стоя на коленях. Целовал ей руки в ложбинку между указательным и большим пальцами. А я звала бы Димитрия Димой и была бы его женщиной. И все было бы хорошо. Сплошной хеппи-энд.
Есть только одна вещь, которую нужно решить. Ходить или не ходить? Нелепый сакраментальный вопрос. Не ходить – не трусость, а милосердие пополам с предательством. Ходить – просто безумие. Прийти и сказать снова «радуйся, ребе», а потом поцеловать в губы? Безумие! Не ходить. Точно. Пусть будет как будет. Завтра позвоню и откажусь под любым предлогом.
– Как я буду смотреть ей в глаза? – сказал он при расставании.
Это было как плевок. Он сказал то, что говорить нельзя. Расставил флажки.
– Прости, – попросил он.
Его лицо сморщилось, словно ему было щекотно. Моему сердцу не было щекотно. Мне хотелось просто вынуть его из себя, чтобы не мешало жить.
– А если не прощу? – спросила я и прищурилась.
Я не стала дожидаться ответа. Это был вопрос, не требующий ответа по определению. Я надавила на газ так, что взвизгнули шины. Он остался стоять, становясь все меньше и меньше.
Так мы и расстались с Шагающим ангелом. Он отправился смотреть в глаза слепой женщины. А я его сразу простила.
* * *
Если у тебя плохое настроение – читай японскую поэзию. Если у тебя хорошее настроение – читай японскую поэзию. Если у тебя нет настроения – читай японскую поэзию, и настроение появится, хорошее или плохое. Японская поэзия – это печаль одиночества. Японская поэзия не будит воображение читателя, она проявляет его настроение, как фотоснимок. Ты читаешь и думаешь: это обо мне, даже если поэт имел в виду совсем другое. Потому лучше японца обо мне никто не расскажет.
- Не знаю отчего,
- Мне кажется, что в голове моей
- Крутой обрыв,
- И каждый, каждый день
- Беззвучно осыпается земля…
В моей голове беззвучно осыпается земля. Каждый день. Я вижу землю и не слышу, как она падает. Я чувствую себя старой. Старею и лежу. Ничего не ем. Просто не хочу. Я пьяный врач, который говорит, что меня больше нет.
Я пьяна печалью одиночества. Я пробую ее на вкус. Она прекрасна. Своеобразная горечь от наслаждения. Вкус красного сухого вина. Терпкого-терпкого, вяжущего-вяжущего, красного сухого вина. Вкус крови виноградин с их косточками и плодоножками. Виноградины умирают, раздавленные чужими ногами, чтобы доставить наслаждение от горечи их вяжущей и терпкой крови.
Зачем меня ты раздавил? Чтобы я пьянела от собственной горечи? Почему ты меня забыл? Чтобы пьянела от наслаждения своей горечью?
Я хочу, чтобы ты умер! Хочу, чтобы тебя никогда не было! Чтобы ты никогда не жил! Хочу вернуть все назад до того дня, как мы встретились. Я хочу быть счастливой или хотя бы спокойной.
«Когда он придет?» – спрашиваю я себя каждый день, зная, что он не придет, не позвонит, не напишет, весточки не пришлет.
Я произношу его имя про себя и вслух. Тихо и громко. По слогам и по буквам. Его имя означает горе невыносимое, горести нестерпимые, несчастья неисчислимые, беды непоправимые и разлуку вечную. Его имя звучит как гора, ее нельзя обойти, объехать, покорить. Гора близко, но далеко, дальше не бывает. Его имя пахнет гарью, пожарищем и пепелищем. Его имя пахнет тем, чего уже не осталось, сгорело дотла. Вот что такое его имя!
Что мне делать? Жить без него и выть. Вот что!
Господи! Ну зачем же я с ним встретилась? Ненавижу обоих. Ненавижу всех, вместе взятых, на всем белом свете. Помоги мне, господи!
Я не могу спать. Совсем. Я закрываю веки и вижу его глаза. Внимательные, неподвижные, огромные глаза. В их радужке обрыв, сразу у края. Она проваливается к зрачку. Я стою на ее краю. И начинается обвал земли цвета грозового неба. Без звука. Земля сыпется вместе со мной, забивая рот. Я падаю в черную темноту зрачка, и мне не страшно. Я уже задохнулась землей цвета грозового неба.
А розы ветров-то нет. И не было никогда.
* * *
Димитрий подарил мне букет цветов. Впервые. А я вспомнила букетик балетных цыплят и заревела. Нелепый, глупый, бессмысленный букет пыльной аптечной ромашки. Его давно уже нет. Забыт, разодран, рассыпался. Трупики балетных цыплят валяются на городской свалке среди выброшенных, негодных вещей. Среди отжившей жизни.
Я реву, а он целует мне руки и слезы. Я лежу на кровати, он стоит передо мной на коленях. Может, мужчины, стоя на коленях, целуют жалких женщин? Женщин – инвалидов души или тела?
Никогда не позволю целовать себя на коленях! Я сильная! Такая сильная, что хочется плакать.
Я глажу его по волосам. Мне жаль его. Ему не повезло так же, как мне. Мы полюбили того, кого не стоит любить. Никогда. Ни под каким видом. Ни при каких обстоятельствах.
Я сижу у Димитрия на коленях и шмыгаю носом. Он гладит меня по голове. Я что, пятилетняя бедная дурочка? Он что, мой отец? Папа?
Его Святейшество! Вот кто он! Терпеть не могу жалельщиков! Смотрят зеваками на то, на что смотреть нельзя. Позорище! Позволить видеть меня в таком состоянии… жалкой, беспомощной, пятилетней дурочкой!
Никогда не позволю дарить мне цветы! Знаете, кто носит цветы в больницу? Цветы больным носят не родственники, близкие или друзья. Близкие приносят то, что нужнее всего. Приносят немудреные мелочи, которые означают то, что тебя знают как облупленного. Знают, что важно для тебя, а что нет. Цветы носят сослуживцы, начальники, любые другие, посторонние, совсем чужие тебе люди. Формальное, ни к чему не обязывающее внимание.
Терпеть не могу цветы. Выбросить к чертовой матери!
Я люблю читать. Привыкла читать с детства. У моей кровати две стопки книг. Прочитанные и еще не прочитанные. Мои любимые книги. С детства. Я пробегаю глазами за пару часов даже самую толстую книгу. Я помню их наизусть. Одна стопка уменьшается, другая увеличивается. И все начинается вновь. По замкнутому кругу.
Зачем я это делаю? Не знаю.
Глава 13
С пасти себя от стресса можно разными способами. Хотя что я говорю? Спасти себя от стресса нельзя. Нельзя щелкнуть пальцами, чтобы вмиг все прошло. Я спасаю себя от стресса, закрывая мои горести, беды, неприятные воспоминания в особом сундуке моей памяти. Щелкает амбарный замок, больше я думать о них не должна. Ни под каким видом. Избегать любым способом. Любой психотерапевт скажет, что это не выход. Плевала я на психотерапевтов. Буду лечить себя, как считаю нужным. У меня высшее медицинское образование. Я врач, между прочим.
– Вы с ним расстались? – спросил Димитрий.
Я кивнула.
– Это правда?
Я снова кивнула.
– Хорошо. А то мне уже черт знает какие мысли в голову лезли. Или тебя прибить. Или его найти и убить. Нанять частного детектива. Но следить за тобой – это…
– Омерзительно.
– Нет. Это для тебя повод сбежать. Следить, знать и не сказать тебе. Это мазохизм. Не следить и не знать. Тоже мазохизм, но это легче. Легче, потому что я сам себя боюсь. Сам не знаю, что сделаю. Мне кажется, я могу убить. Это нетрудно. Я это вижу. Надо только привыкнуть к этой мысли. И все.
– Это была блажь. Эпизод. Так с каждым бывает. Сам знаешь.
Трудно произнести эти слова. С каждым словом я теряю что-то очень важное. Но ничего. И это скоро пройдет. Я знаю. Я справлюсь.
– Правда?
Вместо ответа я его целую. Целую, потому что люблю.
Как мне повезло! У меня есть Димитрий. Старый добрый друг и любящий муж в одном лице. Разве может быть такое на свете? Надо только его полюбить. Да я и люблю его. Я к нему привыкла. Он знает меня как облупленную, я знаю его. Он прощает мои слабости, я прощаю его слабости. Все просто замечательно! Дай бог каждому.
– Анна Петровна, вы замуж собираетесь? – спросила меня Лухтина, блестя глазами от любопытства.
Теперь Димитрий снова заезжает за мной. Почти каждый день. И мы едем к нему домой. Заниматься любовью. Все это видят. Вся больница. Ну и что? Кого это трогает?
– Моя личная жизнь никого не касается. Если она не мешает лечебному процессу, – холодно отрезала я и окинула Лухтину таким взглядом, что она стала заикаться.
– Я н-ничего н-не имела в-в виду т-такого, – пролепетала она.
– Вот и не имейте.
Да здравствует железная кнопка по имени Зарубина! Да здравствует ее литой панцирь, от которого жизнь отлетает горошиной! Да здравствую я! В прямом смысле здравствую. Я выздоравливаю и становлюсь самой собой. Черствой, холодной стервой. Я даже Ленке так и не позвонила. Ну и что? Она, надеюсь, поймет, что мне не до нее. Что мне на нее глубоко наплевать. И мне глубоко наплевать на ее праведного мужа! На ангела из преисподней, предающего всех направо и налево. Беспокоиться за тех, кого приручили, – неприлично до непристойности. Вы сами мостите себе дорогу в ад, в то время как прирученные вами считают каждый булыжник.
К нам пришел новый зам по лечебной работе, мой ровесник. Парашютист от Минздрава. В муниципальную больницу! Хотя надо начинать свою карьеру с чего-то. Мы сразу с ним сцепились. Я явилась в его кабинет по вызову.
– У вас плохо составлен отчет, – холодно сказал карьерист со стропами парашюта за спиной.
– Появились новые формы? – удивилась я.
Я всегда делаю все безукоризненно. Лучше многих. Такая у меня привычка.
– Нет. У вас просто плохо составлен отчет.
Его что, Седельцов науськал? Самому страшно, решил натравить прохожего, который «проходи, не задерживайся», – так, что ли? Или это самодеятельность, творчество посредственного художника от недомыслия и отсутствия воображения?
– Может, покажете образец? – деликатно поинтересовалась я.
– Вы заведуете отделением. Это ко многому обязывает. Вы обязаны знать. Здесь не школа.
Мне захотелось скрутить его за галстук и треснуть его головой об его же собственный стол.
– Послушайте, – мягко сказала я. – Вы заместитель главного врача по лечебной работе. Это тоже ко многому обязывает. Сначала покажите себя как высококлассного специалиста, потом учите работать. Если получится! И то и другое!
Я довела карьериста до белого каления. Он орал, и у него тряслись руки. Я наблюдала за его конвульсиями со стороны, как экспериментатор за подопытным кроликом. Конвульсии карьериста представляют неоценимый научный интерес. Рекомендую попробовать. Повеселитесь от души.
Я вышла из его кабинета такой же целомудренной, как и пришла. С девственно-чистой уверенностью в себе. В его кабинет тут же влетела секретарша. Та самая бедная дурочка, любовница Седельцова. Из-за муниципальной бедности у них с замом одна секретарша. Интересно, она станет отрабатывать барщину на двоих? Или Седельцов ее не подарит на блюдечке? Я бы на ее месте вплотную занялась карьеристом. Он холост, и у него нет мозга. Ни грамма.
Я цинична. Ну и что? Вам не должно быть никакого дела до чужой жизни чужих людей. Не ваше дело! Чужая жизнь – табу. То, что я говорю о других, я говорю самой себе. Свои комментарии о других я никогда не обнародую. У меня просто нет друзей, с которыми можно делиться. Это большой плюс. Никогда не рассказывайте о себе другим людям, можете потерять что-то очень важное. Отсутствие друзей снижает искушение до минимума. Заведите приятелей, этого вполне довольно. Не скучно и не напрягает.
– У тебя есть друзья? – спросил меня Димитрий.
– Вряд ли их можно назвать друзьями. У меня к ним двояковыпуклое отношение. Смотря чего ты от них ждешь.
– А чего ты ждешь от своих друзей?
– Все и ничего. Когда как. Друзья – это люди, с которыми просто проводят свободное время. Легкие, ни к чему не обязывающие отношения.
– Понятно, – сказал Димитрий.
Еще бы! Ему понятно, что я сказала, но не все могут понять мое мировоззрение. Хотя оно проще пареной репы. Когда мне что-нибудь очень нужно, друзья исчезают как дым. Когда мне от них ничего не нужно, они тут как тут.
И забудьте все благоглупости о любви. Любовь – самая незатейливая штука на свете. С точки зрения медицины это приманка для воспроизводства вида. Объединение взаимовыгодных интересов на уровне подсознания: с одной стороны, мужской инстинкт продолжения вида, с другой – женский инстинкт сохранения вида. Капните в этот немудреный коктейль пять капель половых гормонов и пару капель эндорфинов, и мужчину с женщиной потянет к сексу. И все. Ни больше ни меньше. Простая биология.
Если кто-то царапнул ваше сердце, используйте заместительную терапию – чужое сердце. Кто-то имеет вас, кого-то имеете вы. Правило сообщающихся сосудов.
У меня все отлично, только мучает бессонница. Но ничего. Это скоро пройдет.
* * *
– Что нужно сделать, чтобы тебя любили? – спросил меня Димитрий.
Я для него гуру? Сэнсэй потустороннего мира? Он старше меня на пятнадцать лет! Он меня должен учить жизни, а не я его.
– Вообще ничего, – ответила я. – Абсолютно.
Он смотрел на меня так, словно ждал продолжения. Хорошо. Ты сам этого хотел. И я рассказала ему свою теорию об одном действующем полушарии мозга. О разновидностях тяжелых прикладов жизни. О травмах головы и сердца, полученных путем воздействия тяжелых тупых предметов.
– Ясно, – сказал Димитрий. – И что теперь?
Я пожала плечами. Откуда я знаю? Кто не успел, тот опоздал.
– Ясно, – снова повторил Димитрий.
Что ему ясно? Хотя какое мне дело? Ясно так ясно.
На первом этаже больницы я увидела Резникова, больного с лимфогранулематозом. Мы обнаружили у него эту болезнь, поставили диагноз и отправили в гематологию. Лимфогранулематоз протекает благоприятно, если его своевременно обнаружить и правильно лечить. Намного хуже, если течение неблагоприятное. Из гематологии Резникова направили на операцию по удалению селезенки. Он стал жить на химиотерапии и лучевой терапии. Прошло около полугода или год. Резников сидел внизу, его лицо было синюшным, он тяжело дышал. Ему было хреново. Очень. По-другому не скажешь. Я помню его сильным, большим, улыбчивым человеком. Он улыбался даже тогда, когда ему поставили диагноз лимфогранулематоза. Он шутил с медсестрами и заигрывал со мной. Просто так. Он был балагуром в хорошем смысле слова. Резников тогда чувствовал себя сильным, здоровым, успешным.
Я увидела его и встала как вкопанная.
– Не узнала? – сипло спросил он меня.
– Узнала, конечно.