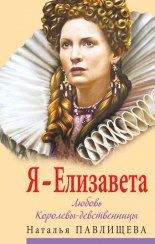Сикстинский заговор Ванденберг Филипп

Предисловие от издательства
Дорогие читатели, вы, наверное, уже знакомы с историческими романами популярного немецкого писателя Филиппа Ванденберга. Это «Зеркальщик», «Восьмой грех», «Тайный заговор», «Наместница Ра» и многие другие произведения, суммарный тираж которых в мире уже превысил 23 миллиона экземпляров.
Но на этот раз перед вами не обычный роман, а книга в книге. В отдаленном от мирской суеты монастыре повествователь встречает немощного старца, который высказывает желание поведать своему новому знакомому удивительную историю. События его рассказа разворачиваются в Ватикане и сосредоточены вокруг разгадки буквенного шифра, оставленного великим Микеланджело Буонарроти на фресках Сикстинской капеллы. В дело оказываются вовлечены церковники самых разных рангов, но до последней страницы нам предстоит гадать, под каким именем скрывается загадочный повествователь и за какое свое открытие он заплатил непомерно высокую цену…
Один из главных персонажей книги кардинал Еллинек, префект Конгрегации доктрины веры, пытается самостоятельно разгадать буквенное послание Микеланджело и в процессе работы в тайных архивах обнаруживает документ, который может разрушить церковные догматы. Вспоминая события последних лет, он догадывается, что смерть предыдущего папы была не случайной. А вскоре обнаруживает слежку за собой. Все нити ведут к некоей тайной организации…
В этой книге вы не встретите женских персонажей и любовных интриг. Однако очевидно, что роман может быть захватывающим и без них, особенно если это напряженный исторический триллер.
Автор затрагивает множество вопросов, важных для общества, для христианского мира и для каждого конкретного человека. Из истории жизни Микеланджело мы узнаем о несправедливости и произволе властей предержащих, от которых страдал не только великий творец Возрождения, но и множество его собратьев из других стран и веков. История мусульманского мистика Абулафии показывает нетерпимость Церкви к чужому мнению и закрытость для диалога. Ну а все последующие заговоры, убийства и самоубийства – лишь следствие того, что Церковь любой ценой стремится сохранить статус кво, власть и богатство, руководствуясь лозунгом «цель оправдывает средства»… Кто окажется победителем в дьявольской шахматной партии, которую (какой парадокс!) разыгрывают между собой церковники?
Удивительно, что событие давно минувших лет может отразиться на судьбах людей, не имеющих к нему отношения. Неужели нацисты и Микеланджело могут быть как-то связаны? Неужели Церковь может содействовать преступникам? Неужели в евангельской истории еще остались неизвестные эпизоды? Воспользуйтесь приглашением Филиппа Ванденберга в мир событий, О которых не пишут газеты и не говорят ведущие теленовостей, – и вы узнаете нечто важное о том, что определяет судьбу мира…
Действующие лица
Джулиано Касконе – государственный секретарь, префект Совета по общественным делам Церкви
Йозеф Еллинек – префект Конгрегации доктрины веры
Джузеппе Беллини – префект Конгрегации богослужения и дисциплины таинств
Франтишек Коллецки – просекретарь Конгрегации католического образования и ректор Тевтонской коллегии
Марио Лопес – просекретарь Конгрегации доктрины веры и титулярный архиепископ Кесарийский Фил Канизиус – глава Института религиозных дел (ирд)
Дезидерио Скалья – титулярный архиепископ Сан-Карло
Вильям Штиклер – камердинер Папы
Ранери – первый секретарь государственного секретаря
Августин Фельдман – глава архива Ватикана
Пио Сегони – монах-бенедиктинец из Монтекассино
Проф. Антонио Паванетто – генеральный директор строений и музеев Ватикана
Проф. Риккардо Паренти – специалист из Флоренции по творчеству Микеланджело
Проф. Габриель Маннинг – монастырский служка
Д-р Ганс Хаусманн – брат монастыря
Джованна – ключница
О жажде повествования
Я пишу эти строки, и меня терзают сомнения – нужно ли вообще рассказывать. Не лучше ли оставить это при себе, как сделали те, кто знал эту историю до меня? Но разве молчание не является само по себе жесточайшим враньем? И разве иногда заблуждение не помогает постичь истину? Несправедливым будет знание, скрытое веками от честных христиан, которое и сегодня является свидетельством веры. Уже давно взвесив все за и против, я ждал, пока жажда повествования не возьмет верх и я не запишу эту историю такой, какой услышал ее в то знаменательное время.
Я люблю монастыри, необъяснимая сила влечет меня в эти отрешенные от внешнего мира места, которые, как кто-то сказал, покрыли лучшие участки тверди. Я люблю монастыри потому, что там кажется, будто время остановилось. Я наслаждаюсь гниловатым духом разветвленных строений – смесью прелого запаха фолиантов, сырости вымытых полов и легкого аромата ладана. Но больше всего я люблю монастырские сады, которые зачастую скрыты от посторонних глаз, сам не знаю почему. Они будто преддверие рая.
Забегая вперед, хочу объяснить, почему я в тот ясный осенний день, когда чарующее южное небо завораживает, вторгся в райские чертоги бенедиктинского монастыря. Мне удалось отстать от экскурсионной группы и, пройдя через церковь, крипту и библиотеку, отыскать путь через маленький боковой портал, за которым, как я предполагал, был монастырский сад.
Садик был необычайно мал, намного меньше, чем можно было ожидать в монастыре таких размеров. Это впечатление усиливалось еще и от того, что солнце, низко висящее над горизонтом, делило этот квадрат по диагонали. Половина сада была залита ярким светом, а другая уже в прохладной тени. После сковывающей прохлады помещений монастыря тепло солнечных лучей наполняло живительной силой. Поздние осенние цветы, флоксы и георгины, устремили тяжелые соцветия вертикально вверх. Ирисы, гладиолусы и люпины слегка наклонялись, а всяческая пряная зелень буйно росла на узких грядках, разделенных воткнутыми в землю палками. Нет, здесь не было ничего общего с ухоженными, похожими на парки, садами других бенедиктинских монастырей, которые со всех сторон обступали крутые стены строений с нависающим крестовым ходом.[1] Они могли посоперничать с Версалем или Шенбрунном. Но этот сад сильно зарос, его разбили на террасе над южным склоном монастыря и обнесли стеной из известкового туфа, который добывали в этой местности. Вид на юг был открыт, и в ясную погоду на горизонте можно было различить горные цепи Альп. С одной стороны сада, где росли пряные травы, из железной трубы лилась вода, стекая в каменное корыто. Рядом стоял ветхий садовый домик, даже скорее не домик, а каморка из досок, на которой пробовали свои силы неумелые строители. От дождя защищал слой толя, в стене сидела косо поставленная, видавшая лучшие времена оконная створка. Но в целом домик излучал непонятную веселость, он был похож на одно из тех самодельных строений, в которых на летних каникулах играют дети.
Из тени вдруг раздался голос:
– Как ты нашел меня, сын мой?
Я приложил ко лбу руку козырьком, защищая глаза от яркого солнца. То, что я увидел, заставило меня на секунду оцепенеть: прямо передо мной в инвалидном кресле сидел пророческого вида монах с седой бородой. На нем было серое одеяние, которое отличалось от черных сутан бенедиктинцев. Пока он, не отрываясь, сверлил меня взглядом, его тело поворачивалось из стороны в сторону, как деревянная марионетка.
Хотя я понял его вопрос, но все равно переспросил, чтобы выиграть время:
– Что вы имеете в виду?
– Как ты меня нашел, сын мой? – повторил монах и странно повел головой, так что я уловил пустоту в его взгляде.
Мой ответ ни к чему не обязывал, да и не мог, но я просто не знал, с чего начать и как реагировать на эту необычную встречу.
– Я вас не искал, – сказал я, – просто осматривал монастырь и захотел зайти в сад. Простите.
Я уже хотел было вежливо откланяться, как вдруг старик положил руки, которые до этого неподвижно лежали на подлокотниках, на обода колес и так толкнул вперед кресло, что оно полетело, как из катапульты. Старик, казалось, обладал богатырской силой. Он остановил кресло возле меня так же быстро и неожиданно, как и подъехал. В солнечном свете под седой вьющейся бородой и прядями волос я увидел бледное лицо не такого уж старого человека, как показалось на первый взгляд. Встреча начинала меня беспокоить все больше.
– Ты знаешь пророка Иеремию? – с ходу спросил монах. Я колебался и даже подумывал, не убежать ли мне. Но пронзительный взгляд и достоинство, исходившее от этого человека, заставили меня остаться.
– Да, – ответил я, – я знаю пророка Иеремию, а также Исайю, Баруха, Иезекииля, Даниила, Амоса, Захарию и Малахию, – тех, которые остались в памяти за время моего обучения в интернате при монастыре.
Мой ответ поразил монаха, даже, казалось, обрадовал. Пропала отрешенность взгляда и марионеточные движения.
– В то время, сказано в книге Иеремии, выбросят кости царей Иуды, и кости князей его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из гробов их, и раскидают их пред солнцем и луною и пред всем воинством небесным, которых они любили и которым служили и в след которых ходили, которых искали и которым поклонялись; не уберут их и не похоронят: они будут навозом на земле. И будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые останутся от этого злого племени во всех местах, куда Я изгоню их…
Я растерянно смотрел на монаха. Заметив мой беспомощный взгляд, он добавил:
– Книга пророка Иеремии, глава 8, строфы 1–3. Я кивнул.
Монах поднял голову, так что его борода торчала почти горизонтально, и аккуратно погладил ее снизу тыльной стороной кисти.
– Меня зовут Иеремия. – В его голосе слышались нотки гордости и отнюдь не монашеское достоинство. – Но это долгая история.
– Вы бенедиктинец?
Он возмущенно взмахнул рукой:
– Меня засунули в этот монастырь, потому что они думали, что здесь я смогу причинить меньше вреда. Вот теперь живу в urao ancn Benedicti[2] в тиши, вдали от мирских потребностей, униженный как собеседник. Если бы я мог, то непременно сбежал бы.
– Вы давно в монастыре?
– Недели, месяцы… Может быть, и годы. Это не играет никакой роли!
Разговор с братом Иеремией увлекал меня все больше и больше. И я с известной осторожностью поинтересовался его прошлым.
Тут странный монах замолчал, опустил голову, уперев подбородок в грудь, и взглянул на парализованные ноги. Я подумал, что зашел слишком далеко, но прежде, чем успел извиниться, Иеремия произнес:
– Сын мой, ты слышал о Микеланджело?…
Он говорил запинаясь, не глядя в мою сторону. Я чувствовал, что он тщательно подбирает каждое слово, и все же речь его казалась запутанной и бессвязной. Я уже не помню всех подробностей, прежде всего потому, что монах постоянно путался, поправлял себя и начинал предложения сначала. Но я понял с его слов, что за стенами Ватикана происходят такие вещи, о которых верующий христианин и помыслить не может, и что церковь – это casta meretrix, целомудренная блудница. При этом он упоминал термины и употреблял такие слова, как сравнительное богословие, нравственное богословие и догматическое богословие. Так что подозрениям, что брат Иеремия не в своем уме, так и не суждено было зародиться. Он перечислял церковные соборы, называл имена и даты, различал вселенские, поместные и архиерейские соборы, перечислял достоинства и недостатки епископализма, но потом вдруг остановился и спросил: – Ты, наверное, тоже принимаешь меня за сумасшедшего?
Да, он сказал «тоже», и меня это поразило. Очевидно, брата Иеремию отправили в этот монастырь как душевнобольного, как назойливого еретика. И теперь я не знал, что ответить монаху. Я помню только, что этот человек становился мне все интереснее. И я вернулся к своему вопросу и попросил Иеремию рассказать, как он попал в этот монастырь. Но монах повернул лицо к солнцу, закрыл глаза и замолчал. Я заметил, как его борода начала подрагивать. Это едва уловимое подрагивание становилось все сильнее, и в один момент его тело начало трястись, губы дрожали, будто его колотил озноб. Какие же ужасные воспоминания проносились перед закрытыми глазами этого человека?
На монастырской башне зазвонил колокол, созывая на хоровую молитву. И брат Иеремия будто очнулся ото сна:
– Не говори никому о нашей встрече, – быстро сказал он, – будет лучше, если ты спрячешься в садовом домике. Во время вечерни ты сможешь уйти из монастыря незаметно. Приходи завтра в это же время! Я буду здесь!
Я последовал указаниям монаха, спрятавшись в маленьком деревянном домике, и тут же услышал приближающиеся шаги. Я наблюдал через наполовину забитое досками окно, как бенедиктинец повез Иеремию на кресле-каталке внутрь монастыря. Они не сказали ни слова, будто бы не замечали друг друга. Казалось, один выполнял неизменный ритуал, а другой безропотно в нем участвовал.
Немногим позже из церкви донеслось григорианское пение, и я вышел из домика, стараясь держаться в его тени, чтобы меня не заметили из окон монастыря. Я непременно хотел снова увидеть брата Иеремию. К высокой подпорной стене вела крутая лестница. Стальные ворота на входе не составило труда преодолеть.
Так я покинул монастырь и этот райский сад, но на следующий день вернулся. Мне не пришлось долго ждать, когда монахи вывезут Иеремию в сад.
– С тех пор как я оказался здесь, никто не спрашивал меня о прошлой жизни, – начал монах без лишних слов, – напротив, они старались забыть, оградить меня от внешнего мира. Они хотели убедить меня, будто я потерял рассудок, будто я опустившийся духовник или какой-то исламский ассасин. Может, всю правду обо мне в этом монастыре и не знают. И даже если бы я поклялся тысячу раз, никто бы не поверил моим словам. Галилей, наверное, чувствовал нечто подобное.
Я сказал, что верю ему. Я чувствовал, что этому человеку нужно было кому-нибудь довериться.
– Но эта история не сделает тебя счастливей, – заявил Иеремия, и я подтвердил, что выдержу.
Так этот одинокий монах начал свой рассказ. Он говорил спокойно, иногда даже отстраненно. Я удивлялся в первый день, почему же он ничего не говорит о себе в своей истории. Но на второй день я понял: Иеремия говорил о себе в третьем лице, как нейтральный наблюдатель. Одним из людей, о которых монах особенно подробно рассказывал, был он сам, брат Иеремия.
Мы встречались пять дней кряду в саду монастыря, скрывались за разросшейся изгородью из роз или в ветхой садовой хижине. Иеремия вел рассказ, называл имена и факты, и хотя его история иногда казалась фантастической, я ни секунды не сомневался, что это правда. Когда он говорил, то почти не смотрел на меня, его взгляд был устремлен на некую точку на горизонте. Иеремия будто читал все с доски. Я не решился перебить его ни разу, не задал ему ни одного вопроса – боялся, что Иеремия потеряет нить. Я не решился делать заметки и записи, потому что это могло помешать повествованию монаха. Так что эту историю я записал потом по памяти, но, думаю, она соответствует рассказу Иеремии.
Книга Иеремии
На Крещение
Будь проклят тот день, когда курия решилась на реставрацию Сикстинской капеллы с помощью новейших научных технологий. Будь проклят тот флорентиец и все искусство, проклята самонадеянность и отступнические мысли, не высказанные с мужеством еретика. Они были запечатлены в самом привередливом материале, который только может быть – во фреске, написанной в теплых тонах.
Кардинал Йозеф Еллинек взглянул на высокий свод, где висели леса, накрытые брезентом. Оставался просвет, вкотором можно еще было увидеть Адама, касающегося перста Создателя. Будто от страха перед десницей Божьей, по лицу кардинала несколько раз пробежала дрожь. А наверху, в красном одеянии, творил не всемогущий Бог, там, на лесах, на ноги поднялся художник. Он излучал жизнь – красивый и мускулистый, как борец. В этот раз все начиналось не со Слова, а с плоти.
После злосчастных времен, когда первосвященник Юлий был влюблен в искусство, ни один папа не проявил интереса к великолепным творениям Буонарроти. А он – и это было известно еще при его жизни – сомневался в догматах веры и использовал в своих произведениях ветхозаветные мотивы и античные образы, что тогда считалось греховным. Папа Юлий, возможно, даже упал на колени и стал молиться, когда художник наконец показал готовую фреску, изображавшую неумолимого Судью от слова которого содрогается равно добро и зло. Фреска эта сразу же вызвала бурю споров по поводу того, что фигуры на картинах обнажены, исполнены тайны и нетрадиционны. Курия была ошеломлена количеством символов намеков и неоплатонических образов, не знала, как реагировать на это, и осудила художника за изображение обнаженных людей; более того, требовала полного уничтожения фрески. Активнее других за это ратовал Бьяджо да Чесена, папский церемониймейстер, который якобы узнал себя в образе судьи Миноса; и только неистовый протест крупнейших деятелей искусства Рима смог воспрепятствовать уничтожению «Страшного суда».
Вода, сочившаяся сквозь трещины в стенах капеллы, слои краски, наносимые впоследствии поверх изображения, и свечная копоть угрожали истребить плоды фантазии Микеланджело. Лучше бы плесень уничтожила образы пророков и сивиллы покрылись копотью! Лишь только главный реставратор Бруно Федрицци взобрался на леса, лишь только он успел очистить изначальные образы пророков от темного слоя нагара, клея и растворенных в масле красителей, как наследие великого художника ожило и механизм был запущен. Сам Микеланджело словно воскрес как ангел возмездия.
Ранее на фреске пророк Иоиль держал в руках свиток пергамента, на котором не было ни единой буквы. Теперь же, после реставрации, на нем отчетливо было видно букву «А». Альфа и омега, первая и последняя буквы греческого алфавита с давних времен считались христианскими символами. Но труд реставраторов был напрасен: они отчищали пергамент, выполненный в технике «а фреско», до тех пор, пока тот не стал ярко-белым, но буквы «О» так и не нашли. Зато в книге, которую эритрейская сивилла, изображенная возле пророка Иоиля, ставила на подставку для чтения, проступили буквы I – F – А. Это необычайное открытие, не известное широкой общественности, вызвало горячие споры. Архивариусы и знатоки истории искусств и музеев Ватикана под руководством Антонио Паванетто с головой ушли в разгадывание загадки; из Флоренции прибыл Риккардо Паренти, специалист по творчеству Микеланджело. Кардинал-государственный секретарь Касконе после обсуждения этой темы сообщил, что открытие нужно держать в тайне. Паренти первым высказал предположение, что в ходе последующих работ могут обнаружиться и другие символы, расшифровка которых крайне нежелательна для Церкви. Да и Микеланджело не был любимцем заказчиков, понтификов, и не раз намекал на то, что еще отомстит им за свои страдания.
Кардинал-государственный секретарь осведомился, можно ли ожидать от флорентийского художника инакомыслия.
Профессор истории искусств, хотя и с некоторыми оговорками, подтвердил это.
Тогда кардинал-государственный секретарь Джулиано Касконе предложил рассказать об этом кардиналу Йозефу Еллинеку, префекту Конгрегации доктрины веры, однако тот не заинтересовался этим делом и порекомендовал обратиться к генеральному директору музеев Ватикана профессору Антонио Паванетто – если уместно вообще говорить о каком-то «деле».
После еще одного года реставрационных работ было очищено изображение пророка Иезекииля. Внимание Церкви в первую очередь привлек свиток, который предсказатель разрушения Иерусалима держал в левой руке. По словам Федрицци, в этом месте фреска была покрыта особенно толстым слоем сажи, будто кто-то намеренно закоптил ее свечой. Наконец под инструментами реставраторов проявились две следующие буквы: «L» и «U», и профессор Паванетто предположил, что и фигурка персидской сивиллы, расположенная за пророком Иезекиилем, имеет отношение к буквенному шифру. Ведь горбатая старушка прямо перед собой держала книгу в красном переплете, на которой еще до начала реставрации под слоем сажи можно было разглядеть букву. Кардинала-государственного секретаря Касконе все это взволновало, и он распорядился немедленно восстановить книгу сивиллы. Его опасения подтвердились: к уже известным буквам прибавилась «В».
Можно было легко предположить, что и свиток возле пророка Иеремии, который располагался в ряду последним, скрывает продолжение кода. Действительно, при реставрации изображения была обнаружена буква «А». Пророк Иеремия, который более других терзался сомнениями и любил говорить, что народ обратить в веру невозможно, на фреске был изображен с лицом самого Микеланджело. Он выглядел разочарованным, растерянным и покорным, будто бы ему было известно значение последовательности букв «А – I – F – А – L – U – В – А».
Государственный секретарь Джулиано Касконе заявил, что, прежде чем публично разглашать нахождение шифра, необходимо растолковать значение букв. Также он предложил (если шифр невозможно будет разгадать сразу) стереть буквы с фрески, что, по словам Бруно Федрицци, было неосуществимо, так как Микеланджело нанес буквы a secco,[3] как и некоторые другие пометки. Однако это предложение встретило протест со стороны профессора Риккардо Паренти, который пригрозил оставить профессиональную деятельность и обратиться к широкой общественности с заявлением о том, что в Сикстинской капелле фальсифицируют и тем самым уничтожают произведение всемирного значения. Касконе взял свои слова обратно и поручил ex officio[4] кардиналу Йозефу Еллинеку, как префекту Конгрегации доктрины веры, создать комиссию по изучению сикстинских надписей и доложить о результатах на общем собрании. Дело из категории speciali modo[5] перешло в категорию specialissimo modo,[6] следовательно, разглашение сведений о нем грозило судом. Дата проведения консилиума была определена: спустя два воскресенья от Крещения, в понедельник.
Еллинек оставил капеллу и поднялся вверх по каменной лестнице, подхватывая привычным жестом подол сутаны, сшитой у Аннибале Гамарелли, – все члены курии и папы заказывали церковные облачения на Санта-Кьяра, № 34. На лестничной площадке он повернул налево и продолжил путь. Его поспешные шаги отдавались эхом в пустом коридоре длиной в двести шагов. Он прошел мимо фресок космографа Данти. На них было изображено восемьдесят сюжетов из истории Церкви, которые папа Григорий XIII повелел поместить на необозримых сводах. Еллинек наконец приблизился к той двери без замка и ручки, что перекрывала дорогу на Башню Ветров. Кардинал постучал и стал ждать: он знал, что служке предстоит преодолеть долгий путь.
Почему так называют эту башню, известно: начало Григорианскому календарю было положено здесь, в мансарде, когда понтифик приказал построить обсерваторию для наблюдения за Солнцем, Луной и звездами. Даже переменчивые ветры теперь не смогли бы укрыться от его внимания, ведь стрелка флюгера на башне всегда показывала направление потока воздуха. Уже давно не пользовались теми инструментами, из-за которых в далеком 1582 году, десятом году папства Григория XIII, Европа недосчиталась десяти дней, и после 4 октября сразу наступило 15. Тогда же было введено странное правило считать високосными годами только те, последняя цифра которых делится на четыре: Fiat Gregoriuspapa tridecimus.[7] Но мозаики на полах по-прежнему хранили знаки зодиака и на настенных фресках божественные фигуры в развевающихся одеяниях озарялись солнцем, проникавшим через отверстие в стене.
Башня, где было утрачено время, с самого начала воплощала в себе запрет и тайну; причина тому не языческие боги, не Дева, не Телец и не Водолей, и даже не плохое освещение этого помещения. Отнюдь: загадочность и таинственность придавали горы папок, полки, заваленные документами, которые хранились здесь, поделенные на Fondi[8] в соответствии с темой и датой создания. Сколько Fondi погребено под сугробами пыли, точно никто не знал. Это был L'Archivio Segreto Vaticano – секретный архив Ватикана.
Бумаги и пергаменты, годами складируемые в бесконечных коридорах секретного архива папы, расползались по башне, как вулканическая лава. Столетиями современные документы оттесняли бумаги минувших лет, затем и сами они устаревали, а их в свою очередь заваливали все новые и новые папки. В башне же по распоряжению папы архивариусы заперли те документы, к которым не имел доступа никто, кроме их преемников. Это была Riserva[9] – помещение, куда не было доступа.
Услышав шаги, кардинал постучал снова. Вскоре проскрипел ключ и тяжелая дверь бесшумно отворилась. Видимо, кардинала узнали по манере стучать или было известно о времени его прихода, так как префект не удивился позднему визиту и даже не взглянул на посетителя. Дверь открыл Августин, он был самым старым, важным и опытным архивариусом Ватикана, ему подчинялись вице-префект, три архивариуса и четыре Scrittori[10] – писаря, которые, выполняя одну и ту же работу, имели разные полномочия. А Августин просто не смог бы жить без пергаментов и Buste[11] – так называют папки с делами. Он спал среди документов и, возможно, укрывался ими же.
Как водится, посетители входили в архив со стороны, где за широким черным столом, на котором был разложен пухлый журнал для записей, сунув руки в широкие рукава черного одеяния, сидел один из Scrittori или префект. В журнал вносили каждого посетителя на основании официальной бумаги, которая давала доступ к списку разрешенных документов. Большая же часть архива оставалась недоступной, а хранители святыни никогда не забывали отметить точное количество часов и минут, проведенных читателями в окружении темных полок. Башню посещало едва ли более трех человек в неделю.
Проходя мимо префекта, кардинал промычал себе под нос что-то наподобие «laudetur Jesus Christus»[12] и не стал записывать свое имя в регистрационную книгу. Справа была комната с интригующим названием Sala degli Indici,[13] в ней скрывались картотеки, предметные указатели, списки, классификации и цифры всех документов, имеющихся в наличии. Без этих картотек содержимое архива оказалось бы совершенно недоступно, все бы перемешалось и потеряло смысл. Архивариусы и Scrittori могли бы спокойно оставить полки и комнаты, полные тайн, и никто, даже самый старательный ученый, не узнал бы ни одного секрета, скрывающегося в многокилометровых коридорах. Ведь все Fondi были зашифрованы с помощью букв и цифр, и не было ни одного указания на то, какой теме посвящены документы, находящиеся в каждой комнате. Было написано множество научных работ о том, как использовать некоторые регистры и картотеки. Имелись и такие отделы, до которых можно было добраться только с верхнего этажа Башни Ветров. В них хранились девять тысяч еще не разобранных Buste, так как двум Scrittori, как было подсчитано, для классификации всех документов понадобится сто восемьдесят лет.
Тот, кто думает, что, узнав шифр одного документа, сумеет ознакомиться и с другими документами той же тематики, глубоко заблуждается. Потому что на протяжении нескольких столетий существования архива, особенно со времен раскола, предпринимались многократные попытки перекодировать документы. В результате у несметного количества Buste теперь было по нескольку шифров. Простой вербальный «de curia, depraebendis vacaturis, de diversis formis, de exhibitis, de plenaria remissione»[14] был виден только в том случае, если папки, как это делалось во времена средневековых пап, хранились горизонтально. Шифр мог быть и цифровым, и комбинированным из букв и цифр, например: «Bonif. IX 1392 Anno 3 Lib.28».
В последней системе кодировки, относящейся к середине XVIII века, заметно влияние custos registri bullarum apostolicarum[15] Джузеппе Гарампи. Он создал свой Schedario Garampi,[16] схематически разделив архив на тематические разделы, что в итоге принесло больше путаницы, чем пользы. Время папствования понтификов всегда различно. Поэтому разделы «dejubileo»[17] или «de benefiis vacantibus»[18] были неодинаковы по объему, меж тем на хранение документации каждый раз отводились равные площади.
Каждая новая кодировка еще больше увеличивала сходство Башни Ветров с Вавилонской. Как библейская башня не достигла неба, потому что Создатель смешал языки ее строителей, так и каждая новая попытка навести порядок в архиве имела те же последствия. Возможно, это была попытка отобразить идеальное мироздание, изначально обреченная на неудачу; или была надежда на то, что хаос, как считали греческие философы, является первичным состоянием, из которого Бог создал упорядоченную вселенную, а не наоборот. Второе сравнение более удачное, потому что хаос есть не только нечто неупорядоченное. Это еще и бездна, открывающаяся навстречу входящему. Так и здесь: перед вами – таинственный мир, который охраняет Августин, как трехглавый Цербер у ворот Царства мертвых.
Префект протянул кардиналу лампу, работавшую от батареек, законно думая, что путь того лежит в комнаты Riserva, где нет света. Кардинал кивнул, не проронив ни слова. Молчал и Августин, он последовал за кардиналом на верхние этажи башни по винтовой лестнице. В конце нее была лестничная площадка с телефоном на стене.
Здесь, на пути к самым старым и секретным отделам Archivio Segreto, воздух был затхлым, несло гнилью. Зловоние усиливали химикаты для уничтожения грибка который, веками размножаясь в непроветриваемых помещениях» теперь красноватым налетом покрывал папки и пергаменты и выживал даже после применения веществ с новейшими формулами. Только с позволения папы можно было заглянуть в эти комнаты и изучить документы, находящиеся в них. Однако понтифик редко подписывал такие разрешения, разве что самые важные. Поэтому данную обязанность взял на себя кардинал Йозеф Еллинек. Подписывал разрешения он, правда, нечасто, но обычному человеку не полагалось знать о причине отказа. Документы, составленные менее чем сто лет назад, отправлялись прямо в секретные помещения. Документы, в которых упоминалось о папах, оставались засекреченными в течение трехсот лет. В стопках и свитках, в переплетах и под печатями здесь лежала история Церкви за последние два тысячелетия. За тремя сотнями печатей тут хранился документ, в котором говорилось о том, как шведская королева-протестантка Кристина поверила в святое причастие, чистилище, отпущение грехов, подчинилась непогрешимому авторитету папы, решениям Собора в Триенте и, таким образом, стала католичкой. Замечания папы Александра VII, книги со счетами, письма и подробные отчеты обо всем: от одежды для обращенной в новую веру (черный шелк, глубокое декольте) до сладостей – поданных к столу статуэток и цветов из марципана, желе и сахара, а также упоминание о ее бисексуальности – все это подтверждало мнение о Ватиканском архиве как об одном из лучших в мире. Последнее письмо к папе страстной католички Марии Стюарт, внучки Генриха VII, также хранилось здесь; как и постановление Священной конгрегаци о запрещении «Шести книг об обращении небесных сфер» Николая Коперника. Под шифром EN XDC, в отдельном архиве, были собраны документы, связанные с процессом над Галилео Галилеем, включая и злополучный вердикт кардиналов на странице 402: «Мы заявляем и подтверждаем, что ты, Галилей, обвиняешься в этом святом суде в том, что полагаешь истиной и сеешь в народе лжеучение, говоришь, что Солнце находится в центре мироздания, не движется с востока на запад, а Земля вращается вокруг него и не является центром мира… Поэтому ты должен подвергнуться исправлению и наказанию, налагаемым за преступления такого рода согласно святым канонам и другим общим и частным предписаниям». Verba volant, scripta marient.[19]
Здесь сохранялись предсказания, касающиеся пап; пророчества, которые официально признавались, вероятно, лживыми, но их все же не оставляли без внимания. Здесь же находилось и пророчество Малахии о папах, которое – и это повергало курию в растерянность – никак не могло принадлежать этому пророку, потому что было записано только через четыреста сорок лет после его смерти. Однако именно в нем с поразительной точностью назывались имена, происхождение и определенные факты из жизни первосвященников. И даже больше: оно предрекало скоротечность папства. Малахия называл лишь двух последующих понтификов, а последним папой должен был стать римлянин по имени Петрус. В пророчестве говорится о разрушении города на семи холмах и Страшном суде над народом. Ничто на этой земле не является более непреложным, чем решение римской курии, и если единожды она вынесла отрицательный вердикт пророчеству Малахии о папах, то документ навсегда останется запретным – для мирян уж точно. Несмотря на то, что credo quia absurdum[20] прозвучало из уст не еретика, а богослова Ансельма Кентерберийского, чья лояльность по отношению к папе Григорию VII и Святой Церкви известна всем и не подлежит сомнению.
Папа Пий X, которому Малахия пророчил Ignis ardens,[21] был избран 4 августа, в день св. Доминика – его атрибутом является собака с пылающим факелом. Умер же он через несколько недель после начала Первой мировой войны. Папа жалел своего неизвестного еще преемника, потому что уже знал, что тому грозило religio depopulate,[22] или «уничтожение религии» – падение интереса к религии.
Позже исследования показали, что автором пророчеств о папах был Филиппо Нери. Он жил во времена Микеланджело; иногда становился словно одержимый, чрезвычайно возбуждался, и тело его содрогалось. А во время причастия мог запросто воспарить над алтарем. Сердце его билось так сильно, как литавры во время Страшного суда. Позднее Филиппо Нери был канонизирован, так как исцелил легион больных и несть числа дарований ему было ниспослано.
Где же сохранялись дневники Нери, патриарха конгрегации ораторианцев? С уверенностью можно предположить, что находились они здесь, в секретном архиве Ватикана; хотя по официальной версии святой перед смертью якобы сжег все свои документы. По воле случая? В год смерти Нери (1595) был опубликован труд в пяти томах бенедиктинского монаха Арнольда Вийона о заслугах его ордена в области литературы. Он назывался «Lignum vitae – ornamentm et decus Ecclesiae»,[23] во втором томе этого издания, в главе Prophetia S. Malachiae Archiepiscopi, de Summis Pontificibus,[24] на страницах 307–311, упоминается о пророчествах основателя конгрегации ораторианцев.
Pontificibus. Чудо – желанное дитя веры. Связи между ораторианцем Филиппо и бенедиктинцем, упокой Господь его душу, отрицать невозможно, сколь бы чистые побуждения ими ни двигали.
В Sidus olorum,[25] в пророчестве, говорилось, что «лебединая краса взойдет на престол». Эти слова казались таинственными и туманными. Но когда в 1667 году Клемент IX стал папой, никто уже не сомневался в точности этого предсказания. Ведь Клемент (Джулио Роспильози) прославился как поэт (по сей день он единственный папа-поэт), а лебедь, как известно, один из символов поэзии. На протяжении веков папа по избрании конклавом не имел права покидать Ватикан. Та же судьба ожидала и Пия VI, когда вслед за Клементом XIV он был избран после пятимесячного заседания конклава в Квиринальском дворце. Святой в свое время назвал данного папу еще и Peregrinus apostolicus,[26] о чем не вспоминали всю эпоху Возрождения, пока в 1798 году войска, принимавшие участие в революции, не экспатриировали несчастного во Францию, где он и нашел смерть. Когда Лев XIII предпочел герб с изображением кометы (все папы после решения конклава обязаны получить герб), то сразу стало понятно еще одно пророчество – lumen in coelo.[27] Пророчество о том, что преемник Пия XII будет pastor et nauta,[28] перед избранием Иоанна XXIII обсуждалось; но ни с одним из претендентов на престол оно не связывалось: никто не воспринимал патриарха Венеции, города христианского судоходства, всерьез. Но, несмотря на это, Ронкалли был избран – и период его правления стал пасторалью в лучшем смысле этого слова.
Чуть дальше находилось признание монаха Джироламо Савонаролы, вырванное папским комиссаром Ромолино. Он сознался в ереси, проповедовании ложных учений и неуважении к Церкви. Тут же – подробные записи о последних часах пламенного проповедника, о постыдном обследовании его в камере (инквизиция потребовала проверить, не превратил ли демон монаха в гермафродита), свидетельские показания о том, как он глубоко спал перед казнью, взрываясь изредка громким смехом, а также о его смерти на виселице и последующем сожжении тела с развеиванием пепла над рекой Арно. В засекреченных досье также говорится и о знатных дамах, которые, переодевшись в одежду простых флорентийских девушек, собирали пепел сожженного брата. Упоминается но найденных и сберегаемых в качестве реликвий обломках черепа и руке проповедника. Здесь же можно был найти и папские догматы. Последний, в голубом бархатном переплете, – о непорочном зачатии Девы Марии.
Смотритель знал, что кардинала не заинтересуют эти стопки бумаг. Он шел к верхней черной дубовой двери, которую нельзя было открыть без ведома Августина, потому что тяжелый ключ от этой двери тот всегда носил на своем поясе. Другого ключа от самой загадочной комнаты секретного архива ни у кого не было. Это вовсе не значило, что сам смотритель имел представление о тайнах этого хранилища, его содержимом и лишь должен молчать о запретном. Ему, впрочем, было известно, что за тяжелой черной дверью хранились самые сокровенные тайны Церкви, доступ к которым имел только понтифик. Так, по крайней мере, обстояли дела во времена всех предшественников Иоанна Павла II. Но папа-поляк отказался от этой привилегии в пользу кардинала. Смотритель отпер замок при свете лампы и отошел в сторону. По мелкой дрожи пальцев было заметно, как он волнуется. Кардинал исчез за дверью – Августин остался в коридоре. Он поторопился вновь запереть замок, таковы были предписания.
Каждый раз, отпирая замок, смотритель окидывал взглядом комнату. Мыслимый ли грех? Так что обстановка была ему знакома: в один ряд тяжелые двери шкафов, как в подвале банка, ключи от которых, однако, хранились не у него, а у кардинала. Отпирать эту дверь Августину приходилось редко, несмотря на то, что в последнее время кардинал все чаще пользовался своим правом. Лишь однажды ему довелось слышать о том, какого рода тайны здесь сокрыты. Тогда он впустил в комнату Иоанна ХХIII и запер за ним дверь. Так же» как теперь, он надеялся различить сигнал кардинала, он ждал, когда папа постучит. Но очень долго, более часа, в коридоре царила тишина. И вдруг смотритель услышал глухие удары кулаком в дверь. Отперев замок, он увидел онтифика, дрожащего, словно в лихорадке, как показалось Августину в тот момент. И в конце концов крупица правды увидела свет. Святая Дева, которая в 1917 году явилась трем португальским пастухам и предсказала исход Первой мировой войны, эта «Святая Дева из Фатимы», предрекла еще одно событие, запись о котором нужно было прочесть папе в 1960 году. Истинный смысл пророчества, скрываемого за дверью, вызвал различные, вплоть до самых ужасных, слухи в Ватикане. Заговорили о войне, которая уничтожит все живое, которая приведет к апокалипсису, и об убийстве папы… Став папой, Павел VI не замедлил посетить секретную комнату. После этого он начал страдать от тяжелых депрессий и всегда колебался, принимая решения, что общеизвестно.
В этот вечер интерес касался железного шкафа, в котором были собраны документы Микеланджело Буонарроти. После ознакомления с перепиской между Микеланджело и папами, в первую очередь с Юлием II и Клементом VII, у кардинала возникли вполне обоснованные подозрения, что в искусстве Микеланджело кроется какая-то ужасная тайна. Досье, в котором говорилось о его знакомых, платонической страсти к Виттории Колонне, о контактах с приверженцами неоплатонизма и каббалы, хранившееся в закрытом для доступа месте, подтвердило эти подозрения. Да иначе и быть не могло! Должна же существовать хоть какая-нибудь причина того, что жизнь Микеланджело в течение целых четырехсот пятидесяти лет – запретная тема в Ватикане!
Искусство страшит невежественных. Кардинал быстро перебирал один документ за другим, разворачивал свитки, сложенные в несколько раз страницы, разглядывал связанные папки. При свете лампы он разбирал мелкий аккуратный почерк, просматривал письма, остававшиеся непонятными без контекста. Зачастую они начинались со слов «io Michelagniolo scultore…» («я, Микеланджело, скульптор…»), что, с одной стороны, говорило о гордости языком, на котором писал Данте, и одновременно о неразумении церковной латыни, с другой – давало понять, что автор страдает от насилия над своим искусством, чинимого Ватиканом.
Папа Юлий II ложными обещаниями приманил Микеланджело в Рим, чтобы тот заблаговременно изваял ему величественный надгробный монумент из каррарского мрамора. Хоть он и посулил десять тысяч скудо, человеческой жизни было мало для создания такого изваяния. Когда же мрамор привезли из Тосканы в Рим, папа успел охладеть к своему проекту и даже отказался рассчитаться с рабочими каменоломни. Микеланджело поспешно оставил Рим ради Флоренции. Лишь через два года он вернулся, в срочном порядке вызванный помощниками папы. Юлий II тотчас ошеломил его сообщением, что сооружать надгробный памятник при жизни является дурным знаком. Так что Микеланджело вместо этого поручалось расписать купол Сикстинской капеллы – простого и строгого сооружения, носящего имя Сикста IV делла Ровере. Многократные заверения художника в том, что он рожден быть «scultore»,[29] a не «pittore»,[30] не помогли; Его Святейшество настаивал на выполнении своих планов.
В руки кардинала попал ветхий документ с едва разборчивыми словами, свидетельствовавший о победе папы над Микеланджело. «Сегодня, 30 мая 1508 года, я, Микеланджело, скульптор, получил от Его Святейшества папы Юлия II пятьсот дукатов, которые мне выплатили господин Карлино, казначей, и господин Карло Альбицци в счет выполнения росписи, над коей сегодня и начинаю работу в капелле папы Сикста, при условии соблюдения контракта, предложенного мне монсеньором Павианским. Подписано мной собственноручно».
С документов вздымалась мелкая пыль, незаметно попадавшая в нос Еллинека и вызывавшая ощущение беспорядка. Эта странная атмосфера заставляла оживать образы давно ушедших дней. Пред кардиналом предстал образ мускулистого флорентийца в бархатном камзоле в талию и тонких узких панталонах. Продолговатое лицо, длинный нос, близко посаженные глаза – не красавец и совсем не похож на энергичного «scultore». С хитрой улыбкой – может, это было злорадство? – он один за другим протягивал кардиналу пергаменты, а тот жадно читал их. Пробегал глазами неразборчивые строки, удивлялся внезапным и необъяснимым переменам в настроении Его Святейшества папы Юлия II, его странной скупости, постоянным поползновениям лишить художника честно заработанного им вознаграждения, что приводило к вечным спорам между папой и Микеланджело. Папа желал видеть на своде Сикстинской капеллы двенадцать апостолов – флорентиец же предлагал эскизы, казавшиеся Юлию II никчемными. В конце концов папа прекратил спор, разрешив Микеланджело изображать, что ему угодно, покрыть росписью всю капеллу от окон до потолка in nomine Jesu Christi.[31]
В итоге Микеланджело остановился на сюжете Книги Бытия. Он представил сотворение мира, Бога Отца, парящего над водами, и Великий потоп, и Ноев ковчег – будто вся история сотворения мира очутилась в небе. Для Микеланджело словно не существовало крыши и свода. И ни одного указания на Святую Церковь. Напротив, он избегал малейшего намека даже там, где он напрашивался сам собой: расписывая двенадцать выступов над окнами капеллы, он не стал изображать двенадцать апостолов. Художник поместил в них пять сивилл и семь пророков. Сияние, исходящее от них, говорит о тайных знаниях, которыми полон Ветхий Завет. Фигуры таинственны и символичны. Они будто намекают на нечто непостижимое. Из одной записки кардинал понял, что Микеланджело рисовал не столько руками, сколько мысленно, перенеся на своды свой гнев и свое знание. Он изобразил триста сорок три фигуры, над которыми – Двенадцать сивилл и пророков, похожих на богов. Конечно, Бальзак мог бы сказать, что он тоже творец более трех тысяч образов. Но ведь у него на это ушла целая жизнь. Микеланджело же расписал капеллу всего за четыре года. Пусть неохотно, без удовлетворения, жаждая мести – такие выводы можно было сделать из документов. Но как же отыскать ключ к его тайне? Что же все-таки знал Микеланджело Буонарроти? Какое послание передал флорентиец посредством этой загадочной картины мира?
После Юлия II было сорок восемь пап, и все они задавались вопросом: почему Микеланджело у только что вылепленного Адама, которого парящий Бог Отец пытается коснуться животворящим перстом, изобразил на животе пупок? Адам ведь не был рожден и, следовательно, ему не обрезали пуповину, если верить словам из Ветхого Завета: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Книга Бытия 2:7). Не раз возникала мысль привести в христианский вид Адама еще при жизни художника. Микеланджело к тому моменту должно было исполниться восемьдесят шесть лет. Папа Павел IV поставил перед Даниэле да Вольтера задание – прикрыть обнаженных гигантов Микеланджело набедренными повязками, за что помощник и получил обидное прозвище «Brachettone» («рисовальщик штанов»).
Однако пуп остался на том же месте, так как римская курия предположила, что закрашенный элемент картины скорее вызовет у наблюдателя сомнения и размышления, чем деталь, верная с анатомической точки зрения, пусть она и сомнительна с точки зрения религиозной.
Запах книжной пыли и пергаментов, который он так любил и находил благородным, как фимиам, привел кардинала в состояние благоговейного созерцания. Он углублялся в изучение документов, и в его душе зарождалось сострадание к флорентийцу, который, судя по его письмам, ненавидел пап, причиной чему было горе, которое они ему причинили. Он писал, что больше года не получал от Юлия II ни гроша, и ему казалось, над его искусством посмеялись («…я сразу сообщил Вашему Святейшеству, что живопись – не моя стезя»). Раскачиваясь на высочайших лесах, он проклинал нетерпение папы. День за днем он лежал на спине, краска попадала ему в глаза. Художник страдал от кривошеи. Уже несколько лет ему приходилось читать, держа текст над головой.
Папа Лев из династии Медичи, который пришел вслед за Юлием II, не скрывая неприязни к флорентийцу, называл его дикарем и распространял слухи о том, что с Микеланджело невозможно общаться. Если кому из художников папа и симпатизировал, то это был Рафаэль. Он отдавал предпочтение музыке. Следующий папа, Адриан, намеревался уничтожить фрески Микеланджело, однако неотвратимая смерть настигла его раньше. Да и во времена Клемента положение художника не улучшилось. Микеланджело смело заявил Его Святейшеству, что он думает о его проекте воздвижения восьмидесятифутового колосса. Насколько же возмущен был скульптор отсутствием вкуса у папы, что позволил себе язвительно пошутить: цирюльню, мешающую осуществлению проекта, он предложил сделать его частью, а фигуру колосса – сидячей. Печная труба цирюльни могла бы запросто стать рогом изобилия. А более всего художника увлекла идея сделать из головы гиганта голубятню. Michelagniolo scultore.
Каждый документ кардинал клал на свое место. Он в отчаянии покачал головой. Ни один из них не помог разгадать тайну. Непонятно было, зачем держать эти бумаги в таком секрете. Затем он бросил взгляд на неприметный свиток пергаментов, стянутый кожаными ремешками. Связано было около дюжины документов. Он, несомненно, оставил бы его без внимания, если бы не две большие ярко-красные печати, на которых было легко узнать герб папы Пия V. Но разве Микеланджело не умер уже во время правления его предшественника?
Jesu domine nostrum![32] Мысль о том, что за последние четыре сотни лет ни один человек мог и не взглянуть на эти документы, похищенные у мира по причине, известной одному лишь понтифику, и содержащие столь важные сведения, заставила руки кардинала задрожать. Лоб его покрылся каплями пота, а воздух, который еще минуту назад был слаще, чем аромат каштанов в албанских горах, мгновенно стал спертым. Казалось, кардинал задохнется в атмосфере страха и неизвестности. Но именно страх и таинственность заставили его пальцы спешно сломать печати и развернуть пергаменты, связанные вместе кожаными ремешками. Terra incognita.[33]
«Для Джорджио Вазари». Кардинал узнал почерк Микеланджело. Почему письмо флорентийскому другу находилось здесь, в архиве Ватикана? Торопливо разбирая мелкий почерк Микеланджело, вновь и вновь возвращаясь к началу, кардинал читал: «Дорогой мой юный друг. Мое сердце с тобой, даже в том случае, если письмо это, что вполне вероятно в наши дни, до тебя и не дойдет. Ты, наверное, уже слышал о распоряжении Его Святейшества (при одном упоминании его имени я вскипаю от негодования), согласно которому любое письмо и любой багаж может быть открыт, задержан в интересах инквизиции и использован как вещественное доказательство? Фанатичный старик, полагающий, что имя Павла IV придаст ему величия, будто за именем можно припрятать самое низменное, что есть в человеке, отказался выплатить положенное мне вознаграждение в тысячу двести скудо, что, впрочем, не сильно отразилось на моем состоянии. Поверь мне, Буонарроти не оставит обиду неотомщенной. Я расписал Сикстинскую капеллу не красками, как это может показаться на первый взгляд, а порошком, разрушительное действие которого описал Франческо Петрарка, известный поэт из Ареццо, в своем руководстве к счастливой жизни. Раствор тебе известен. Под intonaco находится достаточно серы и селитры, чтобы отправить Карафу[34] с его пурпурными лакеями в преисподнюю. Его так удачно расписал Алигьери в своем стихотворении. По словам поэта, стихи – самое опасное оружие. Но я говорю тебе, мой дорогой юный друг, фрески Сикстинской капеллы опаснее копий и мечей испанцев, грозящих Риму. Престол Карафы старается защититься от испанцев, его монахи носят землю в рясах, и, не будь Павел дряхлым скелетом, он погонял бы их бичами, чтобы те пошевеливались. Несмотря на то, а может, и благодаря тому, что я так стар, что смерть уже стоит за моей спиной, я не боюсь испанцев. Прощай. Микеланджело Буонарроти. Постскриптум: это правда, что во Флоренции приказано ежедневно докладывать о количестве причастившихся?»
Кардинал опустил письмо на стол. Оперся локтями на одну из конторок, которые стояли между шкафами и служили для удобства чтения документов. Он отер лоб правой рукой, словно прогоняя галлюцинацию. Он старался привести мысли в порядок, обдумать прочитанное, но тщетно. Попытался начать сначала. По-видимому, письмо так и не достигло адресата. Судя по всему, оно попало в руки инквизиции, не было понято ею до конца, но сохранено в качестве улики против Микеланджело. Что имел в виду Микеланджело, говоря о том, что к штукатурке, на которую художник накладывал краски «а фреской примешано достаточно серы и селитры? Он ненавидел Павла IV, всех пап, которые причинили ему зло. Причинили зло гению, что приходится признать. И если Буонарроти говорил, что будет отомщен, значит, в голове у него уже созрел ужасный план, достаточно страшный, чтобы уничтожить понтифика. Какая же опасность скрывалась во фресках Сикстинской капеллы?
В другом письме, на этот раз адресованном кардиналу ди Карпи, содержались такие же намеки. Микеланджело в то время был уже человеком преклонного возраста и в довольно грубых выражениях обращался к кардиналу курии, сообщая, что до него дошли слухи о том, как его светлость отзывался о его творении. Но теперь, после смерти Карафы, уже не было необходимости плясать под его дудку. Напротив, беспорядки в Риме, захват тюрем инквизиции, разрушение статуи папы на Капитолии – все свидетельствовало о ненависти к папству и о беспомощности преемника Павла IV, провозглашавшего себя Медичи. А ведь даже малым детям было известно, что родом он из Милана, из семьи Медичи. Его Святейшество, как лиса, предложил возместить долг его предшественников; но у него, у Микеланджело, есть и другие возможности решения проблемы, мужчине в его возрасте многого не нужно. Он намеревался бросить работу. Но его просьба осталась без ответа, так что теперь он ходатайствовал перед ди Карпи, чтобы тот обратился к Его Святейшеству с прошением отправить его на покой. Работы у него предостаточно. Ему, Микеланджело, не пристало оценивать труд, проделанный по приказу понтификов. Но если святой отец считает, что оплаченный труд обеспечит ему вечное прощение, то у скульптора есть сомнения на этот счет. Ведь тогда спасти душу проще простого – стоит только на семьдесят лет задержать художнику честно заработанные деньги. По поводу спасения души ему есть что сказать, но разум вынуждает его умалчивать об этом. Все, что он думает по этому поводу, он доверил Сикстинской капелле. «Да увидит зрячий. Целую руку Вашего Преосвященства. Микеланджело».
In nomine domini![35] В Сикстинской капелле была тайна, о которой Микеланджело запросто рассказывал всем и каждому. «Все тайны от дьявола!» – пронеслось в голове кардинала, и он ужаснулся этой мысли. Он постарался еще раз обдумать прочитанное. Необходимо выяснить, не нападки ли на пап были причиной того, что эти документы спрятаны в секретной комнате архива. Документы, содержавшие даже худшие упреки в адрес пап, тем не менее были открыты для доступа исследователей в других комнатах башни. Вероятно, причиной такой секретности стало то, что давал понять Микеланджело. Но кому все же была известна правда? Пий V, возможно, знал ее, иначе зачем бы он прятал свиток? Значило ли это, что все тридцать девять понтификов, взошедшие на Святой престол после, не знали его? Существовала ли связь между тайной Сикстинской капеллы и третьим пророчеством Девы Марии? Надпись на своде капеллы не выходила у него из головы. Кардинал торопливо набросал несколько слов на бумаге, почти не осознавая, что делает.
– Ваше Высокопреосвященство! – раздался голос смотрителя из-за двери. – Ваше Высокопреосвященство!
Еллинек не мог бы точно сказать, сколько времени он провел в этом Sanctissimum,[36] да это и не казалось ему важным, если принять во внимание столь невероятное открытие. Он подошел к двери и властно произнес:
– Предписано ждать, пока я не постучу в дверь! Это понятно?
– Конечно, – последовал смиренный ответ. – Безусловно, Ваше Высокопреосвященство.
Внимание кардинала привлек свиток, исписанный особенно мелким почерком, выдававшим заносчивость пишущего. Текст начинался словами «Синьора маркиза», причем буква «С» была украшена пафосным завитком, как хоральная прелюдия «In dulci jubilo»,[37] занимала полстроки и в конце извивалась, как змея, охватившая яйцо. «Синьора маркиза!» Двусмысленность подобного обращения была ему понятна. Кардинал прекрасно знал, о ком идет речь. Виттория Колонна, маркиза Пескара, муж которой погиб во время битвы при Павии. Вдова, благочестивая до фанатичности. Папа Клемент VII намерен был отговаривать ее от пострижения в монахини, в то время как римское и флорентийское дворянство осаждало ее предложениями руки и сердца. Она считалась одной из красивейших и умнейших женщин того времени, знала латынь не хуже кардинала и произносила речи не хуже философа. Маркиза, как полагают, была большой и единственной платонической любовью Микеланджело. Эта страсть превратила скульптора и художника в поэта, в безумного scolare,[38] выразившего чувства в пламенных сонетах. «Синьора маркиза!» Письмо здесь, в столь странном месте? Нетрудно было догадаться, почему и это письмо не покинуло стен Ватикана. Почти со страхом кардинал взялся читать витиеватые письмена:
«Получив ваше любезное письмо, эти искусно написанные строки, полные сочувствия, направленное мне из Витербо, ваш преданный слуга возрадовался, как жеребенок свежему ветру на пастбище. „Счастлив ты, Микеланджело, – воскликнул я, – ты счастливее, чем все владыки мира“. Лишь одно омрачило мою радость – то, что я задел ваши благочестивые чувства к Святой Церкви. Отнеситесь к моим словам как к обычной болтовне художника, находящегося в сомнении на грани добра и зла, выбирающего попеременно источником вдохновения для своих творений то одно, то другое. Я кротко восхищаюсь твердой верой вашей светлости и кредо: „Omnia sunt possibilia credenti“,[39] которое вы так ясно перевели для меня, необразованного. Остается лишь верить – и все свершится само собой. Спрашивая себя, как могло такому, как я, прийти в голову сомнение в Мировом порядке вы, бесспорно, станете считать меня неверующим болваном. Но подозрения, о которых я вам поведал, пришли ко мне не в снах. Они не созревали в глубине моей темной души; сомнения внушила мне наша неупорядоченная жизнь. Рассказывать вам об этом не входило в мои планы, хотя для вашей светлости на этом свете я готов сделать все что угодно. Вашей светлости известно, что «Атоге поп vuol maestro» – «любящее сердце не нужно понукать». Мне суждено забрать свою тайну с собой на тот свет, однако не открыть ее вам я не в силах. Вам, построившей женский монастырь на Монте-Кавалло, откуда Нерон некогда смотрел на пылающий город, чтобы следы благочестивых дев уничтожали и тень зла. Я скажу только одно: вы, верно, уже давно догадались, что знания мои увековечены во фресках Сикстинской капеллы. Мне больно видеть – и это лишь подтверждает мои сомнения – как мало те, кто посвятил себя утверждению веры, сами ее постигли. Семеро пап ежедневно обозревали свод Сикстинской капеллы, но ни один искушенный ум не понял страшного откровения. Ослепленные собственной гордыней, они величественно смотрят только прямо перед собой, вместо того чтобы поднять крепколобые головы, взглянуть – и увидеть. Но я уже и так сказал слишком много; я не желаю ничем досаждать вам.
- В смирении покрыв себя грехами,
- Чтоб обрести однажды милость свыше,
- Гордятся они тем, что сотворили,
- Но ангелы, увы, их не услышат.
Слуга вашей светлости,Микеланджело Буонарроти из Рима».
Кардинал поспешно свернул шуршащий пергамент, вернул его обратно в стальной шкаф. Кто поймет Микеланджело? Что же сокрыл он на своде Сикстинской капеллы? И как он, кардинал, пусть и обладающий божественным знанием, сможет распутать этот клубок теперь, через четыреста лет?
Еллинек запер хранилище, взял лампу и направился к выходу. Он несколько раз нетерпеливо хлопнул ладонью о дверь, пока не услышал звук поворачивавшегося в замке ключа. Распахнул дверь, отстранил сонного смотрителя и, пока тот запирал дверь, торопливо зашагал к лестнице. Лампа отбрасывала тени, перед глазами кардинала танцевали причудливые образы: сивиллы, красивые и седые бородатые пророки, мускулистый, как атлет, Адам, чувственная Ева, которую он любил, как студент любит всходящую на сцену примадонну, – безнадежно и издали. В череде фигур – Ной, вокруг него – Сим, Хам и Иафет, прикрывающая свое лицо Юдифь и решительный, с мечом в руках Давид. Святая Дева Мария!
Что же открыл нам Микеланджело, этот гениальный дьявол, что написал невидимыми чернилами на своих фресках? Скрывался ли среди аллегорических фигур Антихрист? Что значит буква «А» на пергаменте в руках у пророка Иоиля, столь похожего на Браманте?[40] Что символизирует ангел, поджигающий лапу эритрейской сивиллы, которая, по-видимому, и предсказала Страшный суд? Красивая, в богатых одеждах, она задумчиво листает книгу, так же как и сивилла из Кум. Та старше остальных, но выглядит еще величественнее. Она тоже ищет истину в позеленевшем от времени фолианте. А пророк Иезекииль… Что скрывают буквы «L» и «U» на его свитке? Или божественное знание кроется в тексте, который изучает Даниил?
Какую чудесную тайну хранит дельфийская сивилла? На что указывает ее робкий взгляд?
Продолжая свой путь по тускло освещенным коридорам, ведущим в Сикстинскую капеллу, кардинал наконец припомнил образ пророка Иеремии – трагично-меланхоличный. Микеланджело в нем явно отобразил себя самого: черные приподнятые брови, длинный нос, подбородок и уста, прикрытые ладонями. Пророк удручен и подавлен грузом истинного знания. Именно там, в вышине, над Страшным судом, разгадка тайны! Кардинал ускорил шаг.
Преждевременно состарившийся, сидел он там, мучась от безысходности, познав истину. Широкой спиной он прикрывал две загадочные фигуры. Та, что слева, до странности походила на дельфийскую сивиллу, только постаревшую. Она с гримасой боли на лице отворачивалась. Справа – молодой и полный сил человек, в профиль напоминавший монаха Савонаролу. Намек? Но на что?
Отдуваясь, кардинал устремился вниз по каменной лестнице и осторожно, словно не желая нарушать покой капеллы, открыл правую створку двери. Лучи ноябрьского солнца проникали через высокие окна, заставляя сверкать и искриться геометрический рисунок пола. На творение Микеланджело ложилась мягкая тень, видны были лишь некоторые элементы изображения: там протягивалась рука, тут мелькали почти неразличимые черты лица. Он засомневался, нужно ли включать освещение. Заставить яркие лампы направить потоки света от окон на пол, который отбросит искусственный свет на потолок так же, как это происходит с естественным освещением?
Включение прожекторов чем-то напоминало сотворение мира, как это описано в Книге Бытия, Первой книге Моисея. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью.
Перед мраморным нефом взгляд кардинала невольно обратился вверх, на тысячу раз виденное творение художника: на пророка Иоанна, провозвестника Мессии; на Бога, создающего звезды и растения, отделяющего свет от тьмы и воду – от суши, дающего жизнь Адаму, дотрагиваясь до него своим перстом; на Еву; на чету, поддавшуюся искушению змия. Кардинал от напряжения почувствовал боль в затылке и отступил на несколько шагов назад, не отводя взора от свода. Вспомнилась строка из письма Микеланджело о том, что папы, ослепленные собственной гордыней, величественно смотрят прямо перед собой вместо того, чтобы поднять крепколобые головы, посмотреть – и увидеть. В его поле зрения попал Ной, приносящий жертву после спасения от потопа. Изображение самого потопа, а затем и плывущая по воде крепость, корыстные и эгоистичные люди на необитаемом острове. Никому не будет дан шанс на спасение, даже самым смелым и любящим.
Кардинал затаил дыхание. Как часто он вглядывался в роспись, пытался истолковать ее; однако не замечал раньше, что хронология сотворения мира была обратной, Почему Микеланджело поместил благодарственное жертвоприношение до потопа? Книга Бытия 8:20: «И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике». Книга Бытия 7:7: «И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа». Неожиданно сюжет о Ное завершается его опьянением: он лежит в своем шатре пьяный от вина, он почти незаметен за Симом и Иафетом, лиц которых не видно, а сын Хам над ним насмехается.
Очевидно, Микеланджело начал с этой страницы свой цикл, для того чтобы противопоставить его сотворению мира. Казалось, что сделано это намеренно. Ведь флорентиец не мог ошибиться, так как прекрасно знал Ветхий Завет. К Новому же Завету относился с непонятной сдержанностью, почти не признавал его. И внимательный наблюдатель разочарованно заметил бы, что Микеланджело на стенах капеллы доверил отобразить Новый Завет другим художникам: Перуджино[41] – крещение Христа, Гирландайо[42] – воззвание апостолов, Росселли[43] – Тайную вечерю и Нагорную проповедь, Боттичелли[44] – искушение Христа. Микеланджело не воспринимал образ Иисуса Христа.
Здесь, в Сикстинской капелле, есть всего лишь одно изображение Христа, созданное рукой Микеланджело, – Судии на Страшном суде. Кардинал медленно приблизился к высокой стене, голубой цвет которой вызывал ощущение потока воздуха. Любого, кто подходил к картине Апокалипсиса, казалось, затягивало в эту воронку урагана, кружило и наполняло ужасом – тем большим, чем дольше человек смотрел на изображение. Но чем ближе кардинал подходил к фреске, тем спокойнее ему становилось, как на росписи Микеланджело сдержаннее становился облик библейских персонажей по мере приближения к Судье. Соотносим ли был этот мощный колосс, способный низвергнуть Голиафа, с традиционным церковным образом Христа, восставшим для того, чтобы предать человечество суду? Был ли это божественный образ, произнесший Нагорную проповедь – «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»?
Сотни лет до и после Микеланджело Христос изображался смиренным и милосердным. Тысячелетиями создавался святой, вечный образ. Кардинал стоял на первой ступени алтаря. Даже мягкий искусственный свет не мог придать такому Иисусу отдаленное сходство с Господом милосердным. Отнюдь, он беспощадно вперил взор в землю, отказываясь даже на миг взглянуть в глаза людям, воззрившимся на него. Властный, обнаженный, красивый и могучий, как греческий бог. Только его необычайная красота выдавала божественное происхождение. Зевс-громовержец, богатырь Геркулес, вкрадчивый Аполлон… Аполлон? Этот Иисус Христос был поразительно похож на Аполлона Бельведерского, бронзовая фигура которого загадочным образом появилась в Риме, где и находилась, пока папа Юлий не распорядился поставить ее среди других статуй Бельведера. Иисус, он же Аполлон? Микеланджело сыграл со своими образами злую шутку?
Кардинал покинул капеллу через ту же дверь, в которую вошел. Он вновь поднимался вверх по лестнице так быстро, что у него голова пошла крутом. Впрочем, он отыскал бы тут дорогу и с закрытыми глазами. Но никогда этот путь не казался ему таким долгим, изнурительным и загадочным. В голове гудело так, словно несметное количество труб органа пытались заглушить одна другую. И сам того не желая, как бы услышав внутри себя неведомый голос, Еллинек вспомнил слова Откровения: «И видел я другого Ангела, сильного, сходящего с Неба, облеченного облаком; над головою его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные, в руке у него была книжка раскрытая». «И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев; и когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать; но услышал голос с Неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего».
И прислушиваясь, не прозвучит ли голос снова, кардинал опять оказался перед черной дверью архива. Она была заперта, и он постучал в нее так сильно, что заболели руки. Утомившись, он наконец замер и прислушался.
И вновь послышался голос, промолвивший слова из Откровения Иоанна. Раздавались они четко, но как бы из небытия. Голос произнес: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки Ангела, стоящего на море и на земле». И Ангел сказал: «Возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И далее – безмолвие.
Утром, около половины пятого, один из служек нашел кардинала у входа в архив Ватикана. Тот еще дышал.
На следующий день после крещения
В молочно-белом тумане кардинал различил какое-то движение. Постепенно пелена ушла, голоса стали различимыми, и Еллинек ответил на настойчивый вопрос:
– Ваше Высокопреосвященство, вы меня слышите? Вы слышите меня, Ваше Высокопреосвященство?
– Да, – ответил кардинал, увидев белый головной убор медсестры – тугое льняное полотно, обрамлявшее красноватое лицо.
– Все в порядке, Ваше Высокопреосвященство! – опередила его вопрос монахиня. – Вы потеряли сознание от приступа слабости.
– От приступа слабости?
– Вас нашли лежащим без чувств перед входом в секретный архив, Ваше Высокопреосвященство. Сейчас вы в «Fondo Assistenza Sanitaria».[45] Профессор Монтана наблюдает за вашим состоянием лично. Все в порядке. кардинал проследил взглядом за трубкой, тянувшейся из-под повязки на локте и прикрепленной к стеклянной колбе на хромированном блестящем штативе. Вторая трубка отходила от предплечья и вела к белоснежному прибору со светящимся зеленым экраном с колеблющейся линией, движение которой сопровождалось негромким звуковым сигналом. Она показывала, как бьется его сердце. Взглянув на сестру, которая улыбалась и постоянно кивала, кардинал отвел глаза. Все в комнате сверкало белизной: стены, потолок, немногочисленные предметы интерьера, даже светильники и антикварный телефон, стоявший на белой тумбочке. Еще никогда отсутствие цвета в помещении так не угнетало. Затем он припомнил то, что произошло. Возле телефона лежал скомканный пожелтевший листок бумаги.
Проследив за взглядом кардинала, монахиня осторожно дотронулась до листка, так и не взяв его в руки, и объяснила, что, когда кардинала нашли, у него во рту обнаружили этот листок; положение было опасным, так как Его Высокопреосвященство мог им подавиться. Неужели эта бумага настолько важна?
Кардинал молчал. Видно было, что он напряженно думает. Затем он взял скомканный листок и разгладил его, так что нацарапанные на нем буквы вновь стали различимы.
– Atramento ibi feci argumentum…[46] – почти беззвучно произнес кардинал. Монахиня же не поняла его слов и смущенно потупила взгляд. Она с мнимым безучастием расправила складки своего платья.
– Atramento ibi feci argumentum… – Он-то понимал значение этих слов, хотя и не был уверен, к кому конкретно они относились. Еллинек был убежден, что он на верном пути, этот след правильный и ведет к разгадке тайны.
– Вам нельзя волноваться, Ваше Высокопреосвященство! – Монахиня хотела вынуть из рук кардинала листок бумаги, но тот быстро сжал кулак.
За белой дверью больничной палаты послышались голоса. Она открылась, и в комнату вошла странная процессия: профессор Монтана, за ним государственный секретарь Касконе, потом два врача-ассистента, помощник секретаря и последний – Вильям Штиклер, камердинер папы. Монахиня поднялась.
– Ваше Высокопреосвященство! – воскликнул государственный секретарь и протянул к Еллинеку руки. Тот попытался приподняться, но Касконе помог ему снова опуститься на подушки. Затем к больному подошел профессор, взял руку кардинала, проверил пульс и кивнул.
– Как вы себя чувствуете, Ваше Высокопреосвященство?
– Небольшая слабость, профессор, но я совершенно здоров.
– У вас был сердечно-сосудистый коллапс, это не опасно для жизни, но вам следует быть внимательнее к себе, больше отдыхать и гулять, меньше работать.
– Как же это произошло, Ваше Высокопреосвященство? – поинтересовался Касконе. – Вас, с Божьей помощью, нашли перед входом в секретный архив. Не знаю, где еще воздух может быть настолько сперт, как в этом месте. Неудивительно, что вы лишились чувств.
– Ваше Высокопреосвященство, вы разрешите поговорить с вами наедине? – Еллинек решительно посмотрел на государственного секретаря, и посетители друг за другом вышли из палаты. Штиклер передал благословение папы. Еллинек осенил себя крестным знамением.
– Волнение, – начал кардинал Йозеф Еллинек, – это было волнение. В поисках толкования надписей на фресках Микеланджело я сделал открытие…
– Вам не следовало принимать это дело близко к сердцу, – резко прервал больного Касконе. – Микеланджело мертв уже четыреста лет. Он был великим художником, но отнюдь не теологом. Разве мог он хранить какую-то тайну?
– Этот человек был рожден в эпоху Ренессанса. В те времена искусство служило Церкви. Что из этого следует, не мне вам объяснять. Более того, Микеланджело родился во Флоренции, которая во все времена порождала грехи.
– Федрицци следовало сразу стереть эти символы, как только он обнаружил первые из них. Теперь слишком многие посвящены в тайну. Но мы придумаем им толкование, и дела Ватикана будут у всех на устах.
– Брат во Христе, вам так же, как и мне, известно, что Церковь наша покоится не только на гранитном фундаменте. В некоторых местах проступает и песок…
– То есть вы всерьез верите, – возмущенно перебил его государственный секретарь, – что художник, умерший четыреста лет назад, с которым, что общеизвестно, обошлись не слишком церемонно, может мстить Святой Церкви при помощи букв, обнаруженных на каких-то фресках?
Еллинек сел.
– Во-первых, речь идет не о каких-то фресках, брат во Христе, а о фресках Сикстинской капеллы. Во-вторых, Микеланджело Буонарроти, хотя и умер, вовсе не мертв. Этот художник живет – в памяти людей он живее, чем во времена его физического существования. И в-третьих, я считаю, что, ненавидя папу и Святую Церковь, он готов был использовать любую возможность, какая только могла представиться такому человеку, как он. И я говорю это со знанием дела.
– Ваше Высокопреосвященство, мне кажется, что пребывание в секретном архиве ночи напролет пагубно отражается на вашем здоровье.
– Брат во Христе, но ведь это же вы поручили мне разобраться в деле. А оно так увлекло меня, что я с удовольствием пожертвую ему пару часов сна. Над чем вы смеетесь, государственный секретарь?
Касконе покачал головой:
– Я просто не могу поверить в то, что восемь простых букв, которые ввиду досадной случайности были обнаружены при восстановлении фресок, могут потрясти римскую курию.
– Так случалось, брат мой, что, казалось бы, и более незначительные мелочи имели самый неприятный резонанс за стенами Ватикана.
– Попробуем вообразить еще раз: что может произойти, если завтра Федрицци станет обрабатывать буквы средством, которое их просто уничтожит?
– А вот я расскажу вам. Во всех газетах появятся сообщения о том, что Ватикан уничтожает произведение искусства. Более того, будут выдвигаться предположения о том, что скрывалось за буквами, и о том, что же заставило курию уничтожить надпись. Затем появятся ложные пророки, которые будут извращать толкование надписи, и вред от ее уничтожения, следовательно, будет гораздо больше, чем если она останется нетронутой.
Во время разговора Еллинек разжал кулак и показал скомканный листок:
– Я уже занялся расшифровкой надписи.
Касконе подошел ближе и взглянул на листок:
– Ну?…
– А – I – F – А – Atramento ibifeci argumentum.
– Начало звучит не слишком оптимистично. – Касконе был, видимо, задет. До сих пор он не придавал этому делу большого значения. Сейчас государственному секретарю приходилось всерьез спросить себя, не изобразил ли и вправду Микеланджело на своде Сикстинской капеллы страшное послание, угрожающее Церкви. Касконе задумался и затем сказал:
– И чем вы докажете верность своего толкования?
– В данное время я ничего не могу доказать хотя бы потому, что мне понятно толкование только части надписи. Но уже первая моя догадка доказывает, насколько опасной для Церкви может стать эта надпись.
– Что же вы предлагаете делать, Ваше Высокопреосвященство?
– Что делать? Скажу вам как брат брату: мы обречены на то, чтобы использовать именно те средства, которыми пользовался флорентиец. И если он был связан с дьяволом, нам тоже придется воспользоваться подобными услугами.
Касконе перекрестился.
В праздник папы Mарцелла
Вечером темно-синий «фиат» кардинала Еллинека остановился перед палаццо Киджи. Древнее здание имело давнюю историю, но так как имя его создателя, как и очень многое в городе, ушло в небытие, оно было названо в честь банкира Агостини Киджи. На сегодняшний день в историю здания вписывалась страница о спорном наследстве, в результате чего оно было поделено на несколько частей, сдававшихся по высоким арендным ставкам. Шофер, одетый как священник, открыл дверцу машины, и кардинал, выйдя, направился к незаметному боковому входу, у которого была установлена видеокамера. Домоправитель Аннибале улыбкой приветствовал кардинала в полумраке темного вестибюля. Он был неверующим, но два года назад, когда кардинал поселился во дворце, не моргнув глазом произнес: «Слава Богу!» Кардинал знал, что помимо того, что Аннибале был домоправителем, он еще подрабатывал менялой. К тому же он участвовал в мотокроссах и был членом КПИ.[47]
Но еще примечательнее была его супруга Джованна – женщина средних лет, которой очень шло ее имя.[48] Казалось, большую часть времени она проводила на лестничной клетке; по крайней мере, кардинал был удивлен, не увидев Джованны. Как правило, он пользовался старым лифтом, вокруг которого, как змий из рая, обвивалась широкая лестница, обрамленная коваными перилами. Однажды ему посчастливилось подсмотреть за Джованной, которая мыла лестницу, а убирала она ее, казалось, несколько раз в день. Сквозь стекла отделанного красным деревом лифта виднелись ее мясистые бедра и – miserere domine[49] – к тому же в чрезвычайно коротких чулках, крепившихся на нескромных ленточках. Кардинал, возбужденный увиденным, на следующий же день возле Пантеона исповедался у камиллинцев. Он покаялся монаху в своем грехе и попросил назначить ему соответствующее наказание. Но добродушный камиллинец из монастыря Святой Магдалены назначил кардиналу дважды прочитать молитвы «Отче наш», «Радуйся, Дева Мария» и «Славься». Отпустив грехи, дал добрый совет повязаться поясом святой Терезы и таким способом отогнать от себя распутные мысли. Монах полагал, что не взгляд грешен, а неблагочестивые мысли; и если кардинал испытал в момент созерцания удовольствие, пусть откроется ему сердце святого Камилло де Леллиса, покровителя всех больных.
Через день после этого, в очередной раз прочитав, к чему в статье «Целомудрие» призывает Encyclopaedia Catholica, обрадованный таким советом кардинал вошел в лифт, нажал на кнопку четвертого этажа и, призывая святую Агнессу, закрыл глаза, чтобы избежать любого искушения. Но поездка оказалась недолгой, намного короче, чем поездка до четвертого этажа. Когда кардинал вынужден был из-за неожиданной остановки лифта открыть глаза, он увидел входившую туда Джованну. Конечно, вид ее совсем не был соблазнительным: в одной руке было серое оцинкованное ведро с грязной водой, в другой – старая тряпка. Не ответив на приветствие ключницы, он, взволнованный, бросился вон из лифта, перед глазами мучительной картиной стоял образ, увиденный им вчера. Будто сам дьявол решил поиграть с ним: выход преградила высокая грудь Джованны, и кардинал отпрянул, будто черт от ладана.
– Второй этаж, Ваше Высокопреосвященство!
– Второй этаж? – Кардинал смутился, как Исайя пред очами Господа, и так же, как он, отвернулся. Близость Джованны, греховное тепло, исходившее от ее спины, вскружили ему голову. Время между закрытием двери и толчком, от которого лифт двинулся дальше, показалось ему вечностью. Кардинал проклял тот момент, когда решился войти в лифт. Он считал себя жертвой искушения, как Адам в раю, которому сатана явился в образе змея-искусителя. Кардинал стоял, вцепившись в холодные латунные перила, опоясавшие лифт внутри. С наигранным равнодушием он разглядывал лестничную клетку сквозь матовые стекла лифта и вдруг увидел отражение Джованны: темные глаза, высокие скулы, пухлые губы. Заметив его взгляд, Джованна резким движением отбросила волосы и уставилась на молочно-белые лампы в центре потолка. Чтобы как-то сгладить неловкое молчание, не меняя позы, девушка стала напевать: «Funiculi, funicola, funicoli, funicolaaa!»[50] – припев невинной неаполитанской песенки. Но в исполнении Джованны мотив звучал иначе: бесстыдно и греховно. Голос ее был тихим и слегка охрипшим. По крайней мере, так казалось кардиналу Бог знает почему, Еллинек не мог оторваться от отражения губ Джованны. Он припомнил слова камиллинца, что грешен не взгляд, а низменное разжигание нечестивых желаний. Кардинал был уверен в том, что получает удовольствие от созерцания Джованны. Было ли оно низменным или возвышенным?
– Четвертый этаж, Ваше Высокопреосвященство!
Кардинал, которому теперь поездка казалась слишком короткой, вышел из лифта, едва автоматическая дверь открылась, и, стараясь не коснуться женщины, обошел ее и произнес:
– Благодарю вас, синьора Джованна, благодарю вас!
Этому воспоминанию было уже два года. С тех пор кардинал соблюдал ежедневный ритуал – поднимался по лестнице. Теперь Еллинек предпочитал широкие ступени лифту. Таким образом обязательно встретишь ключницу по пути на четвертый этаж. Однако судьбе было угодно, чтобы и тогда, когда кардинал пользовался лифтом, и тогда, когда по лестнице возвращался домой в необычное время, Джованна тоже встречалась Еллинеку на пути.
В тот вечер кардинал спускался по лестнице. Понукаемый плотью, как святой Петр, Еллинек бросал вверх алчущие взгляды, ловил себя на том, что громко топа и замедлял шаги, чтобы дать ключнице время, но, дойдя до первого этажа, так никого и не встретил. Кардинала охватило то ощущение утраты чего-то желанного, которое говорит о приобретенной зависимости. Согласно совету своего исповедника он дал свободу мучительному желанию, решив не избегать встреч с излучающей усладу женщиной, а не обращать на нее внимание. Таким образом, если верить совету камиллинца, однажды он приобретет силу противостоять искусителю.
Но история Церкви учит: фантазии аскетов бывают ужаснее видений грешников. Их не избежали ни святой отец Церкви Иероним, ни святой иезуит Родригес. И этот иезуит, автор книги «Практика христианского самосовершенствования», в течение всей своей жизни страдал от видений нагих женщин, которые являлись ему по ночам и закрывали его глаза грудью. А кающийся бородач святой Иероним даже в пустыне видел танцующих римских дев, и ни ужасные циновки из кукурузных листьев, на которых он спал, ни благопристойное возлежание на боку не смогли прекратить греховные видения. Если даже аскетично жившие святые не смогли усмирить свою плоть, то как же мог бороться с этим кардинал? В полном разочаровании он спустился на второй, затем на третий этаж. И вот чулки и бедра Джованны, еще более соблазнительные и еще более реальные в мыслях Еллинека, чем наяву в тот раз, когда он впервые увидел их, двигались перед его глазами. Он достал из-под черной рясы ключи от квартиры. Кардинал жил один, хозяйство вела монахиня-францисканка; а по вечерам она уходила в свой монастырь на Авентинском холме. Кардинал привык возвращаться в пустую квартиру. Высокая мрачная передняя, обтянутая красными шелковыми обоями, разделяла квартиру на две части. Двустворчатая дверь слева вела в холл, обставленный отличной черной мебелью в стиле Novecento Italiano,[51] за ним, отделенная раздвижной стеклянной дверью, скрывалась библиотека. Спальня, ванная комната и кухня находились напротив, по другую сторону передней.
Смущенный, кардинал вошел в библиотеку. Две противоположные стены от пола до потолка были заставлены книжными полками; на третьей, обшитой деревом, висел крест, перед которым стояла обтянутая пурпурной тканью скамеечка для молитвы. Кардинал опустился на скамеечку, закрыл лицо ладонями, однако начатую молитву так и не смог договорить, ибо даже в самую страстную «Радуйся, Дева Мария» врывался соблазнительный образ Джованны. В бешенстве кардинал вскочил, сделал несколько решительных шагов по комнате и направился в неосвещенную спальню, где, перерыв весь комод, с трудом выудил кожаный ремень. Расстегнув рясу, разделся до пояса и стал хлестать себя по спине ремнем, как святой Доминик. Он начал самобичевание неуверенно, но постепенно, будто получая удовольствие от наказания, наносил удары все сильнее и сильнее. Ремень громко стегал по спине, и Бог знает, быть может, кардинал мучил бы себя в этот вечер до потери сознания, если бы звонок в дверь не вывел его из состояния транса. Он поспешно оделся, затем подошел к двери:
– Кто здесь?
Из-за двери послышался голос Джованны. «Domine nostrum!»[52] – раздалось в голове кардинала. Он быстро перекрестился и отворил дверь.
– Это передал священник! – Джованна протянула ему грязный, обернутый в бурую бумагу и перевязанный шнуром пакет.
Кардинал взглянул на Джованну и смущенно переспросил: