Могикане Парижа Дюма Александр
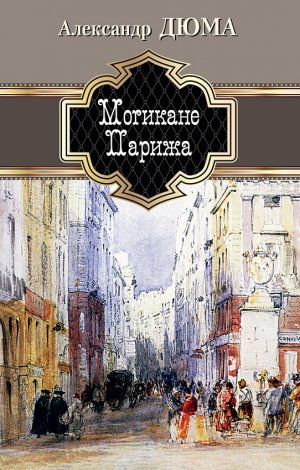
Ровно через пять минут Коломбо, не уступавший в верности своему слову даже знаменитому земляку своему Дюгесклену, выпустил большого ученика и отвязал маленького. Старший и не подумал с ним рассчитываться, а младший ушел со злости в лазарет и пробыл там целый месяц.
Само собой разумеется, что они тотчас же сделались предметом неистощимых насмешек, а Коломбо осыпали похвалами. Но он, по-видимому, не высоко ценил эти восторги:
– Вы сами теперь видели, господа, на что я способен и знайте, что с первым, кто вздумает надоедать мне, я сделаю то же самое.
С этими словами он спокойно пошел дальше. Жизнь Камилла Розана была в течение целого месяца в величай шей опасности, и все очень тревожились за исход его болезни. Но больше всех терзался тревогой, часто доходившей до отчаяния, сам Коломбо. Он совершенно за бывал, что начал ссору не сам, а только вынужден был защищаться, и искренне считал себя единственной причиной страданий мальчика.
Само собою разумеется, что когда Камилл стал выздоравливать, в сердце Коломбо проснулась по отношению к мальчику та нежность, какую испытывает сильный к слабому, победитель к побежденному и которая составляет одну из лучших черт человеческого сердца.
Мало-помалу эта нежность обратилась в серьезную дружбу, и Коломбо полюбил Камилла, как любит старший брат младшего.
Маленький креол тоже привязался к Коломбо с той разницей, что в его приязни была немалая доля страха. При его физической слабости ему приятно было сознавать себя под чьим-нибудь покровительством, но в то же время его самолюбие ставило невидимую, но непреодолимую преграду между ним и его другом – покровителем.
Характер у него был заносчивый, и он каждый день рисковал получить от кого-нибудь из товарищей такой же назидательный урок, какой дал ему Коломбо. Но тот был всегда на страже и стоило ему только обернуться и спросить своим спокойным голосом: «Ну, что там опять такое?» – как все угрожавшие Камиллу покорно отступали.
С годами гордость креола, казалось, стихла, и в душе его не оставалось ничего, кроме чистой и искренней привязанности к Коломбо, что он и доказывал при каждом удобном случае. Они были разного возраста, а потому учились в разных классах, спали в разных дортуарах и могли видеться только во время перемен. Но привязанность креола к Коломбо была так велика, что как только он его не видел, то принимался писать ему. Мало-помалу между ними установилась постоянная переписка, такая же подробная и задушевная, как между двумя влюбленными.
Вообще, первая юношеская дружба отличается всей горячностью первой любви. Сердце, как человек, долго проживший в заточении, ждет только свободы, чтобы раскинуть под солнечными лучами теплого чувства свои сокровеннейшие мысли.
Таким образом, между друзьями установилась тесная связь, а когда на следующий год Камилл перешел на одно отделение с Коломбо, они стали неразлучны, и все вещи, бумага, перья, белье и деньги стали их общей собственностью.
Когда родные присылали Камиллу из Америки варенье и консервы, он делил все пополам и откладывал одну половину в ящики Коломбо. Если же старый граф решал снабдить сына соленьями из Бретани, Коломбо поступал с ним так же, как Камилл с вареньем.
Дружба эта, с каждым днем становившаяся сильнее, вдруг была прервана тем, что родители Камилла, когда он окончил курс философии, потребовали его возвращения в Луизиану. Друзья обнялись и расстались, обещая друг другу сообщать о себе в письмах, по крайней мере, раз в две недели.
В первые три месяца Камилл был верен данному слову, но затем стал писать только по одному разу в месяц, а под конец и вовсе по одному разу в три месяца.
Что же касается честного бретонца, то он строго исполнял свое обещание и ни разу не пропустил обещанного двухнедельного срока.
На другое утро после весенней ночи, о которой мы только что рассказывали, часов в десять старушка-консьержка принесла молодому человеку письмо, автора которого он тотчас же узнал по почерку.
Письмо было от Камилла. Он возвращался во Францию. Письмо могло опередить его самого всего на несколько дней.
Он предлагал Коломбо возобновить те же отношения, которые существовали между ними в школе.
«Ты сообщал мне, – писал креол, – что у тебя кухня и три комнаты. Позволь же мне занять половину кухни и полторы комнаты».
– Еще бы! – вскричал Коломбо, радостно взволнованный неожиданным возвращением друга.
Вдруг ему пришло в голову, что к приезду милейшего Камилла нужно будет приготовить кровать, умывальник, туалетный стол и, в особенности, диван, на котором беспечный креол мог бы курить свои превосходные мексиканские сигары. Коломбо тотчас же оделся, захватил с собою все свои сбережения – триста или четыреста франков – и отправился делать покупки.
На лестнице он встретился с Кармелитой.
– Господи, какой у вас сегодня счастливый вид, мосье Коломбо! – вскричала девушка, глядя ему в лицо.
– Да, я сегодня чрезвычайно счастлив! – сказал он чистосердечно. – Из Америки, из Луизианы, ко мне воз вращается друг. Мы сдружились с ним еще в школе, и я люблю его, кажется, больше всех остальных.
– Отлично! – понимающе вскричала она. – А когда он приедет?
– Точно не знаю, но мне так хотелось бы, чтобы он был уже здесь!
Кармелита рассмеялась.
– Право, я был бы очень рад – повторил Коломбо. – Я уверен, он вам ужасно понравится. Это олицетворенная красота и веселость. Я никогда не видел такого красавца даже среди идеалов красоты, созданных мечтами художников! Единственный недостаток в нем – это, может быть, некоторая женственность, – прибавил он не для того, чтобы уменьшить достоинства красоты, которой сам восхищался, а только во имя правды. – В нем есть что-то женственное, но даже и это к нему чрезвычайно идет. Наверно, у сказочных принцев были такие же прелестные лица. Сами бакалавры Саламанки не умели ходить изящнее его, а беззаботностью он перещеголял даже наших парижских студентов. Кроме того, – вот уж этим он наверняка очарует вас, такую любительницу музыки, – у него прелестнейший тенор, и поет он мастерски! Когда-нибудь мы споем вам старинные дуэты, которые распевали в школе. Ах, кстати о музыке… Сегодня ночью мне пришло в голову сделать вам одно предложение. Вы ведь говорили мне, что в Сен-Дени учились музыке?
– Да, я пела там сольфеджио, и говорили, что у меня порядочный контральто, и если я о чем и жалела, выходя из Сен-Дени, так это единственно о трех подругах, с которыми была так же дружна, как вы с Камиллом Розаном, и о моих уроках пения, ведь мне уж нельзя было их про должать. Кажется, что при некотором старании из меня бы что-нибудь да и вышло.
– Ну, так вот я и хотел предложить вам не то, что я стану давать вам уроки, потому что с моей стороны это было бы слишком смело, – но мы могли бы разучивать некоторые вещи вместе и, может быть, я был бы вам полезен, потому что в школе я учился у очень хорошего профессора, у старика Мюллера. Да и после того я много занимался и все свои познания предлагаю к вашим услугам.
Коломбо сам испугался, что сказал так много, но весть о приезде дорогого друга совершенно преобразила скромного и добродушного юношу.
Кармелита приняла его предложение с величайшей благодарностью. Если бы ей предложили целое состояние, ее это так не порадовало бы, и она уже собиралась высказать ему это, но увидела на последних ступеньках лестницы доминиканского монаха, который читал молитву над ее матерью и которого она уже несколько раз встречала, когда он поднимался к Коломбо.
Девушка вспыхнула и убежала.
Коломбо был тоже заметно смущен.
Монах взглянул ему в лицо с удивлением и упреком, как бы желая сказать ему:
– Я отдал тебе всю мою дружбу и думал, что и ты поверяешь мне все свои тайны. Но вот важная тайна, а ты и не упомянул о ней!
Коломбо вспыхнул, как молоденькая девочка, и, отложив покупку мебели до другого раза, возвратился домой.
Пять минут спустя Доминик знал сердечную тайну своего друга гораздо лучше, чем он сам.
Коломбо рассказал ему все, не исключая события последней ночи, которое все еще наполняло его сердце любовью и поэзией.
Упрекая Коломбо за эту чистую и честную любовь, молодой монах очутился бы в безвыходном противоречии со своей теорией всемирной любви, потому что он называл любовь чувственную, в какой бы форме она ни проявлялась, «центром жизни».
Поэтому брат Доминик увидел в зарождающейся страсти своего юного друга не больше как оживляющую лихорадку, которая была скорее полезна, чем вредна.
Он даже не сердился на Коломбо и за то, что тот раньше не признался ему в своем чувстве, так как видел, что тот и сам еще не сознает его ясно.
Когда молодой бретонец сам понял наконец, что в нем заговорило сердце, он сильно покраснел, точно чего-то испугавшись.
Монах улыбнулся и взял его за руку.
– Для вас такая любовь необходима, друг мой, – сказал он, – иначе вся ваша молодость прошла бы в безысходной апатии. Благородная страсть, которая одна только и сродни вашему сердцу, может воодушевить его, возродить его к новой жизни. Взгляните на этот сад, – продолжал монах, указывая на питомник, – вчера земля в нем была суха, все растения опустились и поблекли. Но вот прогремела гроза – и из-под земли появились новые побеги; кусты покрылись бутонами, бутоны обратились в цветы. Люби же, юноша, цветы и красуйся плодами, как юное дерево! Никогда не цвели цветы и не зрели плоды на стволе более благородные, чем ты.
– Значит, вы не только не осуждаете меня, но еще поощряете слушать советы моего сердца! – вскричал Коломбо.
– Я рад тому, что вы полюбили, друг! И если я за что-нибудь упрекаю вас, то только за то, что вы скрыли от меня свое чувство, потому что обыкновенно скрывают только любовь порочную. Я не знаю в мире ничего лучшего, чем зависимость хорошего человека от его собственного сердца; потому что насколько в натуре низкой страсть унижает человеческое достоинство, настолько в натуре благородной она его возвышает. Взгляните хоть на все отдаленнейшие точки земного шара, друг, и везде вы увидите, что внутренними пружинами царств руководили, скорее, живые силы страсти, чем премудрые соображения гения. Как ни обширен разум человеческий, он все-таки слаб, труслив и всегда готов отступать перед первыми же встречными препятствиями. Но сердце – наоборот! Оно вечно волнуется, вечно быстро и энергично в своих решениях, твердо в их исполнении, и никто не может воспрепятствовать в непреоборимом течении его стремлений. Разум – это основа покоя, а сердце – это жизнь. Следовательно, покой в вашем возрасте, Коломбо, составляет опасную праздность и, если бы мне пришлось выбирать, я скорее согласился бы, чтобы во мне кипели силы жизни, которыми я стал бы сотрясать столбы храма, чем чтобы во мне царил покой, во время которого меня безвозвратно погребли бы под собою каменные своды.
– А между тем, почтенный брат, сами вы все-таки не смеете любить, – заметил Коломбо.
Монах грустно улыбнулся.
– Ваша правда, – проговорил он. – Я не могу любить вашей чувственной, земной любовью, потому что меня избрал Бог. Но лишая меня любви личной, он вознаградил меня любовью ко всем вообще. Вы страстно любите одну женщину, друг, а я страстно люблю всех. Для вашей любви необходимо, чтобы предмет ее был и молод, и прекрасен, и богат, и платил вам взаимностью. А я, наоборот, люблю прежде всего бедных, уродливых, несчастных и страждущих, и если у меня нет силы духовной любить тех, кто ненавидит меня, то я, по крайней мере, глубоко сочувствую им. Думая, что мне запрещено любить, вы жестоко ошибаетесь, друг Коломбо. Бог, которому я посвятил себя, это есть основа всякой любви, и бывают минуты, когда я способен, как святая Тереза, плакать над судьбой сатаны, потому что он есть единственное существо, которого невозможно любить.
Разговор продолжался еще долго на той благодарной почве, на которую его свел брат Доминик. Монах указывал молодому другу все те стадии, на которых разум и духовная сила одерживали блистательные победы над страстью, и задумчиво слушавшему его Коломбо казалось, что он послан для того, чтобы приподнять перед ним одну из темнейших завес жизни, а он сам чувствовал себя под влиянием его слов чище, выше и достойнее любви. Ему ни разу не пришла в голову мысль, что любимая девушка не разделяет его чувства. Если судить по его рассказам, он казался и поэтом, и живописцем; поэтом – по силе и образности его выражений, художником – по той пластичности, с которой он говорил о чувстве своего воодушевленного сердца.
По всей вероятности, они провели бы весь день вместе в этой беседе, если бы чей-то голос на лестнице раза три не произнес имени Коломбо.
– О! – вскричал честный бретонец, – ведь это Камилл!
Он не слыхал этого голоса целых три года и все-таки узнал его.
– Коломбо! Коломбо! – радостно повторял человек, быстро взбиравшийся по лестнице.
Студент отпер дверь и очутился в объятиях Камилла.
Едва ли был во всемирной истории случай, чтобы слепец, встречая свое несчастье в образе лучшего друга, обнимал его с большим жаром и искренностью.
VI. Камилл
При входе Камилла, с которым он раньше знаком не был, брат Доминик, несмотря на все упрашивания Коломбо, ушел.
Камилл проводил его глазами до двери.
– Ого! – проговорил он, когда дверь затворилась. – Будь я римлянином, это было бы для меня дурным предзнаменованием!
– То есть, как это?
– Разве ты забыл наставление: «Если, выходя из дому, запнешься ногою о камень или увидишь слева черную ворону, то возвратись домой».
По лицу Коломбо пробежало грустное, почти страдальческое выражение.
– Ты все тот же, мой милый, – проговорил он, – и твое первое слово составляет разочарование для друга, который ждал тебя с таким нетерпением.
– Это почему?
– Потому что эта черная ворона, как ты выразился…
– Совершенно верно! Я ошибся, – мне следовало бы назвать его сорокой, потому что он наполовину белый, наполовину черный.
Коломбо показалось, что его второй раз ударили по сердцу.
– Потому, что эта ворона или сорока – один из лучших и умнейших людей в мире, – продолжал он. – Когда ты узнаешь его покороче, то сам пожалеешь, что принял его за одного из тех попов, которые борются против Бога, вместо того, чтобы бороться за него. Тебе станет тогда стыдно своих детских насмешек.
– О! Ты тоже по-старому важен, серьезен и назидателен, как миссионер! – расхохотался Камилл. – Ну, пусть будет по-твоему, – я виновен и жалею, что неправильно отнесся к твоему другу. Ведь этот красавец монах, вероятно, друг твой? – прибавил он несколько серьезнее.
– Да, и притом друг очень мне дорогой, – подтвердил бретонец веско.
– Я очень сожалею о своей шутке, но когда мы были в школе, ты не отличался особенной набожностью, а потому я и удивился, когда застал тебя в уединенной беседе с монахом.
– Повторяю тебе, когда ты узнаешь брата Доминика, то перестанешь удивляться. Но теперь дело не в этом, – продолжал Коломбо, изменив серьезный тон на прежний добродушный и веселый. – Теперь дело не в брате во Христе Доминике, но в брате во дружбе Камилле. Наконец ты здесь! Обнимем друг друга еще раз. Я не могу тебе выразить, как меня обрадовало сначала твое письмо, а потом и твой приезд. Теперь мы опять заживем по-старому, по-школьному!
– Даже гораздо лучше, чем жили в школе! – под хватил почти так же весело и добродушно Камилл. – Теперь нас не станут стеснять ни надоедливые товарищи, ни воспитатели, и мы можем по целым дням гулять, заниматься музыкой, бывать в театрах по вечерам и болтать по ночам, что в школе было решительно невозможно, потому что за это жестоко попадало.
– Да, помню я эти ночные разговоры! – со вздохом сказал Коломбо. – Милое то было время!
– А помнишь ночи с воскресений на понедельники?
– Да, – задумчиво и не то с веселой, не то с грустной улыбкой проговорил Коломбо. – Я выходил из школы ред ко. Родных в Париже у меня не было, и я целые дни проводил на школьном дворе со своими мыслями и – я горжусь этим – со своими мечтами. А ты просыпался в воскресенье рано, как жаворонок, и улетал, одному богу известно куда. Когда ты уходил, я тебе не завидовал, но мне было грустно. Но вечером ты возвращался ко мне с целым ворохом новых впечатлений, и у нас хватало поводов для болтовни на целую ночь.
– Вот и теперь мы заживем точно так же, и, будь спокоен, мудрец, за рассказами у меня дело не станет, потому что я жил там, как достопочтенный Робинзон, и хочу теперь вознаградить себя в Париже за потерянное время.
– Да, да, вижу, что годы тебя не изменили! – ласково, но озабоченно проговорил серьезный бретонец.
– Нет. А особенно хорошо то, что они оставили в целости всю мою любовь к жизни и наслаждениям. Скажи, пожалуйста, где можно здесь поесть, когда проголодаешься?
– Если бы я знал наперед, когда именно ты приедешь, то мы пообедали бы в нашей столовой.
– А разве ты не получил моего письма!
– Получил, но не больше как час тому назад.
– Ах, да! Совершенно верно! Письмо это пришло в Гавр на одном пакетботе со мною и опередило меня лишь настолько, насколько обгоняет почта дилижанс. Итак, я повторяю свой вопрос: где здесь едят?
– Я очень рад, что ты только что уподобил себя Робинзону Крузо, – сказал Коломбо, – это мне доказывает, что ты привык к лишениям.
– Ты меня приводишь в трепет и ужас! Ради бога, не пугай меня так! Это шутка нехорошая! Ведь я не герой романа, я должен и люблю есть. Еще раз спрашиваю тебя: где здесь едят?
– Здесь условливаются с привратницей или с одной из соседок, и она кормит на славу.
– Хорошо, это ежедневно, но в случаях чрезвычайных?
– Идут к Фликото.
– А! Это тот чудеснейший Фликото на площади Сорбонны! Он все еще существует? Значит, он съел еще не все бифштексы?
И Камилл расхохотался.
– Фликото! Бифштекс и целую гору картофеля!
Он подошел к столу и взял свою шляпу.
– Ты куда это? – спросил Коломбо.
– Иду к Фликото! Пойдем вместе.
– Нет, я не пойду.
– Это почему?
– Потому что мне нужно идти купить тебе кровать, стол, диван, на котором ты будешь курить.
– Ах, кстати о куреве! У меня есть чудеснейшие гаванские сигары, то есть, вернее, они у меня будут, если таможня соблаговолит мне их отдать. Я думаю, что эти таможенные чиновники всегда курят чудеснейший табак.
– Сочувствую твоему горю, но совершенно бес корыстно. Я не курю.
– Однако ты удивительная дрянь, братец, и, право, я не знаю, найдется ли на свете женщина, которая согласится полюбить тебя.
Коломбо покраснел.
– А! Она уже нашлась? – вскричал Камилл. – Это хорошо!
Он протянул другу руку.
– Поздравляю тебя, мой милый! Значит, в отношении женщин у вас здесь лучше, чем в отношении стола. Ну, и будь уверен, что как только я позавтракаю, то тотчас же примусь за разведку! Право, я теперь очень жалею, что не привез тебе негритянку… Пожалуйста, не гримасничай! Между ними есть – прелесть какие! Одно досадно, пожалуй, таможенники отняли бы у меня и ее… Ну, что, идешь ты?
– Я ведь уже сказал, что нет.
– Ах, да! Ты уже сказал! А почему ты это сказал?
– Экий ты ветрогон! Право, ты совершенно пустоголовый!
– Пустоголовый! Ну, в этом отношении ты расходишься во мнениях с моим отцом. Он убежден, что череп у меня набит мозгами. Так почему ты не пойдешь?
– Потому, что мне нужно купить для тебя мебель.
– Это верно. Итак, беги меблировать мою квартиру, а я пойду меблировать мой желудок; но через час мы будем оба здесь.
– Хорошо.
– Хочешь денег?
– Нет, спасибо, у меня есть.
– Ну, так возьмешь потом, когда их у тебя не будет.
– Где это я их возьму? – смеясь, спросил Коломбо.
– Как где? В моем кошельке, если только они там будут. Я ведь – богач! Правда, Ротшильд мне не дядя и Лафитт мне не тесть, но у меня шесть тысяч годовых дохода – пятьсот ливров в месяц или шестнадцать франков, тринадцать су и полтора сантима в день. Если хочешь, можешь купить Тюильри, Сен-Клу или Рамбуйе. Вот в этом кошельке лежат мои доходы ровно за три месяца вперед.
С этими словами Камилл, действительно, вытащил из кармана кошелек, сквозь петли которого сверкало золото.
– Ну, об этом мы потолкуем в другой раз.
– Так через час ты придешь сюда?
– Разумеется.
– В таком случае «Ступай умирать за своего князя, а я погибну за родную страну»! – вскричал Камилл.
И он побежал вниз по лестнице, только не умирать за родную страну, как поэтически выразился Казимир Делавинь, а завтракать к Фликото.
Коломбо пошел тоже вниз, но спокойно и рассудительно, что и соответствовало его характеру.
Таким образом, насмешливое легкомыслие, с которым Камилл относился даже к вещам серьезным, сказалось в первых же словах, произнесенных им при встрече со старым другом.
Обыкновенно нас, французов, упрекают в легкомыслии, беззаботности и насмешливости. Но на этот раз француз вел себя с серьезностью англичанина, а американец – с легкомыслием француза.
Если бы не возраст, красота, манеры и изящество костюма, то Камилла можно было бы принять за одного из парижских гаменов. В нем было столько же живости, такой же склад ума, такой же беззастенчивый, веселый нрав.
Можно было припереть его в угол, удержать в амбразуре окна, защемить между двумя дверьми и там употребить величайшее красноречие, чтобы угнездить в его голове хоть одну серьезную мысль, но стоило пролететь мухе, он увлекался ею и обращал на слова убеждающего друга ровно столько же внимания, сколько любой прохожий.
Впрочем, у него было то достоинство, что для того, чтобы понять его характер, не нужно было говорить с ним долго. Через пять минут он был весь как на ладони. Его выдавали слова, походка, лицо, каждое движение.
Прежде всего это был красавец в полном смысле слова, как Коломбо и говорил Кармелите. На стройном, изящном и гибком теле красиво держалась прекрасная голова. Продолговатые, живые карие глаза оттенялись длинными ресницами. Черные, как вороново крыло, волосы окаймляли продолговатое, несколько смуглое лицо. Прямой правильный нос примыкал ко лбу прекрасной линией, встречающейся только на лучших статуях. Небольшой рот окаймлялся свежими пунцовыми губами, как бы постоянно манившими к поцелуям.
Вообще вся его фигура, несмотря на то, что он, как истый южанин, любил слишком яркие галстуки и слишком пестрые жилеты, носила на себе отпечаток такого несомненного достоинства, что даже почтенные маркизы приняли бы его за аристократа старинного рода.
Его капризная, нервная и утонченная красота составляла контраст с серьезной, сдержанной, почти мраморной красотой Коломбо. Один напоминал древнего Геркулеса, другой обладал мягкостью и почти женственной грацией Кастора, Антиноя.
Глядя на них, когда они стояли обнявшись, трудно было разгадать, какая симпатия, какое влечение таинственной духовной природы человеческой притягивало этого сильного человека к слабому и изнеженному юноше. Братьями они быть не могли, потому что природа не допускает контрастов, а потому сделались друзьями.
Покровительство, которое Коломбо оказывал Камиллу в школе, обратилось мало-помалу в дружбу. Коломбо, человек вообще сосредоточенный и цельный, посвятил ему всю силу своих симпатий.
Встретил он своего любимца после разлуки, как родного брата, и так был рад ему, что забыл ради него о том расположении, которое выразил ему брат Доми ник.
Маленькую гостиную, в которой он обыкновенно принимал приходивших навестить его товарищей по школе, он обратил в спальню для Камилла.
Таким образом, кровати их разделяла только тонкая деревянная переборка, сквозь которую было все слышно.
Коломбо пошел было сначала к мебельщику кварта ла Сен-Жан, но не нашел у него ничего, кроме ореховой мебели, и, хотя сам спал на простой крашенной кровати, решил, что его аристократический друг должен спать на постели непременно черного дерева.
Мало-помалу удаляясь от квартала Сен-Жан и перейдя два рукава Сены, он очутился на улице Клэри.
Здесь он нашел все, что ему было нужно: кровать, бюро, диван и шесть стульев из черного дерева.
Стоило все это пятьсот франков.
Но так как в кармане у Коломбо была ровно полови на этих денег, ему пришлось остаться в долгу.
Чтобы застлать кровать, он положил на нее свои два тюфяка, две подушки и одеяло, а сам остался при одном пружинном матрасе, маленькой подушке и зимнем пальто вместо одеяла.
Возвращаясь домой, он спешил как на пожар, воображая, что Камилл ожидает его уже целый час.
К счастью, оказалось, что тот все еще не возвращался.
– Тем лучше! – подумал добряк, – он придет и за станет свою комнату уже готовой!
Камилл пришел домой только в одиннадцать часов вечера.
Коломбо с торжеством ввел его в комнату.
– Ух! – вскричал Камилл. – Мебель черного дерева! Милый мой, у нас ее употребляют только негры.
Сердце Коломбо болезненно сжалось в третий раз.
– Ну, да это все равно, – продолжал Камилл. – Ты ведь хотел сделать лучше. Дай я тебя поцелую. Спасибо тебе.
VII. История княгини де Ванвр
Первые дни совместной жизни друзей пришли в рассказах и воспоминаниях, в которых Камилл являлся то жертвой, то героем.
Все радости этой богато одаренной и эгоистичной натуры состояли в удовлетворении своих прихотей, все горести возникали из невозможности удовлетворить их.
Камилл много путешествовал – был в Греции, в Италии, на Востоке, в Америке, и беседа с ним могла бы доставить для любознательного Коломбо истинное наслаждение. Но Камилл путешествовал не как ученый или артист, и даже не как обыкновенный путешественник. Он бывал всюду как птица, и каждый новый ветер сдувал с его крыльев те пылинки, которые на них попадали в той стране, из которой он улетал.
Была только одна вещь, которая занимала его по всюду – красота женщины, которая ослепляла, поражала и увлекала его во всех странах. Камилл был человек скорее чувственный, чем впечатлительный; наслаждение скользило по его телу, не проникая до сердца. Он отдавался счастью, сладострастью и любви совершенно так, как другие люди принимают ванну. Он пользовался ими дольше или короче, смотря по тому, насколько они ему нравились.
Оказывалось, что он готов был отдать все огромные девственные леса, все озера, саванны и прерии, всю Грецию с ее руинами, весь Иерусалим со всеми его воспоминаниями, весь Нил с его тысячью городов за один поцелуй хорошенькой девушки, которая ему встречалась.
Напрасно силился Коломбо с упорством, доказывавшим только его собственную наивность, заставить Камилла говорить серьезно, с той пластичностью, которая свойственна рассказу очевидца. На минуту он покорялся, говорил красноречиво и поэтично, но переносило ли его воображение на берега Огайо или в великую низменность Нила, перед ним вставал образ краснокожей красавицы или черноокой гречанки, и серьезная сторона рассказа рассеивалась, как дым.
Однажды они разговорились о Греции, которая больше всего интересовала молодого бретонца. Коломбо вынужден был выслушать историю любви Камилла к одной девушке в Дарданеллах.
Наконец бретонец заговорил об Афинах и просил своего легкомысленного друга рассказать о том впечатлении, которое произвели на него древние развалины, со ставлявшие для них предмет поэтического восторга еще на школьной скамье.
– Ах, ты говоришь об Афинах? – спросил Камилл.
– Да, я хочу, чтобы ты сказал мне, какое они произвели на тебя впечатление.
– Впечатление? Да черт знает! Не знаю, что и сказать.
– Как не знаешь?
– Да так… Ну, видал ты Монмартр? Так и Афины стоят на такой же возвышенности с той только разницей, что ниже их расстилается Пирей.
Весь характер и весь склад ума Камилла сказался в одном этом описании Афин. К самым серьезным сторонам дела он относился с точно такой же небрежностью и легкомыслием. Но иногда у этого же странного человека оказывались неистощимые сокровища воспоминаний.
Однажды утром Коломбо, разыгрывавший при нем роль разума, сказал ему:
– Послушай, Камилл, ведь нельзя же жить, всю жизнь ничего не делая. Ну, веселись и наслаждайся, насколько выдержит здоровье, но ведь невозможно же сделать из этого цель жизни, потому что цель эта заключается в труде. Надо же приняться за какое-нибудь дело. Ведь работа даже увеличивает прелести наслаждения. Кроме того, и состояние твое вовсе не так велико, чтобы оно оказалось для тебя достаточным, когда ты женишься и обзаведешься семьей. Если же ты смолоду привыкнешь к праздности, то никогда не исправишься и никогда не будешь мил никому, потому что каждый час, в который ты ничего не сделаешь, увеличивает долю труда для остальных. Будь ты человек ограниченный, без воображения, я, может быть, даже не стал бы тебе говорить всего этого; но ты, наоборот, чрезвычайно талантлив. Чем ты можешь заняться? Этого я еще и сам не знаю, и мы можем обсудить это, когда вздумается; но я считаю тебя способным ко всякого рода деятельности, как научной, так и художественной. Ты можешь быть и хорошим адвокатом, и доктором, и даже композитором, по тому что у тебя есть несомненный талант к музыке. У меня сохранились вещи, которые ты писал в школе. С тех пор прошло пять лет, а они и теперь поражают меня свежестью и оригинальностью своих мотивов. Так, ради бога, избери себе какое-нибудь дело! Ну, изучай законы или медицину, сделайся ученым или артистом, но непременно сделайся кем-нибудь! Я не знаю, что тебе советовать, не знаю даже твоих теперешних вкусов, так как мы давно не видались; но, поверь мне, лучше делать даже дело, которое тебе не по душе, чем не делать ничего вовсе.
– Хорошо, я об этом подумаю, – сказал Камилл, которому, казалось, хотелось думать ровно столько же, как и повеситься.
– Если бы я был уверен, что я настолько же дорог для тебя, как ты для меня, то сказал бы тебе, что если ты не изберешь себе деятельности, то лишишься моей дружбы. Брат Доминик называет людей, которые ничего не делают, бесчестными, и он, по-моему, прав.
– Хорошо, хорошо! Дело будет выбрано и сделано! – сказал Камилл не то весело, не то серьезно. – Я уж и сам об этом думал, хотя ничего не говорил. Каждый вечер, когда я раздеваюсь, то непременно размышляю о том, почему мои подтяжки, которые я всегда надеваю по утрам очень аккуратно, к вечеру скручиваются, как веревки. Ты сам понимаешь, что усовершенствование производства подтяжек составляет дело очень серьезное и важное.
Коломбо вздохнул.
– Послушай, Коломбо, если ты так вздыхаешь из-за невинной шутки, то что же станешь ты делать при несчастии? Говорю тебе: завтра я записываюсь в школу правоведения, покупаю свод законов и приказываю переплести его в шагрень для того, чтобы он гармонировал с мебелью, которую ты мне завел.
– Ах, Камилл, Камилл! – вскричал Коломбо, покачивая головой. – Ты приводишь меня в отчаяние! Я просто теряю надежду, что ты когда-нибудь станешь серьезным человеком!
Камилл сообразил, что пора перевести разговор на другой предмет, а иначе он грозил сделаться серьезным, а значит, и скучным.
– Гм! – сказал он, – ты боишься, что я никогда не сделаюсь человеком, настоящим мужчиной? Ну, так могу тебя успокоить тем, что прачка твоя этого вовсе не опасается.
Коломбо взглянул на него с таким удивлением, с каким посмотрел бы на человека, который среди разговора вдруг перешел с ним на совершенно неизвестный ему язык.
– Моя прачка? – переспросил он почти испуганно.
– Да, голубчик, теперь нечего увертываться! – про должал Камилл. – Ты ведь не сказал мне о ней ничего! Так позвольте мне, господин доктор, господин ученый, господин Сен-Жером, сообщить вам, что я знаю, что у вас есть прачка, которой всего восемнадцать лет и которую за поразительную красоту прозвали княгиней де Ванвр и царицей Ми-Карем. И вдруг к вам приезжает старый друг со всей неистощимой жаждой жизни, которую он мог почерпнуть в могучих девственных лесах Америки, а вы нарушаете даже основное правило гостеприимства, скрывая от него ваши лучшие сокровища!
– Хочешь верь мне, хочешь – не верь, но я едва знаю в лицо мою прачку! – наивно вскричал Коломбо.
– Что? Ты едва знаешь ее в лицо?
– Клянусь тебе!
– Ну, стоит ли после этого бедной девочке иметь прелестнейшее личико, когда молодой двадцатипятилетний человек, на которого она работает целых три года, не обратит на нее не малейшего внимания?! Я нарочно спросил ее, сколько времени она на тебя стирает, и она ответила мне: «Три года».
– Очень может быть. Зачем же мне было бы менять прачку, если она стирает хорошо?
– Ну, а если она при этом хорошенькая?
– Видишь ли, есть женщины, красота или уродство которых меня вовсе не занимают.
– А! Понимаю вас, господин виконт де Пеноель! Ах ты, аристократ! Значит, Беранже со своей Лизеттой – сиволапый мужик, что-то вроде Камилла Розана! Кто такая была Лизетта, если не прачка Беранже? Положим, что у Беранже есть песня, в которой он говорит, что он неблагородный… Этим и объясняются и Лизетта, и Фретильон, и Сюзон… Но ведь мы – господин Коломбо виконт де Пеноель, черт возьми!
– Что делать, мой милый, но это так.
Камилл с комическим участием воздел руки к небу.
– Как! – вскричал он. – Творец в своей неисчерпаемой благости соединяет все прелести красоты в одном существе перед твоими глазами, а ты, язычник, воображаешь, что у тебя есть дела важнее созерцания этого совершенства! Но пойми же, что если бы покойный Рафаэль относился к Форнарине с таким же презрением, как ты к княгине де Ванвр, то у нас не было бы Сикстинской Мадонны! А кто такая была Форнарина!? Прачка, которая полоскала его белье в Тибре. Не пытайся и отрицать этого! Я сам расспрашивал о ней в гавани Рипетта.
– Ты с ума сошел! – ответил Коломбо, пожимая плечами.
– А можешь ты дать мне слово, что княгиня де Ванвр тебя не интересует?
– Клянусь тебе в этом честью дворянина.
– Значит, начать ухаживать за этой водяной нимфой не будет значить охотиться на твоих землях?
– Нет, и тысячу раз нет!
– Хорошо. В таком случае слушай внимательно. Я начинаю.
Первая встреча Гильома-Феликса-Камилла де Розана, креола из Луизианы, с ее высочеством Шант-Лиля, княгиней де Ванвр, прачкой вышеназванного княжества. Это было вчера… Если бы я был романистом, то сказал бы, что это случилось вскоре после ослепительно-яркого майского полудня; но при этом я солгал бы, потому что в то время шел дождь. Это тебе известно, потому что ты выходил и брал с собой зонтик. По этой же причине и в виду того, что извозчики встречаются в странах цивилизованных, а отсюда они отстоят весьма далеко, пока ты ходил в училище, я сидел дома. Но на это лишение я вовсе не жалуюсь, потому что в твое отсутствие к нам явилась прачка. Она была мокрая, точно ее облили тем вином, которое мы пивали в школе. Помнишь ты наши тогдашние кутежи?.. Да, так вот какая она была мокрая!.. Первое, что мне пришло в голову, когда я ее увидел, было то, что необходимо купить еще один зонтик… Разве я не философ?.. Потому что, – размышлял я, – в хорошую погоду зонтики никуда не годятся, а когда идет дождь и двое людей хотят идти каждый в свою сторону, то одного зонтика для двоих оказывается мало.
– Но это дело второстепенное…
– Итак, прачка явилась в твой ковчег, как белая голубка, с той только разницей, что не в конце, а в начале потопа, так что, увидев из окна, как воды, выражаясь языком библейским, «достигали высочайших мест», она очень охотно согласилась на мое предложение остаться и переждать.






