Могикане Парижа Дюма Александр
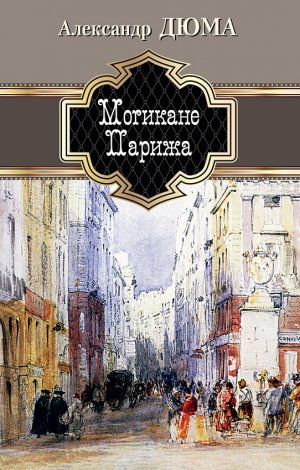
Мюллер отнесся к его заботе с полнейшим уважением и тотчас же пошел к мадам Корби. Он застал слепую матрону и ее слабую дочь за молитвой.
– Ну, вот, добродетельная мать и святая дочь, ваша молитва и исполнена, – проговорил он, входя. – Жюстен нашел место в тридцать шесть франков в месяц.
Обе женщины радостно вскрикнули.
Старик обстоятельно рассказал им все, что произошло.
Мать и дочь с истинно женской тонкостью поняли всю цену жертвы, которую приносил им Жюстен.
– Добрый, милый Жюстен! – повторяли они.
В их словах было столько нежности, что она граничила с жалостью.
– Да вы его не жалейте, – утешал их Мюллер, – он имеет там настоящий триумф. Просто великолепен! Он мне напомнил Вебера во времена его молодости.
После такой похвалы Мюллер не мог уже сказать ничего лучшего и, простившись с женщинами, вернулся в увеселительное заведение.
Вышли они оттуда с Жюстеном ровно в два часа ночи.
Калитка во двор была отперта, о чем позаботилась сестра Жюстена.
К концу месяца он сыграл в оркестре двенадцать раз и получил тридцать шесть франков.
На эти деньги можно было купить, по крайней мере, предметы первой необходимости.
Из всего этого достаточно видна вся честность и нежность Жюстена, так что для полноты изображения его нравственного облика нам остается только прибавить всего несколько штрихов.
Вообще очертить этот характер нетрудно. Весь он проявится в главе, которую Жан Робер назвал «Покорностью провидению».
Мы же скажем, что если бы эта, доведенная до крайности добродетель вздумала спуститься на землю и принять осязаемые формы, она едва ли нашла бы более подходящее олицетворение, чем личность Жюстена.
Проследить, что сталось с этим сердцем под влиянием горя и радости, и составляет одну из задач нашего обширного труда.
Устоит оно или разобьется?
То, что мы передаем здесь, – не рассказ о нескольких приключениях нескольких лиц, а правдивая история человеческого сердца, всегда заключающая в себе много назидательного, а потому уже стоящая труда и внимания.
Итак, перед вами человек совершенно чистый и целомудренный. До сих пор он жил, как птица небесная, отыскивая в полях и долинах зерна и крохи, которые заботливо относил в свое гнездо. До сих пор единственной заботой его было удовлетворение материальных потребностей жизни. Непомерным трудом и подчас ценою собственного здоровья ему удалось доставить своей несчастной семье если не благосостояние, то хотя бы возможность существовать.
Но что же сделал он за это время для самого себя?
Ничего!
Будь он один на свете, он, разумеется, сумел бы найти средства продолжить свое образование, достиг бы звания бакалавра, может быть, даже доктора, а теперь, вместо профессорской кафедры, он жил в чем-то вроде каземата, по рукам и по ногам скованный чувством сыновнего долга.
Разумеется, никто из нас, воспитанных матерью и наслаждавшихся ее ласками, не стал бы тяготиться своими обязанностями по отношению к сестре.
Но если случайно пострадавшая семья, не находя поддержки в обществе, обрушивается всей тяжестью своего существования на одного из своих членов и хоть непроизвольно, но придавливает его, к этому человеку поневоле относишься с сожалением.
Все несчастья Жюстена проистекали из-за его семьи, но для его благородного сердца не было мысли ужаснее, чем мысль о возможности потерять ее.
Следовательно, положение оказывалось безысходным.
Да Жюстен и не хотел изменять его. Ему хотелось жить завтра, как он прожил вчера. Он посвятил матери и сестре отрочество, юность и молодость, хотел посвятить им же и весь остаток жизни.
Но ведь когда-нибудь должно же было настать для него время, когда заговорит сердце, когда молодая любимая женщина внесет в мрачную пустыню его существования все очарования, радости и наслаждения жизни?
Да, но откуда было взяться этой женщине?
Он не мог себе купить Рахиль у Лавана даже ценой десятилетнего труда! У него не было даже знакомых. А для того, чтобы жениться, недостаточно смотреть сквозь окошко на молодые существа, называемые молодыми девушками. Да и кроме того, разве честный до щепетильности Жюстен посмел бы когда-нибудь жениться?
Он знал, что брак связывает не только руки, но и душу. А разве его душа и его руки принадлежали ему самому? Разве он имел возможность привести к очагу матери постороннюю женщину? Ведь ту нежность, которую он мог бы посвятить жене, пришлось бы отнять у матери и у сестры. Вот чем решался этот вопрос о сердечном союзе. А со стороны заработка и издержек он был еще сложнее. Молодая женщина, со своей потребностью жить, есть, пить, одеваться и веселиться, еще больше отяготит их и без того тяжелые дела.
Итак, брак был счастьем не его удела.
Ему суждено было жить с вечным самоотречением.
Жюстен так и поступал.
Может быть, ему предстояло умереть от непосильного труда. И эта мысль его не смущала и не угнетала.
Оставалось еще ждать неожиданного чуда от милости Божьей. Однако Бог до сих пор не баловал эту несчастную семью, и она была вправе без богохульства сомневаться в существовании таких чудес.
Тем не менее это была именно рука провидения, которая могла извлечь Жюстена из окружавшей его безысходной пропасти.
В один из лучших июньских дней он возвращался со стариком Мюллером с прогулки по Монружской до лине и вдруг увидел во ржи девочку лет девяти. Вокруг нее были разбросаны васильки и колокольчики, а сама она крепко спала.
В образе этого ребенка сам Бог послал одного из своих ангелов для спасения Жюстена.
XVII. Ниспосланная Богом
Ученик и учитель с удивлением остановились, отыскивая глазами кого-нибудь из старших, с кем могла прийти сюда эта девочка.
На ней было белое платье, перехваченное на поясе голубой лентой.
Белокурая головка ее сладко покоилась на блестящих стеблях расступившейся ржи, а опустившиеся над нею колосья и головки васильков образовали легкий, подвижный свод, так что она была похожа на голубку в гнезде.
Маленькие ножки, обутые в голубые башмачки, свесились на край канавы и лежали так бессильно, что по одному их виду можно было догадаться, что она заснула от сильного утомления.
Она казалась юной богиней жатвы, случайно заснув шей во время осмотра своих владений.
Жюстен и Мюллер были в восторге и готовы были бы простоять над нею всю ночь, но мысль о том, что становится уже сыро и что о ней кто-нибудь мучительно тревожится, заставила их отказаться от этого художественного наслаждения.
Но что за женщина была ее мать, если могла оставить такого нежного ребенка одного в поле и притом чуть не ночью?
Судя по ее положению и дыханию, нетрудно было догадаться, что она спит уже давно.
Мюллер и Жюстен, всегда останавливавшиеся во время своих прогулок при каждом оживленном споре, отошли и остановились и теперь и принялись рассуждать о весьма, в сущности, интересном вопросе: всегда ли красота наружная соответствует красоте нравственной?
Разговор этот тянулся около четверти часа, но за девочкой так никто и не приходил.
Но где же была ее мать?..
Уж не отдыхали ли ее родители тоже где-нибудь во ржи? Башмаки на девочке были так запылены, что не оставляли сомнения в том, что она пришла очень издалека.
Жюстен и Мюллер опять огляделись, потому что были уверены, что мать не может далеко уйти от этого ребенка.
Но и на этот раз поблизости не оказалось никого.
Они переглянулись и по общему молчаливому согласию осторожно вошли в рожь, стараясь не разбудить ребенка.
Исходив поле вдоль и поперек и обойдя его кругом, как охотники за дичью, они все-таки не нашли никого.
Оставалось только разбудить девочку и расспросить ее.
Она проснулась и с удивлением окинула из взглядом больших прекрасных синих глаз.
Но во взгляде этом не было и тени страха.
– Что ты тут делаешь, дитя? – спросил Мюллер.
– Отдыхаю, – ответила она.
– Как отдыхаешь? – с удивлением переспросил Жюстен.
– Так. Я очень устала… Не могла больше идти, прилегла вот здесь и заснула.
Странно, ребенок проснулся, увидел чужих и не стал звать матери.
– Так ты очень устала? – с участием спросил старик.
– Да, сударь, очень! – подтвердила она, встряхивая головою, чтобы оправить свои кудри.
– Значит, ты издалека? – спросил Жюстен.
– Очень издалека.
– А где твои родители?
– Родители? – спросила она, приподнимаясь и глядя на них с таким удивлением, будто ее спросили о вещи ей совершенно неизвестной.
– Да, родители? – повторил Жюстен ласково.
– У меня родителей нет, – сказала девочка так же просто, как если бы сказала: я не знаю, о чем это вы у меня спрашиваете!
Друзья печально переглянулись.
– Да как это может быть, чтобы у тебя родителей не было? – настаивал Мюллер. – Где твой отец?
– У меня отца нет.
– Ну, а мать?
– И матери тоже нет.
– Так у кого же ты жила?
– А у кормилицы.
– Где же она?
– В земле.
С этими словами девочка горько, но тихо заплакала.
У Жюстена и Мюллера тоже навернулись на глаза слезы.
Девочка стояла, словно ожидая дальнейших вопросов.
– Как же ты попала сюда совсем одна? – спросил Мюллер.
Она вытерла слезы руками и несколько успокоилась.
– Я иду с нашей стороны, – ответила она все еще дрожащим голосом.
– Это откуда?
– Из Буйля.
– Это возле Руана? – спросил Жюстен так радостно, будто встретил землячку.
Она действительно была истинным цветком с полей Бретани: бело-розовая, как молоденькая яблонька в цвету.
– Кто же привел тебя сюда?
– Я сама пришла.
– Пешком?
– Нет. До Парижа ехала в карете.
– То есть, как это – до Парижа?
– Ну, да, до Парижа, а оттуда сюда пешком.
– Куда же ты шла?
– В предместье Святого Якова.
– Тебе туда зачем?
– Наш кюре велел мне отнести письмо к брату моей покойной кормилицы.
– Это, наверно, чтобы он взял тебя к себе?
– Да, сударь, чтобы взял.
– Да как же ты сюда-то попала?
– Там пассажиры говорили, что дилижанс опоздал, – они все и заночевали в предместье, а я увидела заставу и подумала, что за нею поля, что там хорошо, и пошла, да и зашла сюда.
– Значит, ты хотела переночевать здесь, а утром от нести письмо?
– Да, сударь. Только спать-то я не собиралась, думала, так посижу… Да перед этим я в дороге две ночи не спала. Я очень устала, а как присела, – вижу и лечь ужасно хочется, – а как легла, так сразу и заснула.
– Разве ты не боишься в поле, ночью, одна?
– Да чего тут бояться? – спросила девочка с уверенностью, свойственной детям и слепым, не видящим угрожающей опасности.
– Ну, а разве ты сырости и холоду не боишься? – спросил Мюллер, удивляясь простоте и прямоте ее ответов.
– Чего их бояться? Ведь ночуют и птицы, и звери в поле и в лесу. Ну, и мне ничего.
Эта душевная чистота и такое полнейшее одиночество ребенка глубоко взволновали обоих друзей.
Казалось, сам Бог поставил эту девочку на пути Жюстена, чтобы показать ему, что под звездным сводом есть существа еще более одинокие, чем он.
Даже не советуясь между собою, они заранее ре шили, что делать, и оба в один голос предложили девочке взять ее с собой.
Но она вдруг отказалась.
– Покорно вас благодарю, господа, – сказала она, – ведь мое письмо не к вам писано.
– Это все равно! – сказал Жюстен. – Пойдем к нам только переночевать, а завтра, как только захотите, так и пойдете к брату вашей кормилицы.
Говоря это, он подал ей руку, чтобы помочь перепрыгнуть через канаву.
Но девочка опять отказалась и, поглядывая на луну, сказала:
– Теперь почти что полночь. Часа через три рассветает. Не стоит вам из-за меня и беспокоиться.
– Уверяю вас, что вы нас ничуть не обеспокоите! – вскричал Жюстен, продолжая держать перед нею руку.
– Да и подумай только, – подхватил Мюллер, – ведь если здесь пройдут жандармы, они непременно арестуют тебя!
– Да за что им арестовывать-то меня? – возразила девочка с неподкупной логикой ребенка, которая часто озадачивает самых искусных юристов. – Я ведь никому ничего худого не сделала.
– Вас арестуют потому, что если найдут в поле одну, то подумают, что вы бродяга, – сказал Жюстен. – Пойдемте лучше с нами.
Но приглашение это оказалось излишним. Услышав слово «бродяга», девочка сама, без посторонней помощи, перескочила через канаву и с испуганным видом, молящим голосом пролепетала:
– Возьмите, возьмите меня с собой, добрые господа!
– Разумеется, разумеется, возьмем, – поспешил ее успокоить Мюллер.
– Вот так-то лучше! – обрадовался Жюстен. – Я отведу вас к моей матери и сестре. Они все очень добрые… Дадут вам поужинать, обогреют, вымоют и уложат спать. Вы, может быть, давно уже ничего не ели?
– Да, с утра ничего.
– Ах ты, бедный ребенок! – с ужасом и сочувствием вскричал старик, который с математической точностью ел по четыре раза в день.
Девочка не поняла этого восклицания, в котором были слиты и эгоизм, и сострадание. Ей показалось, что оно было обвинением против кюре за то, что он посадил ее в дилижанс и не позаботился о ее пропитании, и она тотчас же поспешила оправдать его.
– В этом я сама виновата, – проговорила она. – У меня был и хлеб, и вишни, только скучно было и есть не хотелось! Вот, посмотрите, – продолжала она, доставая из ржи корзинку с несколькими слежавшимися вишнями и ломтем зачерствелого хлеба, – у меня и провизия есть.
– Вы так устали, что дальше идти, верно, не можете, – сказал Жюстен. – Хотите, я вас понесу.
– Ах, нет, не надо! – вскричала девочка. – Мне нипочем отмахать еще добрую милю.
Но друзья не поверили этому, переплели руки, посадили ее на них, а она обняла их за шеи. Они подняли ее до высоты своих поясов и понесли на этих носилках из человеческих костей и мускулов.
Но в тот момент, когда они уже хотели двинуться вперед, девочка вдруг воскликнула:
– Ах ты, Господи! Да я никак совсем с ума сошла!
– А что случилось, дитя? – спросил Мюллер.
– Я забыла письмо!
– Да где ж оно?
– Там, в узелке.
– А где узелок?
– Во ржи, там, где я спала. Возле моего венка из васильков.
Она соскочила с их рук, перепрыгнула через канаву, подхватила свой узелок и с поразительной ловкостью снова очутилась на своих живых носилках. Друзья тотчас двинулись к заставе, которая виднелась всего шагах в трехстах от того места, где они ее нашли.
Девочка положила свой узелок так, что он мешал старому Мюллеру дышать.
Он посоветовал ей пристегнуть его к пуговице его сюртука.
Таким образом, у нее остались только корзина с вишнями и венок из васильков, который она сплела, чтобы не заснуть до рассвета.
По всей вероятности, она сохраняла его инстинктивно, как последнее воспоминание о первых часах одиночества, которые пережила на земле.
Так, по крайней мере, понял ее Жюстен; потому что когда она заметила, что венок трет щеку молодого человека, и, вопросительно взглянув на своих спутников, хотела его бросить, он взял его губами и надел ей на голову.
В таком виде она была поистине прелестна! Черные сюртуки Жюстена и Мюллера представляли чрезвычайно эффектный фон для ее белого платья и ангельского личика. Лоб ее, освещенный луною, казался челом небесного существа.
Она сидела, точно юная друидская жрица, которую торжественно несли к священному лесу.
На время смолкший разговор завязался снова. Жюстену чрезвычайно нравились звуки чистого голоса этой девочки.
– А чем занимается брат вашей кормилицы? – спросил он.
– Он колесный мастер, – ответила она.
– Колесный мастер? – переспросил он таким тоном, будто предвидел какое-то несчастье.
– Да, в предместье Святого Якова.
– Я знаю там только одного, в доме № 111.
– Кажется, это он и есть.
Жюстен замолчал. Около года тому назад заведение колесного мастера в доме № 111 внезапно закрылось, а вскоре на том месте появился слесарь. Но Жюстену не хотелось говорить об этом теперь, чтобы не огорчить ребенка прежде, чем он не разузнает о сути дела сам.
– Ах, да, да, – говорила между тем девочка, – теперь я все вспомнила. Это он самый и есть. Я несколько раз перечитывала адрес. Мне даже говорили, чтобы я выучила наизусть, на случай, что потеряю письмо.
– Значит, вы помните, кому оно было адресовано?
– Известно помню!.. Господину Дюрье… Так и на конверте написано.
Друзья опять переглянулись, но промолчали.
Девочка подумала, что они сомневаются в ее словах, и гордо прибавила:
– Я ведь давно умею читать!
– Я в этом и не сомневаюсь! – очень серьезно объявил Мюллер.
– А что вы собираетесь делать у брата вашей кормилицы? – спросил Жюстен.
– Что же, как не работать?
– А что вы умеете делать?
– Да что скажут. Я ведь много чего умею.
– Что именно, например?
– Шить, гладить, стирать, вышивать, штопать, отделывать чепчики, плести кружева.
Чем больше они ее расспрашивали, тем больше она им нравилась.
Скоро они знали всю ее историю.
В одну из ночей 1812 года в Буйль въехала карета и остановилась у одного из уединенных домов на краю деревни.
Из нее вышел человек и захватил с собою какой-то сверток, весьма неопределенной формы.
Подойдя к двери уединенного домика, он достал из кармана ключ, отомкнул ее, пробрался впотьмах в комнату, положил сверток на постель, а какое-то письмо и кошелек на стол, снова вышел, замкнул дверь, сел в карету, и она покатилась дальше.
Час спустя, женщина, возвращаясь с рынка в Руане, остановилась перед тем же самым домом, достала ключ из кармана и отомкнула дверь. К ее великому удивлению, изнутри комнаты послышался крик ребенка.
Она поспешно зажгла лампу и увидела, что на постели с плачем барахтается что-то белое.
Это нечто белое оказалось маленькой девочкой.
Женщина с еще большим удивлением оглянулась вокруг и увидела на столе письмо и кошелек.
Она распечатала письмо и с великим трудом, так как дело было для нее непривычное, прочла следующее:
«Мадам Буавен, Вас все знают как добрую и честную женщину, и эта почтенная репутация Ваша побуждает отца, готовящегося покинуть Францию, поручить Вам воспитание своей дочери.
В предлагаемом кошельке Вы найдете тысячу двести франков. Эта плата за первый год содержания девочки. Начиная с 18 октября будущего года, через посредство кюре деревни Буйль Вы станете получать по сто франков ежемесячно. Эти сто франков будут доставляться Вам через один из банкирских домов в Руане, и сам кюре, который станет получать их оттуда, не будет знать, от кого они.
Дайте этому ребенку самое лучшее воспитание, какое сумеете, в особенности постарайтесь сделать из девочки хорошую хозяйку. Одному Богу известно, каким испытаниям придется ей подвергаться.
Крещена она именем Мина и никогда не должна называться иначе, чем я сам назвал ее.
28-е октября 1812 года».
Чтобы хорошенько понять смысл этого несложного письма, мадам Буавен прочла его ровно три раза. Потом, разобрав, в чем дело, она положила его в карман, взяла кошелек и ребенка и пошла к кюре посоветоваться.
Ответ священника можно было предвидеть заранее. Он сказал ей, что она обязана принять ребенка, которого ей так неожиданно посылает сам Бог, и всю жизнь заботиться о том, чтобы дать ему самое лучшее воспитание.
Мадам Буавен возвратилась домой с ребенком, письмом и кошельком.
Ребенка положила в чистую колыбельку своего сына, который умер десять лет тому назад, письмо спрятала в портфель, в котором лежал послужной список ее мужа, бывшего сержантом старой гвардии, участника похода в Россию, а тысячу двести франков положила в тайник, в котором хранила все свои сокровища.
О сержанте Буавене не было ни слуху ни духу.
Жене его никогда не удалось узнать, был ли он убит, попал ли он в плен или погиб от мороза.
В течение семи лет плата за девочку шла исправно, но затем она вдруг прекратилась, что не помешало доброй женщине любить Мину по-прежнему, потому что она при вязалась к ней, как к родной дочери.
Восемь дней тому назад мадам Буавен скончалась, а перед смертью просила кюре отправить девочку к своему брату, колесному мастеру, с которым не виделась очень давно, но за честность которого могла поручиться.
Брата этого звали Дюрье, и жил он в нижнем этаже дома № 111, в предместье Святого Якова.
Все это девочка рассказала своим покровителям, прежде чем они успели дойти до квартиры Жюстена.
Если молодой человек иногда поздно возвращался домой, то его всегда дожидалась сестра.
На этот раз Селеста, по обыкновению, ждала его, не ложась спать. При звуках его шагов она отперла дверь и услышала, что он окликнул ее по имени.
Она побежала к нему и первое, что она увидела, была Мина. Ее так поразила красота девочки, что она принялась целовать ее, даже не спрашивая, откуда ее взяли. Потом она подхватила ее на руки и понесла в комнату матери.






