Могикане Парижа Дюма Александр
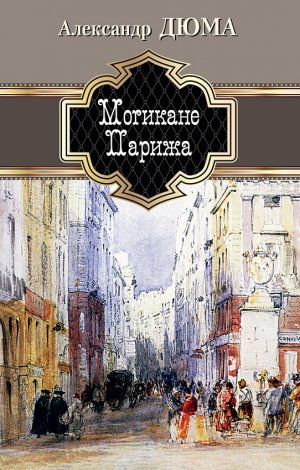
Часть I
I. Автор поднимает занавес над сценой, на которой будет происходить действие
Если читатель захочет возвратиться вместе со мной во времена моей молодости, ровно на двадцать пять лет тому назад, то мы окажемся с ним в 1827 году, и он сможет узнать, что представлял собой Париж физически и нравственно в последние годы Реставрации.
Начнем с наружного вида современного Вавилона.
С востока, юга и запада город выглядел в 1827 году так же, как и теперь. Его левобережная часть была тоже неизменна и скорее вымирала, чем заселялась, так как вопреки путям цивилизации, направляющейся с востока на запад, Париж возрастает с юга на север, – Монтруж поглощает Монмартр. Капитальные строительные работы, проведенные с 1827 по 1854 г. на левом берегу, были не столь значительны: площадь и фонтан Кювье, улица Гюи-Лабросс, улица Жюссье, улица Политехнической школы, улица Бонапарта, вокзал Орлеанской железной дороги, вокзал Менской заставы и, наконец, церковь Св. Клотильды, высящаяся на площади Белль Шасс, дворец Государственного совета на набережной Орсе и здание министерства иностранных дел на набережной Инвалидов.
Совершенно иначе шло дело на правом берегу, т. е. в пространстве между Аустерлицким и Иенским мостами, у подножия Монмартра. В 1827 году Париж простирался, собственно говоря, только до Бастилии, так что всего бульвара Бомарше еще не существовало; на севе ре он доходил до улиц Тур д’Овернь и Тур-де-Дам, а на западе – до бойни Руль и аллеи де-Вев.
Но о квартале Сент-Антуанского предместья, идущего от площади Бастилии до заставы Трона, о квартале Попенкур, идущем от Сент-Антуанского предместья до улицы Мениль-Монтан, о предместье Сен-Мартен, о кварталах Лафайет, Бреда, Тиволи, Европейской площади, Божон, об улицах Милан, Мадрид, Шанталь, Бурсо, Лаваль, Лондон, Амстердам, Константинополь, Берлин и т. д., и т. д. – не было тогда еще и помину. Волшебный жезл богини, называемой Индустрией, точно из-под земли, вызывал улицы, кварталы, скверы, предместья, которые обратились как бы в почетную свиту князей торговли, называемых железными дорогами: Лионской, Брюссельской, Страсбургской и Гаврской.
Окинув взором тогдашний Париж с его физической стороны, взглянем теперь на нравственную.
На престоле уже два года сидел Карл X. В совете уже пять лет председательствовал де Виллель; Делаво уже три года как сменил Англе, сильно скомпрометированного в деле Мобрелль.
Король Карл X был человек добрый, религиозный, со слабым сердцем и честный. Вокруг него спокойно развивались две партии, которым предстояло, желая под держать, довести его до падения. То были партия ультра и партия-претр.
Де Виллель был скорее человеком коммерческим, чем политическим, и прекрасно распоряжался только общественными капиталами и ничем больше. Но сам по себе он был безукоризненно честен и, несколько лет имея дело с миллиардами, вышел в отставку таким же бедняком, каким и поступил на свое важное место.
Делаво был человек ничтожный, вполне преданный не самому королю, но партиям, которые вокруг него волновались. От подчиненных своих он требовал больше всего какой-то внешней набожности и даже в мушары при нем нельзя было поступить, не представив свидетельства о том, что был на исповеди, по крайней мере, недели за две перед тем.
Двор был печален, и единственным источником веселости являлись в нем молодость, утонченные вкусы и потребность в развлечениях герцогини Беррийской.
Аристократия делилась на партии и жила тревожно. Одна часть ее держалась умеренно-либеральных воззрений Людовика XVII и была того мнения, что вся прочность и спокойствие будущего должны основываться на разделении власти между тремя главными силами страны: между королем, палатой пэров и палатой народных представителей. Другая же часть сильно отодвигала надзор и силилась связать 1827 год с 1788-м, отрицала революцию, отрицала Наполеона и находила, что не нуждается ни в каких иных опорах, кроме тех, которыми пользовались ее предок Людовик IX и его потомок Людовик XIV, т. е. правами милостью Божьей.
Буржуазия была тем же, чем она бывает всегда. Она любила порядок и мир, желала перемен и в то же время боялась, что они произойдут, выступала против национальной гвардии и тягости этой повинности, а в 1828 году, когда она была уничтожена, пришла от этого в бешенство. Вообще, она следовала за генералом Фуа, брала сторону и Григория, и Мануила, подписывалась под изданиями Туке и миллионами раскупала табакерки с хартией.
Народ составлял явную оппозицию, хотя и не зная несомненно, что лучше – бонапартизм или республиканство. Он знал только, что Бурбоны, возвратясь во Францию, заполонили ее англичанами, австрийцами и казаками. Ненавидя англичан, австрийцев и казаков, он, естественно, ненавидел и Бурбонов и только выжидал удобного случая от них отделаться. Каждый новый заговор он встречал с восторгом и криками одобрения. Дидье, Бертон, Карре были, по его мнению, мучениками, а четыре Рошельских сержанта – богами.
После краткого обозрения трех ступеней обществен ной лестницы – аристократии, буржуазии и народа, – заглянем теперь на дно общества, едва освещенного тусклыми фонарями улицы Иерусалима.
Стоял вторник Масленицы 1827 года.
Маскарадов не бывало уже два года. Все экипажи, в два ряда тянувшиеся вдоль бульваров и нагруженные участниками карнавала в костюмах базарных торговок и шутов, которые приостанавливались и перекликались при каждой встрече, принадлежали частным лицам.
Некоторые из этих потешных колесниц составляли собственность премилого молодого человека, по фамилии Лобаттио, которому года через два-три предстояло ехать умирать от чахотки в Пизе. Но в 1827 году он был в Париже и делал все на свете, чтобы толпа знала и помнила, что этот огромный маскарад с трубачами, всадниками и экипажами принадлежит именно ему. Но толпа и на этот раз была толпой, – не хотела знать его имени и упорно продолжала думать, что обязана всей этой веселой забавой лорду Сеймуру.
Самыми модными кабаками в то время были Ла-Куртиль, Денуайе, залы Флоры и Тоннелье у заставы Мен.
Танцевальных залов было тоже не мало. Больше всего отличался Шомьер, содержавшийся Лагиром. В нем танцевали два ныне уже исчезнувших типа – студенты и гризетки. Заменившие их артуры и лоретки были в то время еще неизвестны. За Шомьер следовали зал Прадо, сиявший своими огнями против Пале-де-Жостис, Колизей, весело шумевший позади Шато д’О, Порт-Сен-Мартен и Франкони, в которых наравне с Оперой бывали маскарады.
Разумеется, что об Опере мы упоминаем лишь для памяти, так как в Опере не танцевали, а дамы в домино и кавалеры в черном только прохаживались и вели между собой более или менее интересные разговоры.
В залах же Денуайе, Флоры, Соваж, Тоннелье, Шомьер, Прадо, Колизея, Порт-Сен-Мартен и Франко ни, хотя тоже не танцевали, но шахютировали.
Этот «шахю» представлял безобразную пляску, бывшую по сравнению с канканом тем же, что махорка по сравнению с гаванской сигарой.
Еще ниже всех этих перечисленных мест, объединивших в себе все степени увеселения, начиная с театра и кончая кабаком, были заведения, называвшиеся в то время в Париже «тапи-франками».
Их существовало семь: в Ситэ на улице Старых Занавесок находилась «Черная кошка», против гимназии – «Белый кролик», на улице Бонди – «Семь билли ардов», на улице Сент-Оноре, против Сиветт, – «Отель д’Англетер», на Железной улице – «Поль Нике», на той же улице – «Баратт». Наконец, на углу улиц Обри-де-Буше и Сен-Дени размещался «Бордье».
Два из них имели свои особенности.
В «Черной кошке» собирались замочники, а в «Белом кролике» – извозчики.
Не станем утомлять читателя выражениями, созданными обитателями Биссетра и Консьержери, и поспешим объяснить те из них, которые были употреблены нами в силу необходимости.
Постараемся с самого начала отделаться от этих выражений и дадим им самые обстоятельные объяснения.
«Замочниками» называются воры, работающие с по мощью подбираемых ключей.
«Карманники» вытаскивают из карманов кошельки и носовые платки.
«Меняльщики» входят в лавки менял под видом нумизматов и под тем предлогом, что отыскивают монеты с изображением известных государей, чеканки такого-то года, искусно запихивают себе за обшлага еще штук пятьдесят.
«Давильщиками» назывались те воры, которые набрасывали на шею своей жертвы платок или веревочную петлю, придавливали ее и поддерживали на своих плечах, пока практиковавшие вместе с ними «очищатели» обыски вали ее карманы.
Наконец, «потемщики» воровали по ночам, залезая в окна с помощью веревочных лестниц.
Остальные пять «тапи-франков» были просто притона ми воров всех сортов и специальностей.
Для надзора за всеми этими каторжниками, мошенниками, ворами и девками существовало только шесть инспекторов и один офицер на каждый округ; современные же постовые полицейские были заведены там только Бельвейлем в 1828 году.
Все задержанные этим полицейским персоналом от водились в зал Сен-Мартен и там, получив комнату, платили по шестнадцать су за первую ночь, а за остальные – всего лишь по десяти.
Отсюда по истечении законного срока мужчин препровождали в Ла-Форс или в Биссетр, девиц сомнительного поведения – в Маделонетт на улице Тампль, а во ровок – в Сен-Лазар, в предместье Сен-Дени.
Казни производились на Гревской площади.
«Мосье де-Пари» жил на улице Маре, дом № 43.
Само собой разумеется, что теперь читатель вправе спросить:
– Если полиция так хорошо знала, где жили и пьянствовали воры и мошенники, то почему же она не хватала их?
Но полиция может арестовать преступников только с поличным. Закон высказывается в этом отношении очень ясно, и все воры отлично знают это.
Если бы полиции дано было право действовать иначе, то есть хватать мошенников и не на самом месте преступления, и без неопровержимых улик, так как она обыкновенно знает их всех наперечет, то, вероятно, в несколько дней совершенно очистила бы от них город или, по крайней мере, их осталось бы так мало, что обыватели почти не страдали бы от их зловредной деятельности.
В настоящее время этих «тапи-франков» больше уже не существует. Одни из них исчезли во время сноса домов при реконструкции Парижа, другие закрылись и угасли сами собою.
«Бордье» существовал дольше всех остальных; тапи-франк преобразился в красивую бакалейную лавку, в которой продают сушеные фрукты, варенье, ликеры и где нет и помину о той омерзительной грязи, в которую нам предстоит ввести читателя, перенося его в 1827 год.
II. Джентльмены рынка
Мы уже упоминали о том, что первые страницы нашего рассказа относятся ко вторнику Масленицы 1827 года.
Этот день народного веселья клонился уже к самому концу, наступала полночь.
Трое молодых людей, держась под руки, шли вниз по улице Сен-Дени. Двое из них напевали самые популярные места из кадрили, которую только что слышали в Колизее, где провели начало ночи, а третий задумчиво грыз золотой набалдашник своей трости.
Двое распевавших были костюмированы в одежды шутов.
Третий, который не пел, был старше, серьезнее и на целую голову выше своих товарищей и кутался в плащ-накидку с бархатным воротником.
Он возвращался с артистического вечера, который проходил на улице Сент-Апполен.
Под плащом на нем были короткие и узкие пантало ны, плотно обтягивавшие стройные и тонкие ноги, ажурные шелковые чулки и глянцевитые башмаки. Фрак его был застегнут по-военному, на все пуговицы, так что только через верхний и нижний разрезы виднелся белый пикейный жилет. На шее у него был свободный черный шелковый галстук, а на голове, кудрявой от природы – низенькая шляпа, которую, входя в зал, клали под мышку, а выходя на улицу, натягивали до самых ушей.
Если бы кто-нибудь из редких прохожих на улице Сен-Дени мог бы приподнять плащ молодого человека, то он тотчас же признал бы, что эти узкие панталоны, так плотно облегавшие ноги, красивый фрак и жилет из английского пике с золотыми резными пуговицами из мастерской одного из известнейших портных на бульваре Ган и были заказаны одним из тех щеголей, которых тогда называли «дэнди», а теперь обозначают несколько устаревшим названием «львы».
Тем не менее, человек, одетый с таким изяществом, видимо, нимало не претендовал на прозвание «щеголя». И действительно, с одного внимательного взгляда на него можно было убедиться, что он не принадлежал к разряду людей светских. В движениях его было слишком много свободы в сравнении с манерами манекенов, которые держатся в вечном рабстве у складок своего галстука или все повороты головы приурочивают к покрою своего воротничка. Только что выйдя из бального зала, он поспешил снять перчатки, которые надоели ему, и при этом на указательном пальце его руки блеснул большой перстень, какие в старину употребляли вместо печати, для чего вырезали на них какой-нибудь девиз, соответствующий личному вкусу, или герб своей фамилии.
Два других молодых человека составляли с этой байроновской фигурой резкую противоположность. На них были куртки из белого плюша с малиновыми воротниками, полосатые, белые с синим панталоны, белые шелковые чулки с золотыми стрелками и башмаки с бриллиантовыми пряжками. На плечах развевались плащи: на одном из желтого, на другом из красного кашемира, а вокруг косматых войлочных шляп вились гирлянды из белых и розовых камелий, из которых каждая в такое время года стоила у тогдашних молодых цветочниц, мадам Байон или мадам Прево, по крайней мере, по одному золотому экю. Со свежим румянцем молодости, с веселым блеском глаз и беззаботностью они казались олицетворениями истинно французского веселья.
Но что же свело этих троих, столь разных между собой людей, и куда шли они в такой поздний час по одной из пятидесяти грязных улиц, прорезавших Париж от буль вара Сен-Дени до Гревской набережной?
Этот вопрос объяснялся очень просто. Двое покинувших маскарад не нашли экипажа у подъезда Колизея, а с молодым человеком в темном плаще случилось то же самое на улице Сент-Апполен.
Два участника маскарада, уже достаточно разгоряченные пуншем и бишофом, решились зайти поужинать устрицами.
Молодой человек в темном плаще, удержавшийся в пределах благоразумия, благодаря нескольким стаканам оршада и смородинового сиропа, шел домой на Университетскую улицу.
Случайно они столкнулись на углу улиц Сент-Апполен и Сен-Дени. Молодые модники тотчас же узнали друга, который, вероятно, никак не узнал бы их в таких костюмах.
– Жан Робер! – крикнули они в один голос.
– Людовик! Петрюс! – ответил им молодой человек в темном плаще.
В 1827 году не говорили Луи или Пьер, а непременно Людовик или Петрюс.
Все трое радостно пожали руки, расспрашивая друг друга, что свело их на брусчатой мостовой в такой не урочный час.
Обе стороны обменялись объяснениями.
После этого художник Петрюс и медик Людовик стали так усердно настаивать, что убедили поэта Жана Робера идти с ними к Бордье есть устрицы.
Все трое шагали так быстро и твердо, что, казалось, не было ни малейшего сомнения в том, что решение было принято бесповоротно, однако, не доходя шагов двадцати до Батавского двора, Жан Робер остановился.
– Так решено? – спросил он. – Мы будем ужинать… А у кого?
– У Бордье.
– Ну, хорошо… хоть у Бордье.
– Разумеется, решено! – в один голос подхватили Людовик и Петрюс. – Что за вопрос?
– Вопрос очень основательный! – возразил Жан Робер. – Когда человек задумал сделать глупость, то для него всегда есть время остановиться.
– Глупость? Да какая же тут глупость?
– А такая, что вместо того, чтобы идти спокойно поужинать у братьев-провансальцев или Вери, или у Филиппа, вы придумали провести ночь в грязном кабаке, где нам дадут сандаловой настойки вместо бордоского и жареную кошку вместо кролика.
– Да что у тебя сегодня за ненависть к сандалу и кошкам, поэт? – спросил Людовик.
– Дело в том, мой милый, что Жан Робер только что имел большой успех во французском театре, – сказал Петрюс. – Он получает теперь по пятьсот франков каждый день, все его карманы набиты золотом, и он становится теперь аристократом.
– Уж не скажете ли вы, что собрались идти в кабак из экономии?
– Нет, – ответил Людовик, – а просто потому, что человеку следует знать и испытать всего понемножку.
– Пха! Какое мудрое изречение! – вскричал Жан Робер.
– Объявляю, что оделся в этот дурацкий костюм, в котором я точно мельник, только затем, чтобы поужинать сегодня вечером на рынке! – сказал Людовик. – Теперь я в ста шагах от моей цели и буду ужинать здесь или нигде.
– А! – вскричал Петрюс. – Ты говоришь теперь как истинный живодер! Больница и анатомический театр приучили тебя к самым ужасным зрелищам. Ты материалист и философ и закален против всяких неожиданностей. А я художник, и мне не всегда доводилось пить сандаловую настойку и есть жареных кошек. Я посещал больных обоего пола, которые были совершенные трупы, а если и отличались от них, то только тем, что еще имели души. Я входил в клетки львов и спускался в берлоги к медведям, когда у меня не было трех франков, чтобы заставить подняться к себе отца Сатурнина или мадемуазель Родину Белокурую, – я, слава богу, не взыскателен! Но вот этот чувствительный поэт, этот наследник Байрона и продолжатель Гёте, этот юноша по имени Жан Робер, какой вид будет он иметь среди ужасов, в которые мы его ведем? Разве со своими маленькими ручками, ножками и со своим прелестным креольским акцентом он может иметь хотя бы малейшее представление о том, как следует вести себя в обществе, которому мы собираемся его представить? Разве он, никогда не умевший во время своей службы в национальной гвардии ступить левой ногой вперед, разве он какой-нибудь тапи-франк? Разве нежные уши его, привыкшие к благородным звукам «Молодого больного» Мильвуа и «Молодой узницы» Андре Шенье, способны слушать свободные остроты, которыми обмениваются джентльмены ночи, посещающие такие заведения? Нет! Разумеется, нет! В таком случае, что же станет он делать среди нас? Мы не знаем его! Что это за незнакомец, который станет принимать участие в наших пирушках? Vade retro, Жан Робер!
– Милейший Петрюс, – ответил молодой человек, ставший предметом спора, тон и красноречие которого, бывшие в ходу у тогдашней молодежи, мы постарались сохранить, – ты пьян только наполовину, но гасконец – до мозга костей!
– А! Отлично! Я родом из Сен-Ло! Значит, если в Сен-Ло есть гасконцы, то нормандцы есть в Тарбе!
– Хорошо, пусть и ты будешь гасконцем из Сен-Ло! Ведь ты хвастаешься пороками, которых в тебе нет, чтобы скрыть добродетели, которые у тебя есть. Ты представляешься кутилой, чтобы не казаться наивным; ты прикидываешься повесой и бездельником потому, что тебе стыдно быть добродетельным. Ты никогда не входил в клетку ко львам и никогда не лазал в берлоги к медведям, как не бывал и в кабаках на рынке; точно так же, как и Людовик, и я, и все уважающие себя молодые люди, и даже все ремесленники, серьезно и честно занимающиеся своим делом.
– Аминь! – закончил Петрюс, зевая.
– Зевай, насмехайся, сколько тебе угодно, изображай всевозможные пороки, чтобы поразить сограждан, так как ты слышал, что все великие люди имели свои пороки, что Андреа дель Сарто был вор, а Рембрандт – обжора; ломай из себя буржуа, потому что ломаться и позировать в твоей натуре; но перед нами, людьми, которые тебя знают и знают как человека хорошего, да передо мною, который любит тебя как брата младшего, – оставайся тем, что ты есть на самом деле, – оставайся добрым, наивным, откровенным и увлекающимся Петрюсом. Слушай, милый, если когда-нибудь позволительно отуманивать себя развратом, – хотя, по-моему, это никогда не позволительно, то для этого надо быть изгнанным, как Данте, непризнанным, как Макиавелли, или отверженным, как Байрон. А был ли ты, юноша, хотя бы в одном из этих положений? Вправе ли ты смотреть на жизнь мрачно? Таяли ли в твоих руках миллионы, оставляя после себя единственным следом людскую наблюдательность и разочарование? Ты молод, картины твои покупаются, твоя любовница тебя любит, правительство заказало тебе «Смерть Сократа», – не подлежит сомнению, что я буду позировать в роли Алкивиада, а Людовик в роли Федона… Какого же черта хочешь ты еще?.. Поужинать в тапи-франке? Поужинаем, мой милый! Это будет, по крайней мере, дело с результатом, – эти кабаки покажутся тебе до того отвратительными, что ты на всю жизнь не захочешь больше заглядывать в них.
– Кончил ты проповедь, человек в черном одеянии? – спросил Петрюс.
– Да, почти кончил.
– Ну, так пойдем дальше.
Юноша быстро зашагал вперед, напевая полувакхическую, полуциничную песню и, видимо, стараясь убедить самого себя, что дружеский урок, который преподнес ему Жан Робер, не произвел на него ни малейшего впечатления.
Когда он допевал последний куплет, они были уже среди рынка. На башне церкви св. Евстахия пробило полночь.
– А! – вскричал Людовик, который вообще мало принимал участия в разговорах друзей и покорно шел туда, куда его вели, держась того мнения, что куда бы ни попал человек, он всюду найдет материал для наблюдения и размышления. – Теперь нужно выбрать! Куда мы пойдем: к Полю Нике, к Барату или к Бордье?
– Мне рекомендовали Бордье! Пойдем к Бордье! – сказал Петрюс.
– Хорошо! К Бордье так к Бордье! – согласился Жан Робер.
– Но, может быть, тебя тянет в какое-нибудь другое место, добродетельный питомец муз?
– О, для меня это решительно все равно. Ведь ты знаешь, что я даже не бывал никогда во всем этом квартале. Покормят нас здесь повсюду скверно, так не все ли мне равно, где именно.
– Ну, так вот мы и у пристани! Что, как тебе кажется, достаточно ли подслеповат этот кабак?
– Не то что подслеповат, а даже и совсем слепой.
– Тем лучше! Итак, идем.
Петрюс ловко нахлобучил свою шутовскую шапку на ухо и вошел в кабак с развязностью почтенного завсегдатая.
Друзья молча переступили за ним порог.
III. Тапи-франк
Кабак был буквально битком набит народом.
Нижний этаж, который едва ли можно было бы узнать, глядя на красивый магазин, заменивший его ныне, – состоял из низкого, закопченного зала, наполненного запахом сырости, водки и плохой кухни. Здесь собиралось несколько сотен мужчин и женщин в самых разнообразных костюмах, среди которых преобладали костюмы шутов и базарных торговок. Некоторые из женщин, и притом, надо заметить, самые хорошенькие и кокетливые, – одетые торговками, были декольтированы почти до поясов, рукава были у них засучены до плеч, но хриплостью голосов и множеством ругательств они превосходили даже пределы, допустимые их шелковыми и кружевными костюмами. Это означало, что они перерядились не только в отношении общественного положения, но и в отношении пола. Но по странной фантазии карнавала, толпа мужчин, составляющих добрую треть всего сборища, именно их-то и окружала своим исключительным вниманием.
Все это сидело, стояло, лежало, хохотало, болтало, пело и кричало самыми резкими голосами, и составляло какую-то пеструю и до того компактную массу, что разобрать что-нибудь в этом шуме и гаме не представляло никакой возможности.
В непроходимой толкотне, казалось, что мускулистые руки мужчин принадлежат женщинам, а свободно расставленные ноги женщин принадлежат мужчинам. Бородатая голова точно высилась над белоснежной шеей, а мускулистая грудь оказывалась под худенькой головкой пятнадцатилетней евреечки. Даже сам Петрюс, расставив все головы на принадлежащие им торсы, не мог бы разгадать, кому принадлежат все эти ноги, руки, локти, пальцы.
Тем не менее, и среди хаоса человеческих тел была одна группа, обращавшая на себя особое внимание. Она состояла из шута, который, казалось, спал, прислонясь к стене, и маленькой шутихи, которая, сидя у него на плече, прикрывала его голову своей коленкоровой юбкой, так что он казался гигантом с непомерно маленькой головкой. Мальчик, одетый обезьяной, в костюме, введенном в моду Мазюрье, то прыгал с одного стула на другой, то, перебегая от одного кружка к другому, заставлял богинь и богов карнавала издавать самые резкие и невеселые возгласы.
Троих друзей при их входе в залу встретили громоподобным «ура».
Шут, скрывавший голову под юбкой шутихи, выглянул оттуда и доказал этим, что он не гигант, а обыкновенный смертный.
Турок вздумал было поднять обе ноги сразу. Это кончилось тем, что сам он мгновенно полетел и изломал стол, на который упал.
Полишинель перестал кататься колесом и остановился, как звезда, готовящаяся пристать к комете.
Обезьяна одним прыжком очутилась на плечах Петрюса и при хохоте всей компании принялась отрывать украшения его шляпы.
– Сделай милость, уйдем отсюда! Меня просто тошнит, – сказал Жан Робер Петрюсу.
– Вот еще странная фантазия! Уходить, когда только что успели войти! – ответил художник. – Ведь они вообразят, что мы их боимся, и примутся гоняться за нами по улицам, как его величество король Карл X гоняется за кабанами в Компьенском лесу.
– А ты что думаешь? – спросил Жан Робер у Людовика.
– Думаю, что раз мы уже здесь, то нам следует идти до конца, – ответил тот.
– Однако послушай…
– На нас смотрят! – перебил Петрюс. – Ты ведь сам театрал и должен знать, что все зависит от дебюта.
Сказав это, он, все еще не сбрасывая со своих плеч обезьяны, подошел к роду кратера, образовавшегося от падения турка, который все еще лежал ногами кверху, и продолжил:
– Господин мусульманин, известно ли вам великое изречение патрона вашего Магомета бен Абдаллаха, племянника великого Абу Талеба, князя Меккского?
– Нет, неизвестно! – глухо ответил голос из глубины проломленного стола.
– Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе.
С этими словами Петрюс взял мальчугана, все еще сидевшего у него на плече, за шиворот, как щенка, и, хотя тот отбивался и визжал от боли, спокойно приподнял его над своей головой, как шляпу, и, кланяясь, проговорил:
– Привет тебе, почтенный мусульманин!
Он снова опустил обезьяну себе на плечо, но мальчик поспешно соскользнул на землю и со слезливой грима сой забился в уголок, в который не проникал свет трех или четырех ламп, освещавших зал.
Это доказательство веселости, остроумия и силы вызвало гром рукоплесканий.
Что касается турка, то тот ответил на привет, видимо, совершенно машинально, но зато довольно крепко вце пился в руку, которую протянул ему Петрюс, а художник одним взмахом выдернул его из проломленного стола и поставил на ноги, хотя они и представляли в эту минуту пьедестал слишком ничтожный для так сильно расшатанного монумента.
– Здесь действительно очень тесно, – заметил Петрюс, освобождаясь от турка. – Пойдем-ка наверх.
– Как хочешь, – согласился Людовик. – Хотя, по-моему, и здесь довольно интересно.
Гарсон, следивший за ними все это время в ожидании, что они попросят себе ужин, ловко подскочил к ним в ту же минуту.
– Вам угодно наверх? – спросил он.
– Да, не мешало бы.
– Так вот-с лестница, – показал он на узкую винтовую лесенку, при одном взгляде на которую невольно приходил на память подъем Матюрена Ренье в «Mauvais giste» – ступени были круты, и подъем очень труден.
Трое друзей не смутились от предстоящих трудностей и стали взбираться на лестницу под крик и хохот толпы, которая кричала и хохотала, сама не зная чему, а просто потому, что крики часто воодушевляют людей еще не пьяных и доводят до безобразия тех, кто только навеселе.
На втором этаже была такая же давка, как и внизу, такой же закопченный зал с продранными обоями и такие же красные занавеси с желтыми и зелеными разводами.
Но общество было здесь, по-видимому, еще ниже, чем в первом зале.
– Ого! – проговорил Жан Робер, который взобрался на лестницу первый и открыл дверь. – Кажется, ад у Бордье устроен наоборот, чем у Данте: чем выше подымаешься, тем ниже падаешь.
– Ну, что ты на это скажешь? – спросил Петрюс.
– Скажу, что сначала это было просто отврати тельно, а теперь становится даже интересно.
– Так пойдем выше! – решил Петрюс.
– Пойдем, – поддержал его Людовик.
И все трое стали взбираться на следующую лестницу, которая становилась все уже и круче.
На третьем этаже оказалось такое же сборище, почти такая же обстановка, и только потолок был не сколько ниже, да воздух еще удушливее и зловоннее.
– Ну, что? – спросил Людовик.
– Что ты скажешь, Жан Робер? – обратился Петрюс к поэту.
– Полезем еще выше! – ответил тот.
На следующем этаже оказалось еще хуже, чем на двух предыдущих.
На столах и скамьях и под столами и скамьями валялось штук пять-десять человек, если создания, павшие до уровня животных, еще заслуживают названия человека. Тут были и мужчины, и женщины, и дети, уснувшие среди разбитых тарелок и недопитых бутылок.
Все мрачное пространство закоптелого зала освещалось единственной стенной лампой.
Можно было бы подумать, что стоишь в каком-то подземном склепе среди мертвых тел, если бы громкий храп не свидетельствовал о том, что эти мертвецы еще живы.
Жану Роберу делалось почти дурно; но он был человек с характером, и воля его не уступила бы даже и тогда, если бы разорвалось его собственное сердце.
Петрюс и Людовик переглянулись: оба были готовы поскорей уйти отсюда.
Но Жан Робер заметил, что отсюда лестница поднималась уже не винтом, а лепилась прямо вдоль стен, как это устраивается на мельницах. Он превозмог свое отвращение и стал взбираться по ней, приговаривая:
– Ну, пойдемте, пойдемте выше, господа, вы сами этого желали.
На пятом этаже он тоже первый открыл дверь.
Здесь декорация была та же, но сцена иная.
Вокруг стола сидело только пять человек. Перед ними лежали колбасные объедки и стояло около десятка бутылок.
Одеты эти люди были по-городски.
Употребляя это выражение, мы хотим сказать только, что они были не в карнавальных костюмах, а в своих ежедневных блузах и куртках.
Трое друзей остановились у двери. Гарсон, сопровождавший их по всем этажам, вошел вслед за ними.
Жан Робер огляделся и кивнул головой, как бы говоря:
– Вот это-то нам и нужно.
Жест этот вышел у него так выразительно, что Петрюс тотчас же подхватил его.
– Черт возьми, да мы расположимся здесь, как цари!
– Совершенно верно, – согласился Людовик. – Здесь у нас будет все, кроме воздуха для дыхания.
– Можно добыть и его, стоит только отпереть окно! – нашелся Петрюс.
– Где прикажете накрыть-с? – спросил гарсон.
– Вон там! – ответил Жан Робер, указывая на конец зала, противоположный тому, в котором сидело пятеро собутыльников.
Потолок был здесь так низок, что, входя, поневоле приходилось снимать шляпы, но Жан Робер, даже и снявши свою, все-таки касался головой штукатурки.
– Чего прикажете подать? – спросил гарсон.
– Шесть дюжин устриц, шесть бараньих котлет и омлет, – распорядился Петрюс.
– А бутылок сколько прикажете?
– Три шабли первого сорта и сельтерской воды, если таковая у вас водится.
При этих словах, звучавших здесь особенно аристократически, один из пятерых, ужинавших у другого стола, оглянулся.
– Ого! – проговорил он. – Шабли первого сорта и сельтерской воды! Должно быть, какие-нибудь фертики!
– Наверно, сынки богачей-аристократов! – подхватил другой.
– Или сами лапы-загребалы! – добавил третий.
Все пятеро громко расхохотались.
В те времена еще не существовало современных нам романов, вроде «Воспоминаний Видока», посвящавших людей порядочного общества в выражения воровского жаргона, а потому трое приятелей вовсе не догадались, что соседи приняли их за воров, и не обратили внимания на хохот, вызванный этим оскорблением.
Жан Робер снял плащ и положил его на один из стульев.
Гарсон, видя, что услуги его в зале больше не нужны, хотел было идти за ужином, как вдруг тот из пятерых, который заговорил первым, схватил его полу камзола.
– Ну, что? – спросил он.
– Как, ну, что? – удивился тот.
– Разве у тебя не спрашивали карт?
– Спрашивали, но их в такие часы не выдают, и вы это хорошо знаете.
– Это почему?
– Спросите у господина Делаво.
– Это кто ж такой?
– Господин префект полиции.
– А мне что до него за дело?
– Вам-то, может быть, до него дела и нет, а вот нам есть.
– Да что ж он может вам сделать?
– Велит закрыть заведение, а нам было бы горько не видеть таких гостей, как вы.
– А если здесь нельзя играть, так что же нам у вас делать?
– Мы вас и не задерживаем.
– Вот как! А знаешь, парень, ты, я вижу, не из вежливых. Я твоему хозяину скажу.






