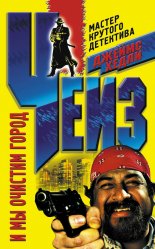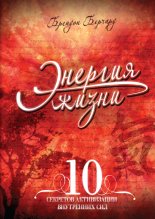Солнечное настроение (сборник) Вагнер Яна

Мария Степановна, точно гостья, скромно присела на угловой диванчик. Ирина убрала в раковину грязные тарелки и чашки, оглянулась в поисках чистых.
– В шкафчике перед тобой, – подсказала Мария Петровна.
Ирина достала посуду, поставила на стол, села напротив матери.
– Точно укол не требуется или капли?
– Со мной все в порядке, – ответила Мария Петровна, – то есть не в порядке… ерунда. С чего же мне начать? Родилась в сорок пятом, четыре годика было, когда родителей репрессировали… кажется, я это уже говорила… как чувствовала… Рассказывала тебе, а сама внутренне удивлялась: «Чего это я разоткровенничалась, биографию сопливой девчонке выкладываю?» Ох, ты не обижайся на «сопливую девчонку», я всех… я же не знала… а выходит, не напрасно болтала… Тьфу ты, японский городовой! Мысли пляшут, слова путаются!
– У тебя есть коньяк? – спросила Ирина. – Водка, вино на крайний случай?
– Выпить хочешь? – ласково, будто речь шла о компотике для ребенка, отозвалась Мария Петровна.
– Тебе рюмка не помешает.
– Я сейчас!
Мария Петровна подхватилась, быстро вышла из кухни. Вскоре вернулась с бутылкой коньяка и рюмками.
– Мне тебя и угостить нечем! – сокрушалась она. – Была баночка икры…
– Я ее съела! – чуть не расхохоталась Ирина.
– Господи! Опять не то ляпнула! Просто черт на языке сидит. Ну, давай выпьем. – Мария Петровна разлила коньяк по рюмкам и взяла свою в руки. – Конфетами шоколадными закусывай.
– Не буду пить, – помотала головой Ирина. – На работе не употребляю.
– Что же я, одна? Как алкоголичка? Так не годится!
Она поставила рюмку и посмотрела на Ирину глазами обиженного Николеньки. У сына точь-в-точь так округлялись глаза, ползли вниз уголки губ, когда он считал себя незаслуженно наказанным. Но на бабушку ехидную, в злом гневе ругающуюся, внук не был похож. Впрочем, думала Ирина, Николенька еще мал для ситуаций, которые могли бы спровоцировать негативные реакции. Самое большое горе у сына вызывал отказ купить детскую железную дорогу, как у богатенького Стасика. Надо все-таки извернуться, думала Ирина, занять денег и купить Николеньке эту немыслимо дорогую игрушку. Двухтысячный год, особая дата, пусть запомнится.
Ирина не стала спорить с матерью, взяла рюмку. Мария Петровна расплылась от улыбки (ямочка на подбородке – точный слепок Николенькиной).
– За что выпьем, Ирочка?
– Обойдемся без тостов, – пригубила коньяк Ирина.
– А я хочу выпить за тебя, девочка! За свидание наше негаданное и счастливое! За то, чтобы ты нашла свой путь, не только женский, как мать и супруга, но и путь специалиста. Если жизнь так складывается, что бабам, кроме домашнего хозяйства, еще и государство строить надо, то в подсобницах да младших помощниках кочегара сидеть глупо. Ты думаешь, что в профессии разочаровалась, а на самом деле – в себя веру потеряла… Это я не о том, занесло. Кто я такая, чтобы тебя жизни учить? Выпьем! За тебя!
Мария Петровна одним глотком выпила коньяк, задержала дыхание на несколько секунд и шумно выдохнула. Развернула шоколадную конфету, понюхала ее и отложила, не стала есть.
Ирина не собиралась пить. Но слова матери о разочаровании в профессии были как удар по больной мозоли. Ирина опрокинула содержимое рюмки в рот, следуя примеру матери, задержала дыхание, в унисон шумно выдохнула. Развернула конфету, опять зачем-то повторяя движения матери, понюхала, прежде чем съесть.
Они обе волновались и скрывали свое волнение. Ирине предстояло услышать ответ на вопрос, который мучил ее всю жизнь. Марии Петровне – покаяться, оправдаться. И хотя прощения быть не могло, даже сотрясение воздуха словами, выталкивание их из себя на глазах у дочери было подарком судьбы. Как для грешника сходить в храм – отпущения грехов не получить, но Богу о себе и своих страданиях напомнить.
Коньяк немного ослабил внутреннее напряжение, но полностью не убрал. Ирина мелкими полосочками складывала фантик от конфеты. Когда фантик превращался в маленькую бумажную палочку, Ирина брала следующую конфету, разворачивала, съедала, скручивала фантик. Мария Петровна говорила. Старалась, чтобы голос звучал не жалостливо, слова подбирала нейтральные. Удержаться от обвинений, от воспоминаний о старых обидах было сложно, поэтому Мария Петровна решила не расписывать свои чувства и переживания подробно, а придерживаться фактов. Хотя именно факты были против нее, а переживания все объясняли.
Вырваться из деревни, то есть получить паспорт и направление на рабфак, рассказывала Мария Петровна, помог тот райкомовец, которого бабушка от рожи лечила. Москва, институт, дома высокие, проспекты широкие, женщины на улице все как на подбор красавицы, речь кругом звучит культурная, вечером огни сияют, каблучки по асфальту стучат – одно слово, сказка! После сельской школы знаний, конечно, пшик. Рабфак (его потом в подготовительное отделение переименовали) как раз придуман для таких, для колхозной и рабочей молодежи, которая дальше таблицы умножения не продвинулась. Вгрызалась в учебники как бешеная, училась истово. Страх был снова на дне жизни оказаться. Активистка, комсомолка – это само собой, всегда любила общественную работу, быстро стала заводилой и лидером. И все-таки по сравнению с московскими девочками они, провинциалки, рабфаковки, были второй сорт: с ножом и вилкой научились обращаться в двадцать, а не в пять лет, одевались безвкусно, книжек прочитали не вагон, а маленькую тележку. И в перспективе у них маячило распределение в провинцию, в глухомань. А первый сорт, москвички, в столице оставались. Вторым сортом быть не хотелось, вот и рвала жилы, подметки на ходу теряла, лезла вверх. По комсомольской линии продвинулась, брали после института в райком ВЛКСМ инструктором, но была одна загвоздка – прописка, точнее – отсутствие московской прописки. Как на духу: на Николая внимание обратила, стала встречаться из-за корысти замуж за москвича выскочить.
Маргарита Ильинична, мать Коли, стратегию ушлой провинциалки легко просекла. И потом уже никакими силами нельзя ей было доказать, что со временем полюбила Колю по-настоящему, всем сердцем. «Мой сын, – говорила Маргарита Ильинична, – безусловно, произвел на вас неизгладимое впечатление, потому что знает разницу между Шубертом и Шопенгауэром». Подразумевалось, что деревенская проныра этой разницы ведать не может. Ну и что? С кем сыну жить? С Шопенгауэром или с крепкой верной бабой?
– Самое трудное в жизни не большую ложь победить, – говорила Мария Петровна, – а маленькую правду опровергнуть. Наши с Колей отношения начались с моей пронырливости – маленькая правда. От нее следа не осталось, все любовь победила, но слова из песни не выкинешь.
– Дальше, – попросила Ирина, – только факты.
– Без материнского благословения Коля жениться не мог. Выражение-то какое старорежимное! Благословение! Как у гнилых аристократов! То есть они… конечно… ты знаешь, были настоящими аристократами, благородными, ити их в душу… Прости!
Но и я не лыком шита, у меня свои козыри найдутся. Древний как мир бабий способ – забеременеть, захомутать мужика. Отсюда и начинаются все мои грехи, жизнь покореженная и позор несмываемый. Я не ребенка хотела, не матерью мечтала стать, а парня к себе привязать, матери его нос утереть да в Москве зацепиться. Ребенок – только средство, материнские инстинкты не проклюнулись, потому что я борьбой с врагами была занята – с Колиной мамой да и с ним самим, с его бесхребетностью. Не знала, чем эта борьба обернется, как аукнется. Сейчас у меня опухоль злокачественная в теле. А тогда я себе рак смертельный и смердящий в душу поселила. И всегда помнила, что душа моя – гнилая, осмеянная, освистанная, постыдная.
Узнав о моей беременности, Коля повел себя достойно. Возможно, первый раз в жизни отчаялся пойти против воли матери. Только никакого «против» не было. Маргарита Ильинична заранее все просчитала и снова меня вокруг пальца обвела. Приходим мы к ним домой, Коля мужественно объявляет: «Мы с Марусей поженимся. У нас будет ребенок». Я думала, Маргарита Ильинична в конвульсиях от ярости забьется, а она ручками радостно всплеснула: «Ребенок – это прекрасно! Какое счастье! Я тебя поздравляю, сыночек! Подойди, я тебя поцелую!» Колю лобызает, а на меня – ноль внимания, как на старую мебель. Коле неловко, он мать ко мне поворачивает: поздравь и Марусю. Удостоилась и я «поздравления»: Маргарита Ильинична холодно сказала, что видела в комиссионке ширму, надо купить, чтобы перегородить комнату.
Никакой личной жизни за ширмой у нас не получалось. По ночам боялись лишний раз кроватью скрипнуть, потому что мамочка в трех шагах, вздыхает, ворочается, свет включает, гремит склянками, лекарство пьет. Коля откликается: «Мамочка, тебе плохо?» «Не беспокойся, сыночек! Но если тебя не затруднит принести мне горячую грелку, буду очень благодарна». Коля вскакивает, бежит на кухню воду греть. И днем Маргарита Ильинична дома торчала. Договорилась в издательстве, Коля ей рукописи привозил, она редактировала, он отвозил. Может, я лишнего на свекровь наговариваю, но в ее болезни я не верила, считала, из вредности она дома сидит. Ты родилась, болезни как корова языком слизнула. А мы с мужем на чердак бегали целоваться, точно бездомные.
Думала я, что все беды с замужеством кончатся, а они только начинались. Попала я как бабочка в клей – ни крылышком махнуть, ни лапкой пошевелить. Клей – это их жизнь, в которой мне места, глотка кислорода не было. Ревновала я мужа и свекровь, конечно, дико, скандалы устраивала, в голос кричала: «Пустите меня в свою жизнь!» Маргарита Ильинична перчаточки надевает и спокойно отвечает: «Вам, Маша, волноваться вредно, успокойтесь. Обед в холодильнике. Мы с Николаем идем в консерваторию слушать Пятый концерт Шопена, что вам неинтересно». Правильно! Неинтересно, я на классической музыке засыпаю после первых аккордов. А когда звала мужа в кино, свекровь презрительно кривилась: «Николай, ты собираешься смотреть эту пошлую „Операцию „Ы“?»
Маргарита Ильинична ни одного грубого слова мне не сказала, вообще редко ко мне обращалась, в крайнем случае через Колю действовала: мол, ты не хочешь посоветовать своей жене не носить платья с вульгарными оборками? Не стоит ли твоей жене умерить общественный пыл и больше времени уделять своему здоровью? И все это произносилось культурненько, как бы без моего присутствия. Но я-то за ширмой отлично слышу! Вспыхиваю, выбегаю ругаться и снова оказываюсь пошлой скандальней базарной бабой…
Мария Петровна замолчала, поймав себя на мысли: говорю то, чего хотела избежать – обвинений в адрес покойной свекрови. Нашла перед кем хулить Маргариту Ильиничну!
Тишину взорвал свист закипевшего чайника. Мария Петровна и Ирина одновременно вздрогнули. Ира встала, выключила газ.
– Ну его к лешему, чай! – махнула рукой Мария Петровна. – После чаю уснуть не могу. Давай еще коньячку!
Разлила по рюмкам, не дожидаясь Ирины, не произнося тостов, быстро выпила.
– Закусывай! – напомнила Ирина и подвинула к ней вазочку.
Мария Петровна послушно кивнула, развернула конфету и съела. Ирина нерешительно держала в руках рюмку, потом отважилась и выпила. Конфет в вазе заметно убавилось.
Предыдущий рассказ матери Ирина слушала затаив дыхание. Оно, дыхание, действительно точно исчезло, не чувствовалось, а сердце билось испуганно и тревожно. Руки не дрожали, хотя Ирина поймала себя на том, что боится. Напряженным усилием мысли поняла, чего боится. Того, что мать соврет, обманет, выдаст желаемое за действительное. Казалось, если мать соврет в эту минуту – особого и единственного откровения, – то не останется ни миллиметра суши в океане вранья и подлости, крошечного островка, на котором можно спастись, не утонуть.
Ирина интуитивно заслонилась, предупредила обман:
– Мне бабушка рассказывала, что ты обещала ребенка оставить. Это было оговорено до моего появления на свет. Бабушкиным словам я верю, да и папа не отрицал. Поэтому ты…
– Едрёноть! – стукнула кулаком по столу Мария Петровна, посуда подпрыгнула, звякнула. – Опять! Хвостик правды, кусочек, былинка! А картина мерзкая!
– Не буянь! – попросила Ирина.
– Не буду, – пообещала Мария Петровна. – Сейчас, подожди, три вздоха-выдоха, и снова человек. Раз, два, три, – шумно выдохнула она.
– Ты… еще до моего рождения… – раздельно проговорила Ирина, пристально глядя на мать, – собиралась… меня бросить?
Мария Петровна открыто и смело встретила взгляд дочери:
– НЕТ!
Если бы девочка умела читать по глазам! Она поняла бы, что мать не врет.
Ирина читала по глазам не лучше, чем всякий другой человек, но могла поклясться: мать не врет. Но кто-то из них, бабушка или мать, должен быть виновен! С бабушки не может спрашиваться столько, сколько с матери! Бабушка заменила маму. Пусть оттолкнула, но что это за мать, которую легко оттолкнуть? И бабушка была рядом двадцать с лишним лет: лечила, когда Ира болела, объясняла непонятные слова, пекла на день рождения особый торт, согревала своим теплом ночью, когда снился страшный сон, не заикнулась о болях за грудиной, когда Ирина сдавала вступительные экзамены в институт, прозевали инфаркт…
Значит ли: поверить матери – предать бабушку, которая тебя вырастила? Ирину внутренне ужаснул даже не сам вопрос, а возможность его постановки! Сейчас, вот так просто, на чужой кухне, после двух часов разговоров и двух рюмок коньяка заклеймить бабушку, без которой погибла бы!
«Почему я допустила возникновение подобного вопроса? – терзалась Ирина. – Разве я предательница? Неблагодарная черствая скотина? Господи, я уже выражаюсь как мать! Вопрос возможен, потому что я знаю ответ. На себе испытано, на своем детстве, терзаниях, комплексах, отчаянных слезах и мыслях о самоубийстве. Ответ прост – мать не может заменить никто: взвод нянек, рота репетиторов и даже самая распрекрасная бабушка вкупе с чудным отцом».
Мария Петровна молчала, изнывая от нежности и трепета, наблюдала за дочерью, которая о чем-то сосредоточенно или даже мучительно думала, механически ела конфеты и скручивала фантики.
Перед Марией Петровной сидела взрослая тридцатилетняя женщина, но до спазмов в горле, до дрожи в руках хотелось несусветного: баюкать девочку, дать ей соску, спеть песню, играть в «козу» – сделать все то, о чем мечтала, без чего остаешься обездоленной, как нецелованной, как пустоцветной… дыркой. У них в деревне бездетных женщин и старых дев называли презрительно дырками.
Ирина очнулась не то от стона, не то от рыка, который издала мать. Мария Петровна испуганно дернулась, схватилась за бутылку, наполнила рюмки.
– Не увлекайся! – предупредила Ирина.
Как ни была взволнована Мария Петровна, но она отметила, что растерянный, почти нежный взгляд дочери опять сменился на жесткий и холодный.
Мария Петровна подняла рюмку и отсалютовала ею, дождалась, когда Ирина поднимет свою, пригубила и, не допив, поставила. Ирина последовала ее примеру, чуть отхлебнула коньяк. Язык обожгло, но глотать практически было нечего. «Местное воздействие на слизистые оболочки ротовой полости», – подумала Ирина. Хорошо бы еще для исповеди матери подобрать диагноз, спрятаться за него, как за ширму. Не получается. Не сильна в психологии.
– Дальше слушать будешь? – спросила Мария Петровна.
– Буду! – кивнула Ирина. – Только…
– Знаю! Чтобы бабушку не порочила? Да я ведь, по-трезвому сказать, по-прожитому, в пояс поклониться, молиться на нее должна за то, что такой славной тебя вырастила! Поэтому… как же тебе облегчить?..
Мария Петровна неожиданно встала, выдвинула ящик кухонного стола и достала топорик для разделки мяса. Положила его перед Ириной:
– Вот! Как только будет меня заносить, можешь смело бить в лобешник!
– Экстравагантно, – оценила предложение Ирина.
– Положи ногу на табурет, чтобы не отекала.
– Спасибо! – Ирина водрузила больную ногу на табурет, пододвинутый матерью. – Как твои ожоги?
– Терпимо.
9
Мария Петровна продолжила рассказ, начав, как показалось Ирине, издалека:
– По убеждениям я – стойкая большевичка и коммунистка. Справедливее коммунизма ничего придумать невозможно. Но с сегодняшними политическими клоунами дела не имею. Не наше время, личная инициатива во главе угла, по-американски: позаботься о себе сам, а о других позаботится Бог. В скобках – или дьявол. Я не доживу, а внук, не исключено, увидит, как снова появятся люди, для которых благо миллионов будет важнее собственного сытого брюха.
– Но пока, – возразила Ирина, – история доказала, что миллионы сытых появляются при развитом капитализме. С чего мы вдруг перешли на политику? На пространные рассуждения у меня времени нет.
– Это я к тому упомянула, что комсомольская общественная работа меня многому научила. Внешне – риторике, пустобрехству. Противника всегда можно было задавить, клеймо мелкобуржуазности навесить, обвинить в уклонении от линии партии. Но все-таки главное, что общественная работа, то есть работа с людьми, дала, – умение опираться на свои сильные стороны и бить по слабостям противника. В моем конфликте со свекровью ее слабость, а моя сила заключались в одном – в тебе, в неродившемся ребенке. Для Маргариты Ильиничны я была животом на ножках, в котором зрело дорогое ей существо. Свекровь часто заводила разговоры: зачем вам, Маша, ребенок, он вас только свяжет, не даст вашей активности развернуться, карьеру партийную погубит, Николай – человек не вашего круга, уже сейчас видно, что вы не можете составить счастье друг другу. Я не отвечала ни «да» – мол, рожу и оставлю вам дитё, ни «нет» – а пошли бы вы, Маргарита Ильинична, вместе со своим сыночком куда подальше! Я мотала ей нервы, мстила. С Колей был полный разлад, не могла ему простить, что сидит под каблуком у матери. Готова поклясться самым святым, даже твоим здоровьем: не было у нас уговора, что я ребенка брошу! Но я и сама не знала, как жить дальше. Мое увиливание, ни да, ни нет при желании, конечно, можно было истолковать как молчаливое согласие. Что и было сделано.
Мария Петровна запнулась, ей предстояло рассказать самое тяжелое. Она закрыла лицо ладонями, крепко потерла, точно лицо занемело, откашлялась и заговорила:
– Родила я легко, но тут же начались какие-то осложнения. Помню, мне сказали: «девочка», потом говорят: «кровотечение струёй», а дальше все потемнело, я отключилась. Приходила в себя ненадолго и видела над собой круглый светильник, утыканный лампочками. Чего они со мной делали, какие операции – не знаю. Только потом одна сестричка шепнула, будто повезло мне, потому что дежурила врач… не помню, как зовут. Она очень умелая, все сделала, чтобы матку мне сохранить, а любая другая к едрене фене все бы вырезала.
Ирина мысленно перечислила возможные причины кровотечения в раннем послеродовом периоде. Мать легко могла погибнуть, а ей даже детородный орган сохранили, действительно повезло. Но если бы мать умерла, то ее, Иринино, детство было бы окрашено не мрачными красками позора, а светлым колером грусти.
– Слабой я была, – продолжала Мария Петровна, – до крайности. Рукой пошевелить не могла, голову от подушки оторвать. В меня кровь чужую, в смысле – донорскую, вливали. Лежу, смотрю, как она по трубке в мою вену бежит из бутылочки. На бутылочке написано «Сидоров», на следующей «Козлов». Почему-то казалось, что те доноры алкашами были, на выпивку не хватало, они кровь сдавали. А может, героическими донорами? Сейчас подумала! Мне люди жизнь спасли, а я…
В палату, где другие роженицы лежали, меня только на пятый день привезли. Сначала я не заметила, а потом вижу: относятся ко мне как к прокаженной или зачумленной, и соседки по палате, и врачи с медсестрами. В мою сторону не смотрят, на вопросы не отвечают, в разговор не принимают и всячески демонстрируют презрение. Что за черт? Всем женщинам детей приносят на кормление, а мне нет. Думала – из-за моей слабости. Потом как-то сестра входит с широким бинтом, говорит, надо грудь перевязать, чтобы молоко не поступало. Чем, спрашиваю, мое молоко вам не угодило? А оно вам, отвечает, без надобности, потому что от ребеночка вы отказались, завтра придет юрист и оформит документы, дочь вашу забрали бабушка и отец. Одна из женщин подошла и плюнула мне в лицо, обозвала шлюхой… ну, другое слово, покрепче… Я утерлась и так их всех, с юристами и без юристов, обложила-послала, что они рты пооткрывали и два часа слова сказать не могли, только мычали. А следующей ночью я из роддома сбежала. То есть не бежала, конечно, а плелась, за стенки держалась. На улице холод, я в больничной рубахе, сверху байковый застиранный халат, тапочки на босу ногу. Тапочки хорошо помню, потому что все время на ноги смотрела, боялась оступиться и упасть. Коричневые кожаные шлепанцы, на них белой краской написано «ПО».
«Послеродовое отделение», – расшифровала про себя Ирина.
– Доплелась я до дома. Мне соседка по коммуналке открыла. Сказала, что Маргарита Ильинична и Коля повезли девочку куда-то в Подмосковье, где нашли кормилицу, для здоровья младенца хотят его месяца три на грудном молоке подержать. Что делать? Сижу на кухне, дверь-то в нашу комнату закрыта, жду сама не знаю чего. Озноб бьет, застудилась, видно, грудь как каменная и болит отчаянно. Утром соседка вышла, а я уже полуживая, ничего не соображаю, глаза закатываются. Как на «скорой» до больницы довезли, не помню. Две недели температура под сорок держалась, голова раскалывалась, думала, с ума сойду.
«Ей хотели подавить лактацию, выработку грудного молока, – думала Ирина. – И давали парлодел, который снижает артериальное давление и вызывает сильные головные боли».
– Мастит у меня был жуткий, в обеих грудях, гною больше, чем молока. Резали и резали, кромсали меня, под этой чертовой лампой конечно. Зубной щетки с собой не было, вместо чистки зубов ежедневная пытка под лампой.
«Выходит, рубцы на молочных железах у нее не после удаленных опухолей», – взяла на заметку Ирина.
– Месяц я в больнице пролежала, ни одна живая душа меня не навестила. Когда в голове немного прояснилось, мысль пришла, как тогда казалось, очень правильная. Будто вы все: свекровь, муж, да и ты, младенец, – хотели меня со свету сжить, сильно старались меня угробить. А я назло вам выкарабкалась! И плевать на вас хотела! Вычеркнула, забыла!
«Послеродовая депрессия», – машинально поставила диагноз Ирина.
– Словом, из больницы я в общежитие вернулась. Коля потом вещи привез. И зачастил ко мне. Я его гнала, он снова возвращался. Добрый, милый, теплый и ласковый… Любовь моя не до конца, наверное, сгорела, теплились угольки. Снова сошлись. Нелепо как-то все было: вроде муж с женой, а на свидания бегаем, по углам жмемся. О тебе Коля ни звуком не заикался, у нас молчаливый договор заключен: делаем вид, что ребенка не существует. Так продолжалось, пока тебе годик не исполнился… долго… долго у меня мозги на резкость наводились.
Идем как-то с Колей по улице, и вдруг он на ровном месте засуетился, задергался. Иди, говорит, Маруся, посиди в скверике, подожди меня, я сейчас быстро. Меня любопытство разобрало, проследила за ним… Оказывается, мы мимо магазина «Детский мир» проходили, Коля в окно увидел, что очередь у прилавка клубится. Значит, что-то выбросили. Костюмчики трикотажные гэдээровские, хорошенькие, как на куколок. Стою в углу, смотрю, как Коля в очереди давится. И будто электричеством меня в темечко ударило! Прозрела! Ужаснулась! – Мария Петровна одну руку положила на шею, другую на грудь, – сердце кровью плачет, ноги точно гвоздями к полу прибили. Вот так в магазинной толчее впервые у меня материнство проклюнулось.
Мария Петровна замолчала. Не хватало слов, чтобы описать свои чувства. Да и есть ли они, такие слова? Все врут слова! Материнство у нее проклюнулось! Так хватай ребенка, нежь, лелей и воспитывай. Схватила? Как бы не так! Права Ирина: настоящую мать ни танк, ни атомная война не остановит, о свекрови и говорить не приходится. А у нее проклюнулось!
– О дальнейшем, как за мной подглядывала, как хотела бабушку убить, ты уже рассказывала, – пришла на помощь Ирина.
– Еще выпьем? – кивнула Мария Петровна на рюмки.
– Давай, – согласилась Ирина.
– Чтоб они все сдохли!
– Кто?
– Враги.
– Кто у тебя главный враг?
– Я сама! – вынуждена была признать Мария Петровна, опрокидывая коньяк.
Она слегка захмелела. Хотелось всплакнуть, пожаловаться на горькую долю, получить сочувствие. Усилием воли Мария Петровна привела мысли в относительный порядок и напомнила себе, что скорее кролик получит сочувствие от удава, чем она от дочери. Не «скорее», поправила себя мысленно Мария Петровна, а по справедливости.
«Кажется, я ее напоила, – думала Ирина. – Сначала обварила кипятком, потом заявила, что квартиру к рукам приберу, теперь напоила. Прекрасно!»
– Коля, отец твой, тоже не ангел. – Мария Петровна дала-таки слабинку, не удержалась, захотела вину поделить. – Не последнюю скрипку играл… в концерте ля-вашу-так-перетак-минор композитора Шопена…
– Кажется, ты…
– Нет! – мотнула головой Мария Петровна. – Не пьяная! Слегка развезло, больше от волнения момента. О чем я? О Коле. Обрабатывал меня… неустанно и неутомимо. Ты, говорит, Марусечка, понимаешь, что под одной крышей с моей мамой жить не можешь, а я свою мамочку бросить не могу. Ну, заберешь ты Ирочку. Куда? В общежитие? Квартиру или комнату снимать ни у тебя, ни у меня денег нет. Девочке с бабушкой очень хорошо, ты лучшего ухода обеспечить не в состоянии…
– Перестань чернить моего папу!
– Извини! Подло прозвучало, да? Хотела за Колину спину спрятаться. Я никогда и ни за чью спину… Слушай! – Мария Петровна вскинула голову и посмотрела на Ирину с волнением, которое испытывает человек, только что сделавший открытие. – Может, он из благородства? Он ведь знал: если у меня появляется настоящая цель, я ее когтями и зубами вырву. А тут мялась, сомневалась, на уговоры поддавалась… Вот Коля и решил облегчить мне жизнь, оправдания подсказать? Святой человек!
– Оба вы хороши! – в сердцах, громче, чем следовало, вырвался у Ирины упрек.
Ее душевные силы были на исходе, требовали отдыха после громадного напряжения. Усталая голова отказывалась переваривать полученную информацию, размышлять, делать выводы, давать оценки. Все это потом, завтра. А сегодня осталась одна проблема.
– Слушай меня внимательно! – тщательно артикулируя, строго заговорила Ира. – Речь пойдет о твоей болезни, об опухоли. Нового я тебе ничего не скажу, да и никто не скажет, все ты уже от онколога слышала и мимо ушей пропустила. Ты не умираешь! У тебя первая стадия! Но перейдет в следующую, если сейчас не сделать операцию.
– Под лампой? – печально осведомилась Мария Петровна.
– Не с фонариком же хирургу работать! – возмутилась Ирина. – Далась тебе эта лампа! Общий наркоз, ты ничего не почувствуешь. И останешься жива! Поняла? Жива на многие годы! От рака, от этой опухоли точно не помрешь. Гарантия девяносто пять процентов, больше в онкологии не бывает да и вообще в медицине, это же не ремонт часов. Пойдешь на операцию?
– Не беспокойся, больше я врачей не стану вызывать.
– Ты пойдешь на операцию?
– Вот, возьми. – Мария Петровна выдвинула ящик стола и достала толстую записную книжку. – Передай двоечнице Стромынской.
– Русским языком спрашиваю: будешь делать операцию? Не на аркане же тебя тащить! И милиция не согласится тебя под арестом в больницу доставить. Самоубийство – дело добровольное.
Мария Петровна не отвечала, ковыряла пальцем клеенку на столе.
– Ты боишься смерти унизительной и позорной, – напомнила Ира. – И в то же время топаешь к ней полным ходом! Это бред, паранойя! Психиатры ошибочно посчитали тебя здоровой, с головой у тебя проблемы.
– Зайдешь ко мне когда-нибудь? – подняла глаза Мария Петровна.
– Ляжешь в больницу?
– Можно я внуку подарок сделаю? Не хочешь – не говори от кого.
– Больная Степанова! Вы от госпитализации отказываетесь?
– Тебе за это ничего не будет? Давай подпишу бумагу, если нужно.
– Поразительное упрямство! Глупое и преступное!
– Хоть позвони как-нибудь, а?
Онкологические больные требуют очень бережного и осторожного обращения. Они переживают сильнейший стресс из-за страха предстоящей смерти. Их нужно успокаивать, утешать и ни в коем случае не пугать, они сами напуганы до крайности. Недаром прежде, в советские времена, медики диагноз сообщали родным, но не пациенту. И все-таки, решила Ирина, мать нужно запугать. Она сильная – во всем, даже в своем тупом упрямстве. Выдержит.
– Объясняю ситуацию, – не ответив на вопрос, заговорила Ирина. – Сейчас узел в щитовидке у тебя маленький, меньше сантиметра в диаметре. Он будет увеличиваться, прорастать в возвратный нерв, ты осипнешь, голос изменится. Произойдет сдавление трахеи, и возникнет затрудненность дыхания. Но это все мелочи по сравнению с метастазированием. Когда из опухоли брызнут метастазы, осеменят другие органы, тебе небо в овчинку покажется.
– Не стану дожидаться, – тихо пробормотала Мария Петровна. – Покончу с собой, повешусь или отравлюсь.
– Дура! – воскликнула Ирина.
– Дура, – кивнула Мария Петровна. – Но уж лучше я сама на себя руки наложу, чем под этой лампой сдохнуть. Я где-то читала, что для хирургов страшнее нет, когда на столе пациент коньки отбросит. Зачем же их, сердешных, подводить?
– Очень, с твоей стороны, трогательно заботиться о хирургах. Но подумай о другом! За один час, именно столько длится операция, не бог весть какая сложная, онколог избавит тебя от злокачественной опухоли и сохранит тебе жизнь. Для этого он и трудится…
– Под лампой.
– Больше не могу слышать про лампу! – схватилась за голову Ирина. – Мне уже самой начинает казаться, что страшнее бестеневой лампы зверя нет.
– Вот видишь!
– Вижу, что паранойя заразительна!
– Ирочка, а сколько мне осталось?
Ирина развела руками. Даже если бы желала, она не могла бы ответить на вопрос. Опухоль в щитовидке может медленно, годами зреть, а могут и завтра появиться метастазы.
– Как же я узнаю, когда… последний час? Когда басом заговорю и дышать трудно будет. – Мария Петровна не спросила, а сделала для себя вывод.
Перед визитом к матери Ирина мысленно прокручивала различные сценарии их общения. Но ей и в голову не пришел самый нелепый: подсказать матери, когда следует наложить на себя руки. Что и говорить, удружила родственнице. И ведь смотрит с благодарностью! Бред! Фантастический бред, бороться с которым нет сил.
– Прощай! – поднялась Ирина.
Нога болела, но терпимо, идти можно. Ирина надела шубу в прихожей и, не отвечая на материно «До свидания, доченька!», вышла из квартиры.
На улице бушевала снежная пыль. Неслась поземкой, взлетала выше человеческого роста, закручивалась воронками. Мелкие острые кристаллики хлестали Ирину по лицу. Будто пытали, требовали ответа. А ответа не было, она и вопросы еще для себя не поставила.
Будь на месте матери другая женщина, Ирина нашла бы ей оправдания, подробно описала бы симптомы тяжелого психического состояния – послеродовой депрессии. Помрачившемуся рассудку роженицы представляется, что ребенок – причина всех ее бед, что он навеки лишит ее свободы, свяжет по рукам и ногам, заберет оставшиеся годы жизни. В крайних проявлениях болезни матери убивают своих детей, бросают на помойке, отказываются в роддоме. Послеродовая депрессия может длиться часы, дни, месяцы, всю жизнь. Но у чужих людей! Почему у ее матери? Тем более что сама Ирина, как подавляющее большинство здоровых нормальных женщин, в момент рождения сына познала высшее блаженство. И никуда оно не делось! Только упрочилось!
День первый (продолжение)
1
Для Николая Сергеевича, отца Ирины, выход на пенсию два года назад не ознаменовался печалями и депрессиями, связанными с окончанием трудовой деятельности. У Николая Сергеевича была приятная забота – воспитание внука. Какое счастье, что горячо любимая мама успела увидеть правнука – тогда беспомощного младенца, названного в честь дедушки Николенькой.
После смерти мамы Николаю Сергеевичу стало казаться, что часть ее души как бы переселилась в него, закрыла болезненную рану потери дорогого человека. Николай Сергеевич подхватил эстафету, продолжил дело мамы. Она вырастила Ирочку, а ему предстоит воспитать Николеньку.
Правда, Николенька совершенно не походил на Ирочку в детстве. Она была тихим, замкнутым ребенком, типичным интровертом. Только иногда вдруг у Ирочки случались непонятные приступы истерической слезливости. Внешняя их причина никак не могла быть серьезной. Что за повод рыдать – пятно на платье, порванный чулок или двойка по географии? Добиться от Иры истинной причины ее горя ни у отца, ни у бабушки не получалось. Они долго обсуждали каждый случай взрыва эмоций, но, кроме возрастного кризиса, ничего придумать не могли. И обменивались понимающими взглядами: «выпускает пар». Так на их старой квартире говорила соседка о своем муже, который после получки и выпивки ее поколачивал. Соседка верещала как резаная, но от помощи соседей и милиции отказывалась, находила оправдание буяну: надо человеку пар выпустить.
Николенька, в отличие от его мамы, абсолютный экстраверт. Он легко впитывает знания, впечатления и тут же ими делится. К сожалению, кроме дедушки, на мальчика еще оказывают влияние телевизор, встречные прохожие, попутчики в транспорте, воспитатели в детском саду. Последние, по тихому возмущению Николая Сергеевича, говорят при детях бог знает о чем.
Николай Сергеевич не проявлял себя любителем юмора, но однажды зацепился взглядом в газете в колонке анекдотов будто за что-то знакомое. Прочитал:
«Отец рассказывает сыну сказку:
– Было у старика три сына. Старший умный был детина, средний был ни так ни сяк, младший вовсе был дурак.
– Папа, – спрашивает мальчик, – а чем дядя болел?
– Почему болел? – удивляется отец.
– Но ведь у него каждый раз все хуже и хуже получалось…»
Николай Сергеевич мог бы поклясться, что этот случай реальный, произошел в их семье. Очевидно, Павлик, зять, рассказал кому-нибудь, и пошло гулять. К легкой досаде Николая Сергеевича, в тексте была допущена неточность: не отец рассказывал сыну сказку, а дедушка внуку читал.
Вот и сегодня, в ожидании Ирочки, которая задерживалась, решили почитать сказки. Но вначале долго договаривались – чтение с комментариями (желание Николеньки) или без. Честно говоря, Николай Сергеевич и сам любил с «комментариями», которые часто уводили их в сторону, на обсуждение интересных тем. Но с другой стороны, никак не удавалось внушить ребенку элементарное правило хорошего тона – перебивать взрослых нельзя. Николенька по каждому поводу считал необходимым высказать свое мнение и встревал в любые разговоры. Кроме того, непоседливый мальчик начинал вертеться, ковырять в носу, дрыгать ногами через десять минут своего вынужденного молчания. Дедушка считал своим долгом вырабатывать у него полезный навык концентрации внимания.
Сошлись на компромиссе: одна сказка без комментариев, вторая – с ними. Читали русские народные сказки для самых маленьких детей. Николай Сергеевич в начале своей педагогической деятельности слишком высоко поставил планку: двухлетнему внуку читал «Мцыри» и романтические поэмы Байрона, учил числам на примере уравнений. Николенькиными интеллектуальными успехами можно было гордиться. Пока мальчик не пошел в детский сад и не обнаружилось, что, в отличие от других детей, он имеет смутное представление о Бабе-яге, Василисе Прекрасной и скатерти-самобранке. Пришлось удариться в детство, наверстывать упущенное. Трехлетний ребенок многое воспринял бы на веру, пятилетний требовал объяснений. На каком горючем печь Емели? Почему Ивана называют дураком, если он самый умный? Разбор ситуации с золотым яйцом, которое дед бил-бил – не разбил, баба била-била – не разбила, а мышке стоило только хвостиком махнуть, уводил Николеньку и дедушку в дебри физических явлений и рассуждений о случайностях и вероятностях.
Николенька мужественно выслушал сказку «Гуси-лебеди», почти не вертелся и вопросов не задавал. Николай Сергеевич перевернул страницу и прочитал первое предложение следующей сказки:
– «Жили-были старик да старуха, у них была дочка Аленушка да сынок Иванушка».
– Поздно родили? – перебил Николенька.
– Почему? – удивился Николай Сергеевич.
– Старик да старуха, а у них дети! Татьяна Самойловна, наша воспитательница, тоже поздно родила. Ох и намучилась! – Николенька почти точно повторил протяжную женскую интонацию. – А как рождают?
– Это у мамы спросишь. Читаю дальше? «Старик со старухой умерли. Остались Аленушка да Иванушка одни-одинешеньки. Пошла Аленушка на работу и братца с собой взяла. Идут они по дальнему пути, по широкому полю. И захотелось Иванушке пить.
“Сестрица Аленушка, я пить хочу!” – “Подожди, братец, дойдем до колодца”. Шли-шли, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровье копытце полно водицы. “Сестрица Аленушка, хлебну я из копытца?” – “Не пей, братец, теленочком станешь!..”»
– Аленушка и Иванушка были гробсарайтерами?
– Кем-кем?
– Они не могли работать около дома и пошли далеко.
– Гастарбайтеры. В определенном смысле, конечно.
Николай Сергеевич порадовался, что внук запомнил значение недавно объясненного трудного слова, хотя и переврал произношение. Они благополучно дочитали до момента, когда Иванушка не послушался сестрицу, напился из копытца и превратился в козленочка.
– Зря мучился, – прокомментировал Николенька. – Надо было пить из первого копытца. Какая разница: в теленочка, в жеребеночка или в козленочка превратиться? Из-за микробов превратился? Мама из-за микробов не разрешает воду из крана пить. А папе даже из бутылок. Я слышал, когда гости были, как мама тихо папе сказала: «Хватит пить, козленочком станешь».
– Подслушивать – некрасиво! И вдвойне некрасиво передавать то, что люди говорили друг другу по секрету.
– Почему?
Этот короткий вопрос Николай Сергеевич считал самым сложным. Коленькино «почему» часто ставило дедушку перед необходимостью просить мальчика принять моральную норму как закон с отсроченными объяснениями. Он получит их, когда подрастет. В самом деле, как объяснить пятилетнему мальчугану, что нельзя драться с девочками, когда он свое «почему?» подкрепляет аргументами: девочка была на голову выше и три раза первая ударила его танком по животу?
Кое-как выбравшись из паутины нравственных правил, Николай Сергеевич продолжил чтение:
– «Залилась Аленушка слезами, села под стожок, плачет, а козленочек возле нее скачет. В ту пору ехал мимо купец. “О чем, красна девица, плачешь?” Рассказала ему Аленушка про свою беду. Купец ей говорит: “Поди за меня замуж. Я тебя наряжу в злато-серебро, и козленочек будет жить с нами”. Аленушка подумала, подумала и вышла за купца замуж. Стали они жить-поживать, и козленочек с ними живет, ест-пьет с Аленушкой из одной чашки…»
– Не по любви вышла! – констатирует Николенька.
– Почему ты так решил?
– А что же у купца даже имени нет? Одна профессия!
«Не по любви» – это, конечно, тоже из лексики воспитательниц. Надо все-таки, думал Николай Сергеевич, поговорить с ними, указать на недопустимость подобных разговоров в присутствии детей. Но он знал, что вряд ли решится прийти в детский сад и выступить с критическими замечаниями. Может, Ирину попросить? Или Павла? Должны ведь быть границы! Вчера чуть со стыда под землю не провалился, когда Николенька на прогулке посоветовал соседям, купившим щенка, назвать собачку Аборт. Где ребенок услышал это слово? Не иначе как в детском саду!
Николай Сергеевич прокашлялся и стал читать дальше:
– «Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись приходит ведьма. Встала под Аленушкино окошко и так-то ласково начала звать ее купаться на реку. Привела ведьма Аленушку на реку. Кинулась на нее, привязала Аленушке на шею камень и бросила ее в воду. А сама оборотилась Аленушкой, нарядилась в ее платье и пришла в хоромы…»
– Запела от радости?
– Возможно, запела, в тексте не уточнено.
– Но она пришла в большой… как его… когда все поют… хор.
– Хоромы – это по-старинному дом, помещение, где живут.
– И поют?
– В том числе.
– Я бы на месте ведьмы тоже радовался.
– Ты себя представляешь на месте ведьмы? – нахмурился Николай Сергеевич. – А почему, скажем, не на месте Иванушки или купца?
– Так они же глупые! А ведьма – супер!
Это уже отцовское, отметил Николай Сергеевич. Павел – замечательный человек, но речь у него! Мама была бы в шоке. Отчасти удачно, что она уже сильно болела и не много общалась с мужем Ирочки. Зять пересыпает речь новомодными словечками: «супер», «тусовка», «совок», а волноваться и переживать почему-то звучит как «колбасит». При чем здесь колбаса? И стоит ли удивляться, что ребенок обозвал подаренную ему тетушкой (сестрой Павла) игрушку (строго говоря, очень странную игрушку – голубую лохматую помесь слона и крокодила) «шизой». Николай Сергеевич хотел сделать тогда замечание внуку, но не посмел, потому что Павел, отец, расхохотался одобрительно.
– Давай посмотрим, что дальше стало с твоей героиней. «Никто ведьму не распознал. Купец вернулся, и тот не распознал. Одному козленочку все было ведомо. Повесил он голову, не пьет, не ест. Утром и вечером ходит по бережку около воды и зовет: “Аленушка, сестрица моя! Выплынь, выплынь на бережок!”»
– Так она же погиблая!
– Надо говорить: погибла, умерла. Николенька, это волшебная сказка, тут описывается то, чего не может быть в действительности. Но ведь интересно!
– Интересно! – согласился внук.
Николай Сергеевич точно знал, что про «не может быть» Николенька не поверил. В его детском мозгу причудливо переплетались вера в Деда Мороза и Карлсона на крыше с фактом смерти дорогих для семьи людей, о которых часто рассказывали, – о бабушке Ирины, о родителях Павла.
– «Узнала об этом ведьма и стала просить мужа – зарежь да зарежь козленка. Купцу было жалко козленка, привык к нему. А ведьма так пристает, так упрашивает. Делать нечего, купец согласился: “Ну, зарежь его…”»
– Ах! – замер Николенька. – Что же он?! Плохой! Ничего не помнит! Изольда Гавриловна!
Так звали одну из пациенток Ирочки. У нее на участке восемьдесят процентов вызовов – к старушкам. Изольде Гавриловне исполнилось девяносто три. В прошлом певица, она рассказывала увлекательные истории о Вертинском и Лещенко, но совершенно не помнила событий дня вчерашнего. Ирина каждый раз писала ей на листе большими буквами, какую таблетку когда принимать, но Изольда Гавриловна листок теряла. Номер своего домашнего телефона и поликлиники Ирина приклеила на стенку в квартире певицы. Через день раздавался звонок: Изольда Гавриловна долго, сконфуженно и деликатно извинялась и просила напомнить схему приема лекарств. Ирина терпеливо объясняла, на следующий день сама записывала себе вызов к Изольде Гавриловне, чтобы написать новый листок. «Приклей его тоже на стенку», – советовал Павел жене. Но Ирочка не внимала совету, Николай Сергеевич догадывался почему: старенькой певице общение с его дочерью было дорого как связь с настоящим.
А в семье у них появилась привычка: когда кто-нибудь что-то забывал, он хлопал себя по лбу со словами «Изольда Гавриловна!».
– Что ты этим хочешь сказать? – спросил Николай Сергеевич внука.
– Купец забыл, что козленочек – мальчик на самом деле! – взволнованно пояснил Николенька. – Вот распустяй!
Николай Сергеевич счел за лучшее не выяснять, какое слово Николенька неправильно произнес и где его услышал.